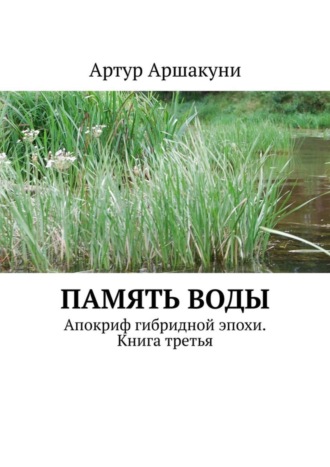
Полная версия
Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга третья
Голодный я тогда был. Это я точно помню! Я тогда всегда голодный был. Кха. Голодный-то голодный, а последнюю лепешку свою отдал. Кому? Не поверишь. Рабыне. Ее, видать, купец вез на восток перепродавать. Они, невольницы-то, на востоке в цене, особенно которые нездешние. Белокурые. Жалко ее стало. Ребенок ее новорожденный помер в ту ночь. Очень уж она по нему убивалась. Сильно когда убиваются, то без крика, не знаешь? Вот теперь знай. Молча. Это страшнее всего. И ни от кого утешения. Невольница, что хочешь? Хотя нет, помню, какая-то старуха вокруг суетилась. Потом пропала. Потом гляжу – опять старуха со свертком. Шасть к невольнице. А та лежала, как хворостина. Потом, глядим, как подскочит. И в голос. То ли плачет, то ли смеется. Сын, говорит, сын мой! Спал, долго спал, а теперь проснулся. Ну, мы только переглянулись. Промолчали. Глядя на такую радость, как не выпить? А караванщики стали потихоньку собираться в дорогу. Только вот купец тот к тому времени уже ушел? Ушел, конечно. Или не ушел? Эх, голова… Потому что светать стало. Караваны всегда засветло в путь отправляются. Двор опустел, костер догорел. Одни мы, пастухи то есть. Тут и я своих растолкал, стали собираться. Вышли. И прошли-то уж далеко за Бет-Лехем… Только, знаешь, оборотился я, – идет один из них, из старцев этих, догоняет, самый молодой, кучерявый. Я – что? Жду. А он, значит, и ко мне. Запыхался, голос дрожит. Ты, говорит, мудрее своих слов. Поклонился, и пошел обратно, своих догонять. Вот так.
Дальше помню совсем смутно. Так что знамения, о которых сейчас кричат иудеи, не чудеснее вод Рыдана. А, ты и этого не знаешь? Ходит там сейчас очередной пророк. Ты заверни к нему на обратном пути, есть на что поглядеть. Ха-мабтил, хотя не отец его так нарек, это точно. Сиди, где сидишь, и не вставай, а то упадешь. Снимает, ты слышишь, снимает грехи с души омовением в речной воде. Понимаешь? Я – нет. Концы с концами. Потому что если Бог твой непознаваем – ладно. Пусть так. И что душа человечья невидима и бесплотна, – пусть. Что же ты ее водой из реки очищаешь? Символ? Тогда и вода должна быть символической. Без лягушек и тины. И почему тогда эту твою бесплотную душу не очищать огнем, задницей в костер? Кха! Или землю есть горстями – чем не символ? Э? Ладно. Пусть вода. В ней и вправду что-то есть. Без нее худо. Зачем при этом идти к реке? У себя дома крикни жену с кувшином и вылей его себе на голову. Вот ты и чист, аки голубь!
Кха.
Лягушки и тина. Козы пьют, собаки лапу задирают. Символ!
Мы с тобой ягненка с ножом обручили у ручья, верно? Я еще тогда хмыкал. Озорник, что поделаешь! Кровь струйкой – куда? К ручью. Ручей – дальше, к иным ручьям. Как ты думаешь, хоть одна капля до Рыдана дойдет?
Тогда он не водой будет грехи с душ смывать, а кровью.
Заболтал я тебя. По глазам вижу – сыт. Прости старика. Один я.
Ну, что – время? И то верно. Солнце – до утра, и нам пора. Что же. Славно мы провели время. Да сопутствует удача тебе – почаще, чем раньше. А теперь скажи: когда начнешь? Прямо сейчас?
Молчи, я сказал.
Ну, я готов.
Собаку-то зачем? Щенят ее?Нет собачьей вины в том, что ты явился в этот мир. А ты низвел этот мир к собачьей жизни.
До чего хитроумная штука это вино. Ведь просто слегка перебродивший виноград. А что с человеком делает. Не то Бог, не то животное.
Хотя… Ты молодец, а то я бы стал думать о тебе лучше.
А! А!
* * *
Первую ночь Ииссах прошел, ни разу не остановившись, ровным, размеренным, неспешным с виду шагом, каким ходят выросшие среди гор, – и неутомимым, как летний суховей с земли Аммонитянской. В зыбком – не свете даже, а предсветье – нарождающегося дня он на ходу нашел глазами исполинскую плоть Гелвуйских гор, удовлетворенно хмыкнул и взял круче к востоку. Когда же показалось солнце и вернуло миру привычные его краски, он уже прошел земли Иссахарские и вышел к Ередану. Пока он справлял нужду, глаза привычно оглядывали местность и нашли удобную нишу среди скал. Он полез туда, цепляясь за стебли ежевики не ощущающей шипов ладонью. Потом снова оглянулся. Сорвал и кинул в рот пару истекающих соком ягод. Сплюнул. Вздохнул. Потом снова оглядел кусты, посвистел негромко. Раздалось хлопанье крыльев. Ииссах споро ухватил горлицу за крыло, одним движением оторвал ей голову и припал к пульсирующей алой струйке. Напившись, утер рот ладонью, брезгливо осмотрел недвижный комок перьев в руке и отшвырнул в сторону.
– Вот так, – сказал он.
Голос только и выдал его усталость.
Через минуту он уже спал.
Он спал весь день и проснулся под вечер, когда вокруг уже сгущались тени. Солнце славно потрудилось, напоив землю зноем, так что теперь камни неторопливо цедили тепло, равно щедрые к живому и неживому вокруг себя. Ииссах лежал недвижно, в той же позе, что и спал, – чуть согнув руку в локте и подобрав одну ногу для опорного усилия, чтобы сразу оказаться на ногах при опасности. День слабел под натиском ночи; ветви кустов постепенно густели, сливаясь в очертания странных зверей, эта игра понравилась камням и скоро стало совсем не разобрать, где куст, где камень, а где человек. Только небо на закате долго еще сопротивлялось владычеству одного цвета, являя миру гнев порфиры, истовость яхонта, беспокойство шафрана, надежду перламутра и, наконец, смирение жемчуга перед торжеством гагата.
Дарить, отнимая. Забирать, давая.
Кровь. Нет.
Вода. Память. Память воды. Нет.
Жизнь. Смерть. Нет.
Горлица.
Мириам. Нет.
Суламитт. Нет.
Старая сука. Старая сука.
Горлица.
Щенки.
Попискивающая под ногами дрянь. Ненавижу.
Обличье. Жесты. Походка. В детстве передразнивал Иошаата. Екевах. Нет.
Суламитт. Нет. Нет. Нет.
Обличье. Лик. Личина…
Имя.
Даниил. Агий. Захария. Малахия. Нет.
Иов. Нет.
Иона. Нет.
В чреве каменном. Нет.
Я знаю.
Я.
Он снял возникшее внезапно возбуждение блудом руки и полежал затем еще немного, успокаивая дыхание, умиротворенный, спокойный, уверенный в себе.Когда же ковш Хима наполнился до краев безраздельной нерасплесканной мглой, он выполз из убежища. Среди звездной россыпи безмолвно и стремительно возник мрачный провал с очертаниями человека – вот его не было, а вот он есть – и двинулся в путь. 1
Ииссах снова шел всю ночь вдоль берега. Слева мерно плескала о камень вода, справа трещали цикады. Звуки эти – мира и моря, хляби и хлеба – служили ему вехами на пути. Потом Ередан раздвинул берега, дойдя до удобного песчаного ложа, и умерил плеск. Роса же заставила умолкнуть цикад. Мгла редела. Крепкая мозолистая пятка встала на тесаный камень.
Дорога.
Жилье.
Так далеко он еще не заходил.
Восток алел. Ииссах обошел стороной город, еще дремлющий в эти предрассветные, самые сладкие для сна часы, и снова вышел к реке. Постоял и сел у воды, не ища убежища, ибо так было надо теперь.
В Назире солнце вставало из-за вершины Фавора, а здесь? Он покрутил головой. На закате высились освещенные восстающим светилом две вершины рядом, словно братья.
Гаризим и Геваль? Тогда…
Тогда – Бет-Вара, не иначе.
Не иначе…
Ииссах задремал незаметно для самого себя, пригретый утренним солнцем, и это было хорошо, ибо и зверь о четырех лапах устает, пройдя за две ночи такое расстояние. Дремал он славно, безмятежно, расслабив натруженные члены и впитывая, и вкушая сон, как усталый труженик в конце трудового дня неторопливо вкушает простую и бесхитростную, но обильную и сытную снедь. Мимо шел по своим делам работный люд – сначала редким человеком, потом почаще. Проснулся он резко, как от толчка, когда слуха его коснулось слово: «Ха-мабтил», произнесенное женским голосом. Ииссах по обыкновению какое-то время пребывал в том же положении, не подавая виду, что бодрствует.
– И-и, сестра, куда же еще. Страх Господень чист.
– Аминь.
– А твой…
– Ты…
– Ох…
– Ах, не говори…
Разговор стихал, мельчая и дробясь, словно ручей, уходя в мелкие камушки и песок своего, нутряного, женского. Ииссах открыл глаза.
Самаритянки. Линялые цветастые одежды, не могущие скрыть заплат и прорех. Огрубелые крестьянские руки. Изуродованная частыми родами плоть. Ввалившиеся щеки. Заострившиеся носы. И запах – неистребимый запах нищеты. Он пошевелился. Разговор дрогнул и враз иссяк. Женщины покосились на него и, прикрыв лица, торопливо засеменили прочь. Он сплюнул в воду.
Трудно сказать, что было ему более ненавистно в людях – беспросветная нищета или чрезмерное богатство. Он бы и сам себе не ответил. Скорее всего,
Довольно.
общим корнем – сухим, как уголья
Довольно!
что, изо всех сил стремясь уйти от одного, он никогда не достигнет второго.
Плевок в воду. Вода. Чего только в ней нет. Грязь. Грех. Она смывает грех? Ха-мабтил смывает грех. Ха-мабтил смывает грех водой. Все грехи – в воду. Все грехи? Всех людей?
Он склонился к воде, черпнул воды ковшиком ладони и зачарованно смотрел, как она тонкой прозрачной струйкой торопится обратно.
Как же она не сорвется в крик? Не вспухнет гнойной раной? Не полыхнет костром боли? Не взорвется взрывом смрадного жара?
Ха-мабтил?
Пора.
Ииссах вытер ладонь об одежду и, вставая от воды, по привычке кинул стремительный взгляд через плечо.
Так и есть.
Тоже голь перекатная. Накидка – одно название.
Ииссах досадливо тряхнул головой и пошел в ту сторону, куда пошли самаритянки.
Есть ли в этой несчастной стране люди? Просто – люди, а не богачи и нищие?
Он подумал мимоходом, продолжая лениво тянуть нить мысли о богачах и нищих, что ему как-то не по себе. Какое-то беспокойство. Или непонятность – там, где быть ее не должно. Мелочь, с мушиную меру, но не нравилась она ему все больше. Потому что в нем никогда не было непонятности или беспокойства, сколько он себя помнил, – холодная ясность лезвия ножа. И он смотал мысль о богачах и бедняках и припрятал на потом, как недоеденный сыр, и ухватился за эту мелочь обеими руками, внимательно рассматривая со всех сторон.
Горлица? Нет. Каменное чрево. Нет, нет. Самаритянки. Самаритянки? Самаритянки – все грехи в воду – Ха-мабтил – нет.
И даже не святые слова
«Страх Господень чист»?
были уста женщины, уста самаритянки и уста нищей,
Нет.
не являлись причиной.
Берег полого наклонился и изогнулся дугой, вбирая в себя кусты лещины, зеленоватые макушки камней, выступающие из темной воды, и неторопливый, почти незаметный глазу, томный ток реки, берущей здесь не удалью и не размахом, а мирной сытостью вола в стойле рачительного хозяина.
– …Огнем неугасимым!
Ну и голос. Мурашки по коже.
И люди – на противоположном берегу. Их немного – десятка два, три. Больше – было бы торжище, меньше – шайка злоумышленников. Впрочем, и единения между ними не было, ибо накидки самарян и сирийцев пестрели поодаль от белых и черных одежд иудеев. Стояли и стояли. Было и несколько пуришим, даже ради прихода сюда не снявших наперсников. И тоже – стояли и стояли. Белела одинокая накидка темнокожего египтянина. Торчал посох пастуха. Крутились мальчишки. Бегала от ноги к ноге приблудная собака, осторожно принюхиваясь. Тут же, неподалеку, строго струились складки хламид нескольких эллинов, пришедших сюда из любопытства, для всех других праздного
Они все, оторопев, слушали человека, стоявшего по колени в воде. Он говорил им и не им – небу, земле, воде? – воде, которую принимал на ладони и подносил к лицу, всматриваясь – в тысячный раз? – устало и строго, и снова возвращал реке.
Ха-мабтил.
Ииссах встал, остановленный хриплым, но зычным голосом и догадкой о мелкой непонятности в себе.
Светлые волосы.
Он облегченно вздохнул, довольный тем, что даже в такой мелочи остался верен себе и нашел причину.
но Идущий за мною сильнее меня.
Светловолосый незнакомец поравнялся с Ииссахом. Ииссах увидел краем глаза воздушное мелькание складок видавшей виды накидки; невольное
Я первый,
а не ты, пришлый.
Так они шли, друг за другом,
И тогда ликование захлестнуло его – перед новым, неизведанным еще им действом,
одинаково погрузившись в воду сначала по колени,
потом по чресла,
и завис, трепеща, над ними обоими.
Толпа подалась и ахнула.
Ха-мабтил смотрел, не сводя глаз, смотрел на это красивое, точеное лицо с мягкой, слегка заостренной бородкой, со смутно узнаваемой линией рта, капризной линией рта, напоминающей о том времени, когда Ха-мабтил не был Ха-мабтилом, а был просто Иоханнаном, о мальчишеских драках и мертвых голубях,
Или горлицах?
Нет, голубях.
Или горлицах?
И они согласно склонили выи перед ним, и ладони рук его одновременно вылили на их темена воду из реки, и, пока он пребывал в смятении, уста складно огласили привычные слова. И затем они оба вышли из воды – встречь толпе, а Иоханнан, Иоханнан-Ха-мабтил, остался, задумчиво рассматривая свои ладони, с которых продолжала каплями стекать вода крещения.
Итак, они вышли, оглядываемые десятками глаз в упор, встык, на излом, и доброхот из эллинов уже объяснял новообращенным, что теперь им обязательно – так полагается – надо пройти пост,
– Пост? – сказал Ииссах и облизал соленые губы. – Какой пост?
пост, четыре десятка восходов и закатов воздержания плоти и испытания ее искушающим постом,
– Да будет так, – сказал незнакомец и прошел сквозь толпу прочь от реки, туда, где за прибрежными камнями бурела выжженная солнцем земля и высились колючие травы, обозначая начало пустыни и конец могуществу человека.
– Пост? – снова спросил Ииссах.
– Мы все объясним, – говорили ему.
– Расскажем.
– Оставайся с нами.
– Красавчик! – кричали ему.
Ииссах глянул поверх голов. Чужак уже скрылся – будто и не было его вовсе.
– Чудо, чудо!
– Пост, – повторил Ииссах.
Ноздри его затрепетали, глаза сузились.
Как он сказал?
– Да будет так, – сказал Ииссах и пошел туда же – в пустыню.
– Чудо, чудо! – восклицали вслед.
– Вы видели? Все видели?
– Дух Божий.
– Знак.
– Знамение! Знамение!
– Истинно, – подтвердил статный эллин, в подтверждение своих слов кивая крупной долгогривой головой, – истинно, то было небесное знамение, и я видел его собственными глазами.
– Слушайте, слушайте!
– Но я видел знамение над двумя, – продолжал эллин, – а мы все ждем прихода Одного.
– Вот он и был Им!
– Кто?
– Как кто? Ты разве не видел? Статный, смуглый, красивый…
– Слушай, Израиль! Да, да!
– Нет, светлый. 3
– Что? Урод!
– Сам ты урод! Рыжий.
– Слушайте, просто светлый!
– Темный.
– Светлый.
– Темный.
– Сам ты темный! Просто смуглый.
– Ужас! Ужас! Такое говорить.
– Светлый.
– Он был не менее красив, чем твой смуглый.
– Светлый.
– Послушайте, что он говорит! Урод, лопни мои глаза.
– Святый.
– Они могут лопнуть, твои глаза, потому что ни на что не годны. А я своими глазами видел и сейчас могу подтвердить, что он был такой же красивый, как тот, смуглый.
– Равви! – позвал чей-то голос.
И толпа обернулась в сторону забытого Ха-мабтила.
– Скажи нам, кто был Тот, Кто пришел?
Ха-мабтил стоял, враз постаревший на добрый десяток лет, стоял молча, раскачиваясь, словно от мучающей его боли.
– И он ли тот, кого мы ждали?
Стоял и стоял.
И пошел прочь, привычно расталкивая воду коленями.
* * *
Когда затихли – нет, не звуки, потому что пришедшая и ушедшая смерть не сопровождалась звуками, – тонкие колебания воздуха и перестало сводить от страха мышцы, из россыпи ребристых камней выбрался крупный головастый щенок на разъезжающихся мягких лапах, с квадратной мордочкой и тонким крысиным хвостом, молча взобрался на плоский камень и огляделся. Слезящиеся от пережитого ужаса глаза его сразу выхватили из привычной картины мира непорядок в виде разбредающихся кто куда овец. Еще хуже была недвижная старая сука с неестественной повернутой головой и оскаленными перед смертью зубами. Вокруг нее чернели комочки раздавленной плоти – все, что осталось от его братьев и сестер. Щенок повторно задохнулся от ужаса, но не издал ни звука, еще и потому, что горло его все еще было сведено судорогой страха. Хуже всего во всем этом был человек, сидящий на камне спиной к щенку. Человек, к ногам которого прижималась старая сука, когда была жива. Человек, в руках которого замолкали бьющиеся в припадке овцы. Человек, бывший верховным судией для малых тварей на этой земле.
Бог.
А сейчас бог сидел спиной к щенку, раскачиваясь из стороны в сторону и как будто протяжно что-то напевая. Слезящимся глазам щенка даже показалось, что бог раздваивается, и один из двух богов что-то выговаривает другому, а тот виновато отвечает. Но, наверное, это была такая заунывная песня бога. В богах многое непонятно, иначе какие же это боги?
Щенок вздохнул и начал свой долгий путь через камни к богу.
Одной рукой бог водил непонятно перед собой, как будто снимал что-то с лица, потом опускал руку и стряхивал с пальцев казавшиеся черными в быстро угасающем дне капли. Это было очень страшно, но щенок старался не думать об этом и не смотреть на эти капли. Все его крохотное существо было пронизано одним стремлением – жить. А жить можно было, только оказавшись рядом с богом. Поэтому он лез и лез вперед, спотыкаясь на подгибающихся лапах и падая с камней, но по-прежнему не издавая ни звука, пока не подобрался к богу с противоположной от страшных капель стороны и ткнулся богу в ступню.
Заунывные звуки прекратились. А потом правая рука бога потянулась к щенку, пальцы ощупали его, и мозолистая и тяжелая ладонь накрыла его с головой.
– Лобастый! – сказал бог. – Выжил, маленький!
И тогда напряжение отпустило щенка; он весь задрожал и заскулил, норовя забраться повыше на ступню бога.
– Поплачь, поплачь, – сказал бог. – Это хорошо.
Потом он пошарил вокруг себя, отшвырнул пустой кувшин, сказав себе при этом что-то не очень ласковое, нащупал кувшин поменьше, замотанный тряпицей, поставил рядом с собой между колен, опустил в него руку и поднес сложенную горстью ладонь к мордочке щенка. Почувствовав запах молока, щенок ткнулся носом и жадно залакал.
– Ты будешь первый пес, взращенный овечьей матерью, – сказал бог, протягивая ему следующую горсть из кувшина.
Щенок не слушал. Он насыщался. Бог был рядом. Значит, он будет жить.
Бог попеременно погружал одну руку в кувшин, а другой продолжал утирать кровь с лица и стряхивать в сторону от себя. Потом, когда щенок привалился к его ступне и заснул, округлившийся от сытости, ему показалось, что ток крови уменьшился. Тогда он встал, уверенно, как будто зряче, нашел ручей, омыл свое лицо и соорудил из тряпицы подобие повязки на глаза. Стемнело, но это не было помехой простым, заученным за годы и годы движениям.
Он нашел свой нож – там же, где разделывал ягненка, и палку – знак пастушеской власти. Потом постоял немного и почему-то рассмеялся.
– Лобастый! – тихо позвал он.
Шагнул на недовольное кряхтенье, подобрал щенка и сунул за пазуху.
И пошел, подняв невидящее лицо к небу, размеренными шагами, постукивая палкой по камням, неся щенка за пазухой и кувшин с овечьим молоком в руке, на запад.
К людям.
* * *
Мраморные полы и ионические колонны самим Юпитером предназначены для того, чтобы навевать прохладу в жаркий день. Если подойти к окну…
К окну? Фи. Не хочется.
И все же, если подойти к окну,
– Я слушаю.
– Постой. Вернись на две строфы назад. Как там? Гиады-Плеяды?
– Дальше.
Славный голосок.
– Дальше назад, а не вперед. Ты невнимательна.
А ты придирчив и капризен. Откуда она могла знать, назад тебе угодно или вперед?
Она женщина и она рабыня. Она юна. Я, хотя и не молод, впрочем, оставим это. Во всяком случае, по собственным признаниям рабов, я слыву справедливым и «добрым» – так у них это называется – господином,
А что скажет на это твой друг Флакк?
Старина Флакк? Или сенатор Гай Публий Флакк? Или старый сластолюбец Флакк?
– Вот. Ага! Именно.
Темноволосая девушка-рабыня в простой тунике, с цветком жасмина в волосах, вздрогнула и замолчала.
– Уж эти мне эллины!
Неудивительно, что их бьют все, кому не лень. Попробовал бы римский солдат прошагать весь день с таким щитом за плечами. Интересно, был бы он способен после этого махать мечом? Золото, серебро… Пустить всю казну государства на щиты армии. Забавно. Армия – со щитом, империя – на щите. Запомнить.
Он поднялся на ноги, прошел, волоча за собой сползающую тогу, тучный, потный, одышливый, по залу мимо бесстрастных мраморных бюстов, остановился возле последнего.
Щит, удобный, легкий щит из прочной воловьей шкуры! Тяжелый меч и легкий щит сделали римлянина завоевателем!
Он надул щеки.
Еще забавней было бы обратиться к каприйскому затворнику с официальным предложением перевооружить римскую армию – со ссылками на Гомера. Плешивец без памяти от слепца – это по его милости каждый сановник в империи обязан любить эллинскую поэзию, – он бы оценил… 5 6
Бюст холодно молчал.
Он вздохнул.
Нет, не выйдет. Не выйдет шутки.
Макрод.
Он поскучнел, вернулся назад, негромко бросив через плечо:
– Дальше.
– С какого места, мой господин? – пролепетала рабыня.
Он поднял брови:
– С того, с какого я вернул тебя
– Нет. Не юноши. Торжище.
Это возраст.
Спор шумный. Жены почтенные. Светильники яркие. Копье длиннотенное. Не в этом ли тайна? Герой багряноликий.
Старина Флакк в этом месте сказал бы: краснорожий. И долго хихикал бы, потирая руки, довольный.
Два таланта чистого злата. Неплохо они жили, эти бранчливые герои… Посмотреть на нынешних эллинов: жадны, трусливы, ленивы. Потомки Геракла.
Вошел неспешный, но неплохо соображающий Приск, управляющий делами, бритый, по египетской моде, наголо, со своей привычкой смотреть вприщур, неся кипу полученных за день сообщений, за ним – безликий и безымянный писец. Быстро, споро заняли свои места, по раз и навсегда установленному распорядку.
– Донесение от эдила, – ровным, скучным голосом начал Приск. – Драка солдат Иоппийского гарнизона с местными жителями. Виновные не установлены. Каждая сторона защищает своих.
– Значит, каждая сторона должна понести наказание. Местных бичевать, как обычно. Солдат лишить месячного жалованья.
Старина Флакк не смог бы придраться.
– От городского головы Тира прошение на партию мрамора.
– Опять?
– На постройку арки в честь Юпитера Громовержца,
– Пройдоха.
– Полгода назад он тоже просил и тоже мрамор – на постройку терм. Что он, ест этот мрамор?
И где эти термы?
Не горячись. Тир. Ворота в Сирию. Он там презанятно мыслит, этот человечек.
– Кто он?
– Апулиец.
Хм. Дальше Винчи своих нет. Он, конечно, пройдоха, но пройдоха нужный. 9
– Дать. Но скупо. Скупо, но любезно. Недостающее пусть возьмет от терм. Шутка. Ну, ты смотри. Распиши, сам знаешь как. Покудрявей.
Свежий ветер повеял от входа, но быстро присмирел и только колыхнул прозрачные виссоновые завесы.
Худа, даже костлява. Но в этом что-то есть. Слепец бы тут разошелся. Хотя и я чувствую. Если бы не эти стопы, ударные и безударные. Вот, я вижу, что колышутся складки занавеса за мраморной колонной, и это… Как если бы. Девушка. Как бы. Пух Эола. В очах. К очам. К Манам. Но красиво.
Зря моя драгоценная сменила занавесы. Раньше было лучше. Солидно, спокойно. Занавес! Ладно. Мода. Пух Эола. Занавеска.
– От Санхедрина жалоба на бывшего служку из ессеев, возмущающего народ лживыми пророчествами о пришедшем Мессии.
– Ессеи.
– Да, мой господин, – подтвердил Приск и добавил: – Они откололись от хасидов.
– Хасиды.
– Да, мой господин, последователи законников и апокалиптиков.
О боги. И вся эта премудрость из-за ослиной головы.
– Мессия?
– Да, мой господин. Говорят, что Он уже пришел.
– А почему мы должны ловить этого… отколовшегося хассея?
– Он пошел против веры, следовательно, он преступник, следовательно, им должна заниматься мирская власть.
Ветер-задира. Ветер задирает тунику.
А ножки-то отнюдь не худые.








