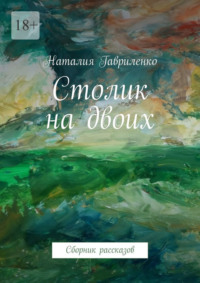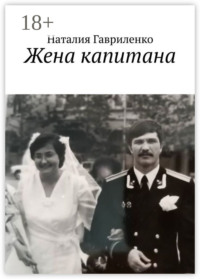Полная версия
Дочь капитана
Немцы в июне сорок первого года по территории Белорусии продвигались очень быстро. Жители деревни слышали отчетливую канонаду, грохот разрывающихся неподалеку снарядов. Многие жители деревни, схватив самое необходимое, побросали дома, хозяйство и побежали в лес, спасаться от надвигающегося фронта и вражеских войск.
Предусмотрительные хозяева ночью зарывали в землю в укромных местах своего участка особенно ценные вещи: верхнюю сезонную одежду, обувь, швейные машины, инструмент, охотничьи ружья, кухонную утварь Надеялись, что неприятель не обнаружит их схроны.
Но они жестоко просчитались: первое, что делали во дворах немцы, это тонкими щупами исследовали всю территорию усадьбы, не гнушаясь ни хлевами, ни навозными кучами, демонстративно насыпанными крестьянами над зарытым добром. Быстро все находили и долго трясли перед понурыми лицами хозяев добытым из схронов добром, грозя им расстрелом. Но до этого, как правило, не доходило: «доблестные» вояки-чужеземцы быстро растаскивали все ценные вещи, считая их трофеями и переправляли своим фрау в фатерлянд…
Отец в это самое время пас колхозных коней на лугу. Разрывы слышал, но от коней ведь никуда не убежишь. Тем более, что они были колхозными. И вдруг из леса стали выбегать наши красноармейцы с оружием, но какие-то очень перепуганные. Ни слова не говоря, каждый из них запрыгивал на коня, пришпоривал и скакал кто куда. На все запреты отца, не желавшего отдавать коней, они утверждали, что немцы совсем рядом, за лесом и через час будут здесь. Советовали ему самому «уносить ноги».
Произнеся эти слова, каждый из вновь появлявшихся красноармейцев норовил вскочить на самого красивого и статного коня. Но этот шаг для них заканчивался одинаково плачевно: жеребец вставал на дыбы и они скатывались с него, как горох.
Когда же все кони были разобраны, из леса выбежал последний боец. Отец ему сразу сказал, что скакать на Буйном, так звали коня, бесполезно. Однако тот нисколько не смутившись, лихо запрыгнул прямо с земли на довольно рослого коня, и, дав ему шпорами под бока так, что Буйный взревел от боли, ускакал со скоростью звука в неизвестном для отца направлении.
Оставшись один, отец почувствовал себя свободным от обязанностей пастуха и вернулся в деревню. Дома никого не оказалась. Увидев пробегавших по деревне жителей, отец подумал, что его родные тоже убежали в лес, и, недолго думая, помчался вместе со всеми.
Каково же было его удивление, когда в темном вечернем лесу он никого из родных не нашел. Ходил между групп толпившихся у костров людей и с горечью понимал, что он остался один… Кто-то из соседей подсказал подростку, что видел его родителей и сестру в другом лесу, неподалеку. Отец пошел один на их поиски. Когда он их увидел, все бросились друг другу в объятия, плакали от пережитого страха и неизвестности. Оказалось, что они разминулись буквально на пять минут и очень расстроились, не найдя его дома.
Просидев в лесу три дня, жители деревни решили вернуться к себе в дома. К тому времени канонада стихла, спать было негде, еда закончилась, всех нещадно кусали комары. Делать было нечего, надо было возвращаться.
Решили выходить семьями, впереди послав старух с иконами Божьей матери, голосом читающих молитвы, чтобы немцы не приняли их за вооруженных людей.
Немец и сковорода. Каратели
К этому времени в деревне расположились регулярные немецкие части. Везде стояла техника, расхаживали солдаты в серо-зеленой форме: сновали по дворам, ловили кур и свиней, распоряжались на чужом языке, как хозяева. Отовсюду тащили понравившееся добро. Видимо такое поведение у них выработалось за годы прогулочной войны в Европе. По их разумению, это уже были их владения и земля и все принадлежало им.
Когда дедушка и бабушка вошли в свой двор, их остановил часовой резкими командами:
– Хальт! Цурюк!
Все от неожиданности и непривычного гортанного голоса остановились… Бабушка, как всегда, спасла ситуацию: плакала и говорила, что они жители, испугались, ушли, а теперь вернулись. Тут на крыльцо вышел офицер, все понял, разрешил взять из избы некоторые вещи и пальцем показал, где им теперь необходимо было «жить» – это был сарай, соединенный с хлевом.
Моему папе тоже довелось зайти в свой, некогда родной дом. Картина, что представилась его взору, была шокирующая: за столом в горнице сидело и раскачивалось в пении какой-то немецкой песни человек пятнадцать уже хорошо подвыпивших немцев. Они громко орали на незнакомом языке песни и были абсолютно счастливы. На столе стояли бутылки со спиртным, много всякой еды. По стенкам на вбитых гвоздях висели немецкие автоматы и винтовки.
В избе было жарко натоплено. Русская печь раскалилась до красна. Дедушка попытался было объяснить, чтобы так сильно не топили, что, мол, и до пожара недалеко… Но его никто не слушал, все были заняты своим пением, выпивкой и едой. Вернувшейся семье ничего из еды не предложили. Так они стали жить в сарае, питаясь тем, что осталось после грабежей подвала, кладовой, что выросло на огороде и не было увезено немецкими войсками.
На следующий день немцы собрали всех мужчин деревни и куда-то повели. Женщины всполошились, заплакали: думали, что их ведут на расстрел. Но оказалось, что нет, Бог миловал. Их повели копать общую могилу для русских красноармейцев, погибших в боях недалеко от Кобзевичей. Своих погибших, немцы хоронили сами: с немецкой педантичностью отмечали места захоронений на специальной карте.
Бабушку и других женщин сразу заставили стирать немецкое белье. Выдали мыло и следили, чтобы оно все время было на виду. Чтобы «не украли». Через несколько дней немецкие части снялись и ушли. Какие у них были задачи и почему они простояли в деревне столько дней, вместо того, чтобы двигаться вперед, никто понять не смог… Все жители жили с оглядкой и опаской. Старались как можно реже попадаться новым «хозяевам» жизни на глаза…
Еще один эпизод связан с немецкими войсками. Как-то весь день через деревню шли их регулярные части. Все жители затаились, никто никуда не выходил.
И вот в избу дедушки зашел огромный немец во всей амуниции и показал пальцем на сковороду. Жестами дал понять, что он ее забирает. Бабушка сразу оценила катастрофичность ситуации, что без сковороды они будут обречены на голод. Как всегда, упала перед немцем на колени и стала просить не забирать сковороду. Тогда незваный гость, показал пальцем на отца и жестами дал понять, чтобы он шел за ним. Бабушка растерялась, но делать нечего, надо было подчиняться. Отец собрался и пошел за немцем. Проследовали в соседний лес, где недавно он встретился со своими близкими.
Теперь лес наводнили немецкие войска. Везде стояла техника, сновали солдаты, в пирамидах стояли винтовки. На кострах немцы готовили еду. На бабушкиной сковороде они что-то жарили, парили, потом ели, смеялись. Все это время папа стоял неподалеку около дерева и терпеливо ожидал окончания трапезы.
Когда она была закончена, к отцу подошел все тот же здоровенный немец и отдал еще теплую, чисто вытертую сковороду. В придачу кусок сала средних размеров и буханку хлеба. Проводил к выходу из леса и отпустил. Отец шел быстро, не оглядываясь. Только теперь, им овладело желание схватить из пирамиды винтовку и стрелять по этим немцам пока патроны не кончатся. Он еще не знал, бедный мой папа, что такое их карательные операции…
И все-таки ничто не спасло дедову деревню. В очередную карательную операцию против партизан, немцы подожгли соседнюю и их деревни. Всех, кто не успел убежать в лес, сожгли в деревенском хлеву, согнав туда и стар, и млад.
Жгли каратели деревни тоже со знанием дела: узнавали направление ветра и поджигали дома. Огонь с легкостью переносился на соломенные крыши от одной избы на другую. Из тридцати домов уцелели только четыре, в том числе и изба дедушки. Снова их Господь спас.
В эти четыре избы и набились все уцелевшие деревенские жители. Спали вповалку: на полу, в сараях, на сеновале. Позже люди стали рыть себе землянки и уже там дожидались конца войны. Когда война закончилась, сами отстроили свои Кобзевичи заново, благо лес был рядом.
У дедушки и бабушки кроме моего отца была еще дочь – моя тетя Саша. Она старше отца на четыре года. Ей эта изба в деревне отошла по наследству, так как тетя Саша «досматривала» в старости своих родителей. Мне кажется, это справедливое решение. В настоящее время изба продана чужим людям, трем братьям из Минска, которые вдохнули в нее новую жизнь. Да здравствуют Кобзевичи!
Бабушка Ева. Божий дар
«Надо верить тому, кого любишь.» Александр Грин
Несколько строк хочу посвятить моей милой бабушке. Хотя это не верно: о моей бабушке Еве можно написать целую книгу. Из моих родных я ее любила больше.
У бабушки овальное лицо, очень умные и глубокие голубые глаза. Смотрела она всегда на всех необычайно ласково, с прищуром. Волосы покрывала неизменным платком, носила длинную юбку, кофту. На ногах надеты были шерстяные чулки с галошами.
Учила меня всяким деревенским премудростям. Вместе мы пытались доить корову, которая хлестала меня по лицу не совсем чистым хвостом. Бабушка выдала мне небольшую кружку, в которую я «надоила» молока всего лишь на один сантиментр. Дойка мне показалось очень трудной работой.
Любила всех потчевать своей фирменной яичницей – пышным омлетом из печи. Любила смотреть на меня, подложив ладонь под щеку, как я ем. Иногда смахивала краешком платка откуда-то набежавшую слезу и приговаривала:
– Как ты похожа на своего батьку…
Несмотря на то, что она была по происхождению простой крестьянкой, впоследствии труженицей в колхозе, в ней всегда была какая-то природная интеллигентность, мягкость, ум и мудрость. Она была добрая и ласковая. Все движения ее были плавные, мягкие, без показной суеты…
Никакой тяжелый крестьянский труд не смог озлобить ее сердце, всегда настежь открытое людям. К тому же она была знахаркой – лечила людей молитвами и травами от различных психических расстройств, от сглаза, испуга, снимала порчу. А самое главное – всегда верила в Бога, молилась ему каждое утро и каждый вечер.
Однажды, проснувшись рано утром, я увидела бабушку в предрассветной тьме, молящейся на коленях. В те времена все разговоры о Боге пресекались, взрослые были сплошь «атеисты» и что-нибудь вразумительное о религии узнать было негде. Везде можно было увидеть лозунг: «Религия – опиум для народа». Я просто наблюдала жизнь вокруг себя и время от времени в моей голове рождались различные вопросы.
Вот и то утро у меня возник самый главный вопрос, который мне, восьмилетней девочке, давно не давал покоя. Я спросила бабушку:
– Бог есть? – бабушка, закончив молиться, посмотрела на меня каким-то особенно долгим взглядом, как бы оценивая мою «взрослость», и ответила:
– Есть, внученька. Бог есть.
Прозвучало это тихо. Даже очень тихо, но я сразу уверовала в эти слова. Сразу и навсегда.
Став взрослой и дожив до тридцати лет, я вдруг сама пошла в церковь и покрестилась. Без просьб и напоминаний. Окрестила и своих дочерей. Все это произошло в 1988 году в городе Грозный в единственном православном храме.
Бабушка, как и все крестьяне, долгие годы проработала в колхозе. Ее пенсия в шестидесятые годы составляла двенадцать рублей. Смешная сумма. Но и ее бабушка бережно копила, складывала в платочек. Когда мы уезжали, она вытащила из своего сундука целых сто рублей и все красные червонцы отдала мне. Подарила.
Родители деньги сразу у меня изъяли, сказав, что я их «потеряю» и что мне их будут выдавать «частями»: на мелкие нужды и мороженое. Я некоторое время напоминала родителям об их обязательствах, но после того, как мама в очередной раз моего «напоминания» грозно меня осадила, перестала это делать…
По утрам, когда я просыпалась, бабушка уже готовила нам свой знаменитый омлет на большой сковородке. В избе пахло каким-то странным запахом.
– Бабушка, а чем у нас каждое утро пахнет?
Ответом на мой вопрос был огромный чугунок, доверху наполненный вареной картошкой, который она ухватом вынимала из недр печи. Содержимое вываливала в деревянное корыто, выдолбленное из цельного куска дерева, и толкла ее толкушкой.
– Это еда для свиней, кур, гусей.
– И так каждое утро?
– Да, внученька. Ты же каждый день кушать хочешь? И они тоже. Сейчас добавлю еще травки, крапивы и дам им.
Трава и крапива считались витаминами для домашней живности. Бабушка брала небольшую секиру и измельчала все в мелкую крошку. Затем добавляла комбикорм, поливала рыбьим жиром из большой бутыли, перемешивала и уносила животным. Куры и свиньи налетали на деликатес и вскоре корыто блестело первозданной полированной поверхностью.
Вечером с пастбища приходила бабушкина корова и она ее доила. Через белоснежную марлю переливала парное молоко по крынкам, часть оставляла на скисание для творога и сыра. Обед тоже готовила бабушка, которой во всем помогала мама. Мы с братом чистили овощи, пропалывали грядки на огороде, собирали ягоды красной и черной смородины, крыжовник. День пролетал быстро. Вечером за чаем или смотрели телевизор, или принимали родственников.
Вспоминая мою добрую любимую бабушку, я всегда молюсь за нее и за всех наших усопших. Поскольку больные люди шли к бабушке со всех концов Белоруссии, то времени на домашнюю крестьянскую работу, которую нужно было делать каждый день, у нее не было.
Дедушке приходилось брать ее обязанности на себя. Этим своим служением людям она вызывала явное неодобрение у деда. Бабушка после сеансов помощи была попросту опустошена духовно и физически. Ей требовалось время, чтобы восстановить свои силы. К тому же она была сердечница и не могла выполнять тяжелую физическую работу. Но такие вещи в деревне не прощают.
Дед стал погуливать, чем доставлял бабушке немало страданий, переживаний и горя. Несмотря на такое поведение деда и свои переживания, бабушка не бросала целительство и до конца своей жизни служила людям. Денег за лечение она не брала, но натуральные продукты принимала, так как питаться нужно было, да и дед меньше ворчал. Все бралось в меру, только на прокорм. Обогащаться за счет болезных считалось и считается грехом.
Вместе дедушка и бабушка прожили пятьдесят лет. Умерла она в июне 1975 года. Хотела передать свое умение лечить людей, свой дар. Но, видимо, это и есть Божий дар, и дается он только самым лучшим, светлым и чистым людям. Царствие тебе небесное, моя дорогая бабушка Ева.
Дедушка пережил бабушку на тринадцать лет, успев еще раз жениться на вдове. Как оказалось, это была «черная вдова», так как все ее предыдущие мужья умерли. Четвертым стал мой дед. Умер он в 1988 году в возрасте 88 лет. Царствие и тебе небесное, дедушка.
Судьба папиной сестры Саши тоже оставляет желать лучшего. Женская ее доля оказалась тяжелой. Рано потеряла мужа, осталась с четырьмя детьми на руках. Самый красивый из всех детей, Николай, утонул сразу после свадьбы, оставив беременную жену. Судьбы других детей – Анатолия, Валентины и Марии были тесно связаны с жизнью деревни и матери. Тетя Саша умерла в ноябре 2005 года, на три года пережив своего брата. Царствие Вам небесное, тетя Саша.

Родители отца.
отрочество отца
«Отец- это тот, кто ловит тебя, когда ты падаешь. Он помогает тебе не удариться, а подняться, отряхнуться и сделать еще одну попытку.» Из интернета
Вот и подошло время рассказать о моем отце более подробно. Папа рос в деревне. Был трудолюбив, покладист, умел делать всю крестьянскую работу: пас коров, косил сено, скирдовал его, пахал землю, сеял хлеб. Во всем помогал родителям.
Внешне он больше был похож на маму, мою бабушку Еву: стройный, высокий, с врожденной интеллигентностью. Мама, вспоминая нашего папу, всегда подчеркивала, что он выгодно отличался от своих сверстников вдумчивостью, никогда не ругался матом, хотя вырос в деревне, где это было нормой.
Был умен, хорошо учился в школе. Первый из сверстников собрал детекторный приемник. Хорошо играл на гармони, был центром притяжения сельской молодежи. В него влюблены были все девушки их деревни, старше и младше его по возрасту. Во время войны бабушка спасла своих детей от угона в Германию, пряча их в лесу. Поэтому мои папа и тетя уцелели.
Война, наконец, закончилась. Понятно, что в годы оккупации, не о какой школе речи быть не могло. Отец пропустил четыре года. Должен был идти в 7 класс. Но когда он увидел детей намного младше себя, сидевших с ним за одной партой, то почувствовал себя «второгодником».
Самостоятельно освоил программу 7 и 8 класса, сдал за них экзамены и пошел сразу в 9 класс. Это было не близко, а за семнадцать километров в районном центре под названием Червень. Всю эту дорогу отец преодолевал пешком, позже – на велосипеде. Когда начались осенние дожди, дедушка снял папе квартиру у дальних родственников. Он жил и учился там один. Никто из его сверстников такого поступка не предпринял. Многие просто побросали школу, оставшись недоучками.
В 1947 году отца призвали в армию. И здесь он показал себя только с лучшей стороны: с детства был дисциплинирован, трудолюбив, усидчив. Поэтому служба в армии хоть и была трудна, но не доставляла отцу особых хлопот. Он легко ладил с людьми, был по натуре оптимистом, весельчаком, участвовал в художественной самодеятельности.
Эти его качества заметило командование и предложило окончить школу младших командиров и остаться служить офицером. Что он и сделал. Затем экстерном окончил военное училище и стал уже полноправным офицером.
В 1953 году отец и мама поженились. Маме 18 лет, отцу 24 года. Свадьба состоялась 8 июля 1953 года – в день святых Петра и Февронии Муромских все в тех же Кобзевичах. Совпадение? Родители поженились по любви и пронесли ее через все тяготы военной жизни: скитания, последствия чеченской войны, в последние годы – на их родине.
В 1954 году у них родился первенец-мой брат Сергей. В 1958 году родилась я.


Город Владимир. Бухта Ольга
«Потребность необычайного – может быть, самая сильная после сна, голода и любви.»
Александр Грин
Город Владимир. Мытарства родителей
«Наконец временные трудности закончились. Наступили трудные времена.» Владимир Туровский
Служба отца шла своим чередом. Но в годы нахождения у власти Хрущева Никиты Сергеевича, в армии и на флоте произошли большие сокращения, как в военной технике, так и среди личного состава.
Мой отец, как молодой перспективный офицер, был послан в 1959 году в город Владимир на переподготовку. В этом святом городе и случилось то, чего никто не ожидал в нашей семье: на частную квартиру военного отца с двумя маленькими детьми никто брать не хотел. Не хотели и точка.
Одна женщина согласилась сдать комнату в частном доме, но только с одним, старшим ребенком.
– Хорошо. Сдам вам комнату. Но… с одним ребенком. Все вы там все равно не поместитесь.
Действительно, в комнате, где стояла одна кровать, шкаф и комод, негде было спать маленькому ребенку. Делать было нечего. Родители посовещались и решили отвезти меня, полуторагодовалую девочку, во всю ту же многострадальную деревню Кобзевичи к моим дедушке и бабушке.
Там я пробыла полгода. Мама, отвозившая меня, все время плакала: и оставляя на престарелых родителей мужа, и по возвращении, в самом Владимире. Все время плакала по мне… Особенно по ночам. Ведь в то время в деревне не было телефонов, нельзя было позвонить и узнать о своем ребенке хоть что-то, услышать его голос, удостовериться, что он жив и здоров. От стариков были только письма, которые те не так уж часто писали.
Этим всегда занимался дедушка: на неизменном листе из общей тетради пожелтевшем от времени, оставшимся еще от отца, ходившего в школу, жирно исписанное толстым химическим карандашом. Письмо, как правило, умещалось на одной странице. В нем родителей заверяли, что живется мне хорошо, сытно и весело. Мама на короткое время успокаивалась, а через несколько дней плач начинался сызнова.
Сереже уже исполнилось пять лет. Садиков для детей военных не было, и брата запирали на день или полдня в маленькой комнатушке. Днем он сидел на комоде. Увлеченно рисовал войну, танки, самолеты. Сидел тихо, как мышь, потому что мама ему объяснила, что сестру, то есть меня, отвезли к бабушке и дедушке. Хозяйка не любит, когда маленькие дети плачут и кричат. У нее от этого болит голова. А если он, Сережа, будет шуметь, то их всех выгонят на улицу, и им некуда будет идти.
Брат тонко чувствовал настроение в семье и, конечно, не мог допустить, чтобы родителей хозяйка выгнала на улицу. Он молчал за закрытой дверью весь день до самого прихода родителей с работы и службы. Мама устроилась работать медсестрой.
Хозяйка тем временем наблюдала полнейшую тишину в сдаваемой ею комнате.
– Сереженька, выйди побегай. Тебе же там скучно. А здесь свежий воздух, я плюшек напекла, – выманивала хозяйка моего брата-молчуна.
Он с раннего детства соответствовал своей фамилии. Видимо, зловещая тишина днем, долгий и безутешный плачь матери ночью, подействовала на совесть хозяйки, и она взмолилась перед родителями, чтобы Сережу не запирали в комнате и привезли из «ссылки» меня. А дальше – больше: хозяйка уступила родителям самую большую комнату в доме, где уже могла разместиться и моя кроватка. Мама и папа тут же съездили за мной и забрали от бабушки и дедушки. Семья благополучно воссоединилась на радость всем!

Как отца сосватали в бухту «Ольга»
«На скользком человеке легко поскользнуться и в любую погоду» Eugene Ryabyi (из интернета)
После успешного окончания классов, отец был направлен на новое место службы на Дальний Восток.
Еще в Москве, откуда молодой офицер получил назначение, ему сказали, что он поедет служить на Чукотку. Там год шел за два, но окончательно его распределят во Владивостоке. А во Владивостоке ему, неискушенному в северных делах провинциалу, штабисты «загрузили мозги» и предложили бухту Ольга вместо Чукотки. Уговоры были примерно следующими:
– Послушайте, зачем вам Чукотка, такая даль, когда рядом есть красивейшее место. Будете довольны.
Отец согласился. А когда приехал, понял, что место действительно красивое, но нет здесь ни школы для Сергея, ни садика для меня, ни магазинов… Ничего, кроме леса, моря и единственного дома для семей военнослужащих. На военном языке такое место считалось «дырой» и замениться, то есть перевестись на другое место службы из нее, было практически невозможно.
Сослуживцы отца знали обо всех «прелестях» этого «райского уголка» и никто туда не ехал. А главное, служба шла год за год, как и на «большой» земле. Стоило ехать в такую глушь, чтобы служить год за год, да еще мучить свою семью. Единственным шансом вырваться из этого «медвежьего» угла был отъезд в еще более «далекий» угол Дальнего Востока. Так позже, после года службы, выбор отца пал на остров Курильской гряды.
Приморский край встретил нас свежим морским ветром, пышной растительностью окрестных лесов и одиноко стоящим трехэтажным домом для семей военнослужащих, где нам выдели трехкомнатную квартиру. Квартира была просторная, большая, на третьем этаже, сплошь уставленная казенной мебелью. Одну, самую дальнюю комнату родители заперли, так как мебели хватило только на то, чтобы обставить две. Дальняя считалась «холодной»: там складывали все второстепенное, что не пригождалось в повседневной жизни – ящики от переездов, чемоданы, коробки и прочее.
Отца назначили командиром роты. «Прослужили» мы с ним в бухте Ольга год или два. Когда меня некуда было деть, ведь Сережа пошел в школу, а мама, как всегда, на работу в медсанчасть, меня опекали папины бойцы. Я всегда ходила с полным ртом конфет, в карманах платья лежали шоколад и другие сладости.
Помню даже премьеру фильма «Гусарская баллада», когда я восседала в первом ряду среди солдат и вместе с ними громко смеялась, реагируя на происходящее на экране. Позднее, папа сдавал меня на руки Сереже, вернувшемуся из школы, и мы отбывали коротким путем домой, то есть через колючую проволоку и заросли буйной растительности.
Так, протаскивая меня в очередной раз под колючей проволокой, Сережа не заметил, что я зацепилась виском за ее острие. Он продолжал меня тащить, а я начала орать от боли. Из раны пошла кровь. Он оставил меня, ревевшую на все лады, а сам побежал за отцом, благо это было недалеко, и только после этого меня высвободили из «плена» острых колючек, отвезли в медпункт к маме на перевязку. От этого путешествия на виске у меня остался шрам.