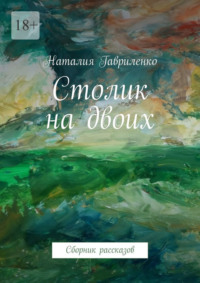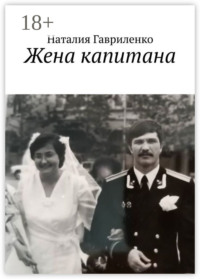Полная версия
Дочь капитана

Дочь капитана
Наталия Гавриленко
«Береги платье снову, а честь смолоду.»
А. С. Пушкин «Капитанская дочка»
Посвящаю дорогим родителям и брату
© Наталия Гавриленко, 2025
ISBN 978-5-0062-4066-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Желание описать свою жизнь и жизнь моих близких возникла у меня откуда-то «изнутри», «издалека». То ли общения мне не доставало в новом, чужом городе, то ли захотелось еще раз вспомнить и переосмыслить прожитую жизнь, жизнь многих людей, окружавших меня все прожитые годы.
Многие из нашей родни стали «уходить» и пока еще есть возможность что-то спросить, узнать, уточнить у тех, кто «остался». Я постаралась использовать это время. Наверное, лет через тридцать эти записки могут стать бесценными, так как в них было запечатлено время, в котором жили мои дедушка и бабушка, практически, ровесники века, мои мама и папа, и все мы, дети двадцатого и двадцать первого века. Может быть мои дети и внуки заинтересуются этими воспоминаниями и им наша жизнь, жизнь наших близких, станет понятнее и ближе.
Итак, я начинаю…
Рождение
«Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми»
Оскар Уайльд
Рождение
– Девочка! Коля, у нас девочка! Три восемьсот! Похожа на тебя! Копия!
Моя мама возбужденно и радостно кричала из окна медицинского учреждения, увидав бежавшего к ней папу. На ходу он вытирал со лба пот и улыбался.
– Спасибо, родная! Назовем Наташенькой! – запыхавшись выдохнул папа.
– Нет, лучше Аллочкой… Я давно имя придумала, – мама влюбленно поглядывала на мое личико, пытаясь разглядеть те, как ей казалось, необыкновенные черты, которые подошли бы обладательнице столь необычного имени.
В ту же секунду папа перестал улыбаться и любовно посмотрел на маму:
– Какая Аллочка, Тома? Как же ее в старости внуки будут называть? Баба Алла, что ли? Да и в деревне не поймут… То ли дело – бабушка Ната… Наташа… Наташенька… Наталочка… Натусенька…
Вот так, в светлый и солнечный день в самом конце июня 1958 года в семье военного родилась я. После недолгих уговоров папа переубедил маму и меня сразу нарекли столь популярным именем – Наталия. В свидетельстве о рождении имя написали по украински через «i» с точкой. Произошло это на Западной Украине, в селе Козова Тернопольской области.
Это было обычное украинское село, где стояла в то время часть отца. Когда мама вышла из роддома и частенько прохаживалась по местному рынку в поисках продуктов, ее узнавали роженицы, которые лежали вместе с ней в палате и зазывали местным говором:
– Пани, возьмите у мэнэ яйца. Вы же мою дытыну кормили молоком в роддоме, – и протягивали ей десяток отборных домашних яиц. Денег за них торговки не брали. В роддоме у мамы молока было много и она щедро делилась им с женщинами много старше ее по возрасту, у которых грудное молоко отсутствовало вовсе. Поэтому с рынка мама возвращалась довольная, с полной сумкой незапланированных продуктов.
У моих родителей к тому времени уже имелся сын – мой брат Сергей четырех лет отроду. Ему то и поручили смотреть за вновь «приобретенной» сестрой. И первое, что он попытался сделать, по рассказам моей мамы, это проверить, а действительно ли живая эта «кукла», которую счастливые папа и мама откуда-то принесли в дом? Недолго думая, он указательным пальцем ткнул мне в глаз, после чего я оглушила съемную квартиру моих родителей сильнейшим воплем.
– Сережа! Так нельзя делать! Это твоя сестричка, а не кукла!
Они сделали брату внушение, как надо со мной обращаться, что я живая девочка, только маленькая и все у меня такое же настоящее, как и у брата.
Брат воспринял мое появление, как некую «обузу», что особенно видно на выцветших фотографиях тех далеких лет. Позже, когда я подросла, то везде ходила за ним, как «хвост», на что он очень злился, потому что не мог в полную силу бегать с мальчишками: играть в «казаков-разбойников» очень модной в то время игре среди детей, гонять в футбол. Всюду и везде я, со свойственной мне настырностью, упорно следовала за ним. Он гнал меня домой, играть с девчонками, жаловался маме, что я везде с «пацанами» – я была неотступна.
Мама на его жалобы только разводила руками: мол, а куда я ее дену? Яслей и садика нет, а так хоть родной брат за мной присмотрит. В то далекое «хрущевское» время женщины выходили на работу через пятьдесят шесть дней после родов. Таковы были законы, «поддерживавшие и оберегавшие» детей и матерей.
Мама благодарила брата за заботу обо мне. Какое уж там спокойствие у матери, когда стайки недетсадовских мальчишек носились по сельским улицам, огородам, лесополосам. Присмотра за нами не было никакого. Так мы и росли друг подле друга. И я всегда чувствовала на себе неусыпный взгляд брата. Хотя и был в моей младенческой одиссее период, когда у меня появилась нянька. Да, да, настоящая нянька. А история ее появления в нашем доме такая.




Брат и я в коляске

няня
– Женщина, почему вы плачете? – отец остановил бедно одетую старушку, которая шла мимо их дома и плакала, не тая своих слез. Мои родители сидели тихим июльским вечером обнявшись на крылечке своей съемной квартиры и ломали голову, куда меня деть.
Проходившая женщина на первый взгляд была примерно семидесяти пяти лет. Одета в длинную темную ситцевую юбку, такую же блузку и неопределенного цвета платок. Ноги были абсолютно босые и утопали в рассыпчатой, как мука, дорожной пыли. Старушка остановилась, вытерла скомканным носовым платком слезы и прошептала почти беззубым ртом:
– Пан, хозяева меня из дома выгнали, – и заплакала с большей силой.
Отец приобнял несчастную женщину и подвел к крыльцу дома, на котором они сидели и думали, куда бы пристроить меня, их дочь, родившуюся две недели назад.
– Ну, идемте, расскажете нам все по порядку, – и усадил старушку рядом с собой на теплое деревянное крыльцо. Она оказалась между родителей.
Старушка поведала им свою историю. Звали ее Ганьтя. Родилась и всю жизнь провела в соседнем селе. Родственников после войны у нее не осталось. Люди, у которых она работала помощницей по хозяйству последние годы, прогнали ее, потому что она стала старой: часто болела, ноги распухли и плохо двигались.
Отец спросил ее:
– Не остались бы вы няней у нашей дочки? Будете жить в этом доме с нами. Мы будем вам платить деньги. А если станем уезжать к новому месту службы, то порекомендуем вас такой же военной семье.
На это предложение баба Ганьтя согласилась незамедлительно. От денег отказалась. Они, по ее словам, ей были не нужны. Сказала, что будет работать за еду и еще помогать в домашних делах. Идти ей все равно было некуда. Так у меня появилась няня.
Разглядывая фото той далекой поры, можно увидеть, что своим здоровьем она не интересовалась – у нее практически не было зубов. Отекшие ноги она переставляла с трудом.
Надо сказать, что несмотря на это, баба Ганьтя была большой труженицей. Она не только нянчила меня, но и готовила еду для всей семьи, стирала белье. Очень любила чистить папины военные сапоги. Он смущался от такой заботы о себе и не разрешал ей этого делать. На что баба Ганьтя говорила:
– Пан, вы мене як сынку. Дозволяйте мене их чистити. Я дюже люблю запах той ваксы. Вона мне сынку моего напоминает.
После этих слов, понимая, что это волнующие воспоминания бабушки Ганьти о погибшем сыне, отец и дальше разрешил ей чистить его сапоги. Родители уговаривали бабушку взять деньги, но она их не брала и только отмахивалась:
– Зачем мне те гроши? На кой ляд? Усе у мене есть, живу як царица. А если помру, то вы меня и похороните…
И по неписаному закону, сложившемуся с первого дня ее пребывания в нашей семье, баба Ганьтя восседала за столом на самом почетном месте – рядом с папой.
Единственным ее недостатком было то, что баба Ганьтя не носила нижнего белья. Откуда у нее появилась такая привычка, никто не знал. Но зато она всегда носила длинную ситцевую юбку, которая ей с лихвой его заменяла.
Еще одним достоинством этой юбки было то, что пространство между ног бабы Ганьти на полу занимала я. Это был своеобразный манеж: она запускала меня туда и так, вместе с ней, вернее, между ее ног, я передвигалась по кухне. А в это время баба Ганьтя могла варить борщ, лепить вареники, стоять у плиты. Так что первые мои познания об «устройстве» человека я получила, находясь под юбкой своей няньки.
От бабы Ганьти веяло нескончаемым добром, лаской, желанием сделать нашу жизнь сытой, счастливой. Помню ее шершавые руки то гладившие меня по голове, то укачивавшие на своей груди. Поющую бесконечные грустные колыбельные песни своим беззубым ртом. Меня окутывало море добра и какого-то света моей дорогой бабы Ганьти.
Что еще я помню из своего раннего детства? Помню нашу квартиру из двух «огромных» комнат с большими и очень светлыми окнами. Воздушные занавески, в которых я любила «прятаться» от своей няни, только научившись ползать. Большой обеденный стол, под которым я любила сидеть. Кухню, с близко полыхавшей огнем плитой, к которой меня не подпускала няня. Почему-то меня все время тянуло заглянуть в кипящие кастрюли…
Качели у самого крыльца нашего дома, на которых меня качал брат. И один очень теплый весенний день, когда родители вместе с соседями сажали персиковые саженцы и другие плодовые деревья вокруг дома. Я сидела на расстеленном одеяле, недалеко от родителей. Пригревало яркое солнышко, чирикали птички, откуда-то лились звуки приятной мелодии.
Взрослые перекликались веселыми фразами, смеялись и их приподнятое настроение и задор передавались мне. Я, по рассказам мамы, тоже издавала протяжные крякающие звуки, тем самым принимая «участие» во всем происходящем действе. Мое «кряканье» замечали все взрослые и в ответ тоже одобрительно похохатывали…
До моих полутора лет родители прожили душа в душу с бабой Гантей. Но, вскоре отца послали на переподготовку в город Владимир, и мы вынуждены были переехать. Это было время «хрущевских» преобразований в армии и на флоте, когда на металлолом резали самолеты и корабли. Баба Ганьтя неутешно плакала, расставаясь со всеми нами. Как и обещал ей отец, она перешла в семью таких же военных и тоже няней. Царствие тебе небесное, милая моя, сердечная бабушка Ганьтя.
Отец. Дед – будёновец
«Как много может вместить в себя человеческая жизнь, даже если она короче воробьиного носа» Михаил Герчик
Отец. Мой дед – будёновец
Мои родители… Дедушка и бабушка… Кто они? Откуда? Пришло время рассказать и о них…
Мой отец, Молчан Николай Николаевич, родом из Белоруссии, выходец из крестьянской семьи. Родился в мае 1929 года. Как раз в разгар колхозного движения и коллективизации.
Его отец, Молчан Николай Семенович, являлся «ровесником века». Он появился на свет в 1900 году. У дедушки были четверо братьев и сестра. Все братья воевали в гражданскую войну на стороне «красных».
Дедушка был крепкого телосложения, имел округлое лицо, на котором даже в преклонные годы не видны были морщины. Любил носить военную форму, которую ему субсидировал отец, военную фуражку и хромовые сапоги. Отличался отменным здоровьем, болел очень редко. Любил участвовать в деревенских праздниках, где мог крепко выпить, но никогда не бывал пьяным и всегда сам, на своих ногах, возвращался домой..
Многие годы держал пасеку. Когда я просыпалась утром, его, как правило, уже не было в избе. Он был то в поле, то на сенокосе, то помогал кому-то из односельчан. Иногда, в течение дня заходил домой попить воды, пообедать и отдохнуть за занавеской около печи. По натуре был молчуном и вполне соответствовал своей фамилии. В отличии от меня: мне учителя всегда утверждали обратное…
После освобождения Белоруссии от фашистов, дедушку призвали в армию, где он прослужил до конца войны. Брал Кенигсберг, имел медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». О войне никогда не рассказывал.
Уехав из деревни в армию, папа при любой возможности, старался навестить своих родителей. Нас старички встречали у вековых берез на старом шляхе, обстоятельно расцеловывали всех по очереди, плакали, потом смеялись и всей гурьбой шли к дедушкиной избе.
Дедушка отпирал входную дверь в сенцы огромным железным деревенским ключом, выкованным в местной кузнице. Длина его на несколько сантиметров превосходила толщину стен самой избы. На конце ключа находилась подвижная железка-язычок, которая после просовывания падала и вонзалась в прорезь задвижки поперечного деревянного засова, запиравшей дверь изнутри. Поворотом ключа засов сдвигался вправо, двери отпирали. Этот же ключ бабушка прикладывала нам к месту ушиба, если мы с братом падали и набивали шишки.
Всей ватагой гости входили в прохладные сенцы, где нос щекотали непривычные запахи: сыроватый дух вековых досок кладовой, запах вяленого мяса, сушеных трав, которые в большом количестве в несколько рядов были развешаны по правой стороне сеней.
Бабушка тут же, на выбор, предлагала долгожданным гостям или крынку прохладного молока сантиметровым слоем сливок, или ядреного березового кваса, приготовленного из березового сока. Бочка стояла рядом у входной двери. Папа с благодарностью брал из рук бабушки крынку и пил прямо из нее, оставляя выше губы белую полоску из сливок, которую после вытирал тыльной стороной ладони… Наблюдая, с каким наслаждением папа пил из крынки молоко, как крякал от удовольствия, мне тоже хотелось повторить за ним все его движения и возгласы, испытать те же удовольствия. Я просила:
– Папа, дай мне тоже попробовать молочка…
Он протягивал мне глечик. По белорусски так называли крынку. После молока я пробовала квас. Мне всего хотелось сразу и много. Немудрено, что по прошествии времени у меня начинал болеть живот…
Напившись, гости проходили в избу… В прохладной, чисто убранной горнице, слева белела русская печь. Внутри ее недр нас дожидались томленые в остывавшем жару деревенские щи, сваренные бабушкой с крапивой и другими целебными кореньями и травами. Пшенная каша, щедро умасленная домашним сливочным маслом, а потому особенно вкусная, жареная свинина.
Посередине горницы на большом столе, окруженном лавками и табуретами, стояла глубокая миска со свежим янтарным медом, который дедушка накануне откачал на специальной машине из многочисленных сот у тружениц-пчел. Крупными ломтями нарезан ржаной хлеб, на тарелке сверкали влажными боками свежие и соленые огурцы, грибы, кислая капуста с кольцами репчатого лука, оставшаяся с зимы. Воздух пах чем-то пряным, «бабушкиным».
Бабушка приглашала всех умыться. Выдала льняные домотканые полотенца. Мы плескались у рукомойника во дворе, громко смеясь. Громче всех фыркал от удовольствия папа. Было видно, что он очень рад, что приехал в родной дом, что привез всю свою семью, что живы родители и всегда ждут его и всех нас.
Мама умылась аккуратно, не обранив ни единой капли на свой модный трикотажный костюм. Она всегда следит за своим и за нашим внешним видом с особой тщательностью: скоро потянется деревенский люд и нас будут рассматривать с пристальным вниманием…
Мы с братом тоже умылись прохладной и очень мягкой колодезной водой и возвратились к столу. Там уже бабушка разлила по тарелкам горячие щи. Взрослые выпили по рюмочке за встречу, а нам с братом налили березового кваса. Мясо и кашу все съели с большим удовольствием.
После трапезы мама раздала родителям отца подарки: дедушке фланелевую рубашку с нагрудными карманами, а бабушке красивый павловопосадский платок. Старики прослезились, поблагодарили родителей.
Нас с Сережей начало клонить в сон и мы улеглись на кровати.
Я рассматривала комнату, в которой нам предстояло жить какое-то время. За цветастой занавеской укрывались от любопытных глаз две узкие кровати и большой сундук бабушки.
«Что там у него внутри? Вот бы спросить и посмотреть…»
Третья кровать стояла справа у стены, между окнами. В «красном» углу возвышались бабушкины иконы. Перед ними мерцала огоньком лампада. У противоположной стены стоял старинный комод и на нем зеркало. На стенах – фотографии родственников.
На небольших окнах радовали глаз незамысловатые белоснежные занавески, уютно расположились в глиняных посудинах комнатные цветы, главными из которых была герань. Окна, выходившие в сад, хозяева распахнули и комната наполнилась негромким щебетаньем птиц, жужжаньем пролетавших мимо пчел, запахом спеющих яблок, плодами черемухи и другими, пока не очень понятными запахами тихой деревенской жизни…
Меня поразили старинные фото, сохранившиеся в войну, где стояли четверо буденовцев. Эта фотография долгие годы висела в избе дедушки. В дни недолгих отпусков родителей, когда мы всей семьей навещали дедушку и бабушку, я долго и внимательно разглядывала ее. Многочисленные фото дальних и близких родственников теснились друг подле друга, но не вызывали у меня особого интереса. А эта фотография почему-то притягивала…
Многих родственников на фото я не знала, а спросить – кто есть кто, не доходили руки. Взрослые с раннего утра были заняты какими-нибудь работами по хозяйству. Вечером собиралась теплая компания из близких и дальних родственников, которые не успели посетить дедушку и бабушку, папу и маму в первый, самый веселый день, и теперь «наверстывали» упущенное.
Кого-то после изрядных вливаний непременно тянуло в пляс и танцор выдавал коленца «с изюминкой», так что мы с любопытством наблюдали за выкрутасами подвыпивших взрослых, и к вечеру напрочь забывали обо всем, о чем хотели узнать у родителей, деда и бабушки утром.
Успели разузнать только то, что после гражданской войны братья поселились на хуторах, занимались земледелием, пчеловодством, состояли на службе лесниками. Все женились, сестра вышла замуж. Обзавелись хозяйством, жизнь стала налаживаться. Все работали, не покладая рук ради своих семей, достатка в доме.
Дедушка часто показывал нам свои мозолистые руки с множеством жестких бугорков с внутренней стороны ладони. Он был не особенно разговорчив с нами, «городскими» внуками, как он нас называл. Как-то общих тем для общения у нас не находилось. И таким способом, показывая свои руки труженика, он как бы говорил нам:
«А вы тоже так трудно добываете свой хлеб?»
Я с сочувствием смотрела на дедовы руки, осторожно гладила его припухшие твердые бугорки и отходила, не учуяв никакого подвоха в его словах. Позже, став старше, я поняла, что дед не разговаривал с нами ни потому, что нам не о чем было поговорить, а потому, что считал нас совершенно бесполезными существами в хозяйстве. Попросту – дармоедами… Единственное, что дед любил делать, это спрашивать у меня:
– Ты помнишь, как жила здесь, у нас с бабушкой? Как называла меня «старый дурак»? – при этом он сотрясался от смеха и громко смеялся.
Я, естественно, ничего не помнила. В свои полтора года я, наверное, могла повторить какие-то слова за кем-нибудь из взрослых. Только и всего. А тогда я жутко смущалась и отходила от дедушки в сторону, показывала тем самым, что в данный момент так не думала…
Коллективизация
В тридцатом году власти объявили хуторянам, что всем необходимо объединиться в колхоз. А для этого нужно переехать на центральную усадьбу в деревню Кобзевичи. Мол, туда проведут электричество, жизнь будет лучше и радостнее.
Сестра дедушки, зажиточные крестьяне, сразу смекнули, что добра там не ждать: быстро распродали свое имущество и хозяйство и на эти деньги перебрались в Соединенные Штаты Америки. Позже, в году тридцать седьмом, от сестры было письмо, что они устроились, стали фермерами и звали братьев к себе. Но времена уже были не те, да и из братьев остался только мой дедушка.
Письмо прочитали и сожгли «от греха подальше». С тех пор следы дедушкиной сестры затерялись, и никто не знает, где наша далекая родня обретается в той Америке, где их могилы. Слава богу, что хоть эта ветвь нашего рода уцелела.
Братья легкомысленно махнули на предложение власти рукой. Мол, не нужен нам ваш колхоз, нам и здесь хорошо живется. А электричество мы и сами к себе на хутора проведем, купим столбы и провода. Такой наглости и несговорчивости от бывших буденовцев представители власти не ожидали.
Надо сказать, что все братья жили зажиточно. Пчелы давали много меда. На осеннюю ярмарку каждый из них возил по несколько подвод с огромными бочками меда, который всегда был в цене. На жизнь им вполне хватало, благо работали они «от зари до зари», не разгибая спины. Так же трудились и все домашние.
Один мой дед оказался дальновидным и перевез свою избу с хутора на центральную усадьбу, предварительно разобрав ее по бревнышку. Там же он, скрепя сердце, вступил в колхоз, сдав обществу свое добро, нажитое за годы жизни на хуторе. А братьев дедушки через некоторое время арестовали, объявили «кулаками» и сослали в Сибирь, где они безвестно сгинули.
Так мой дед остался один из своего большого рода-племени и начал в тридцать лет жизнь заново на новом месте, но в старой избе со своей семьей. Работали в колхозе тоже много, но особого достатка не имели, по вполне понятным причинам. Оплата была натуральной.


Война. Немцы в деревне
«Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.»
Константин Симонов
Вскоре грянула война. Белоруссию германские войска захватили очень быстро, так что никто из селян не был призван в армию. Остались по своим домам. Вели хозяйство, ждали, что будет дальше…
А дальше деревню «навещали» то немецкие каратели войск СС в поисках партизан, то партизаны в поисках «предателей» советской власти и все одинаково хотели свежего хлеба, сала, яиц и прочего провианта. Продукты всегда пользовались большим спросом на любой войне.
Немцы говорили кратко:
– Матка, яйко, шпек, шнапс! – и в знак особой доходчивости направляли в сторону бабушки автомат и имитировали голосом звук его выстрелов. После чего громко ржали, радуясь чему-то, как будто побывали на представлении в цирке. У бабушки ничего, как правило, не было. Сами голодали. И, чтобы избавить семью от этой немецкой напасти, она падала на колени и умоляла немцев поверить, что в доме ничего уже нет.
Спасала семью бабушка, в то время еще совсем не старая женщина. Ей всего-то было немного за сорок. Она искусственно мазала себя сажей, чтобы никто «не позарился», и умело изображала старуху. Немцы брезгливо отбрасывали ее носком сапога, говорили пресловутое «шайзе» и уходили прочь со двора, никого не тронув. После этого бабушка долго молилась у иконы Божьей матери, за все благодаря только ее.
Партизаны тоже были «просты» в обращении, но вдобавок требовали у дедушки много хлеба, которого, по их партизанскому разумению, у него было невероятное количество. И если дед ничего им не давал, то ставили его «к стенке», как «немецкого пособника» и один раз чуть не расстреляли.
Вмешивалась, как всегда, бабушка. Так же валялась в ногах уже у партизан, умоляла поверить, что ничего в хате нет и, одновременно, совала «защитникам» завернутый в тряпицу последний кусок сала, умоляя отпустить дедушку. После этой мизерной мзды главу семьи отпускали. После их ухода вся семья горько плакала, крепко обнявшись. Горше всех плакал сам дед – слезы текли по его белому неподвижному лицу, а плечи медленно сотрясались от бессилия и пережитого унижения. Бабушка продолжала молиться Богу, Божьей матери.
Пастух. Один в лесу
– Папа, расскажи о войне… Ну, какой-нибудь случай из вашей жизни… – я просила рассказать отца о войне и он неохотно, но делал это. Несколько эпизодов, крепко засевших в его подростковом сознании, он мне поведал. Вот эти воспоминания.