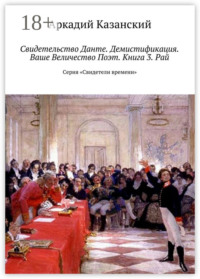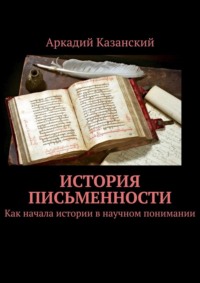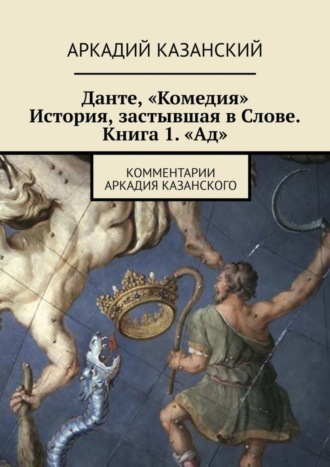
Полная версия
Данте, «Комедия». История, застывшая в Слове. Книга 1. «Ад». Комментарии Аркадия Казанского
На них такая грязь – говорит Вергилий, имея в виду пенный прибой, который обратным движением смывает с берега песок, камни и всё, что может плавать. Море никогда не успокаивается, поэтому души, казнимые в нём, лишены блаженства и заняты только этой бучей.
Скупцы и расточители все служат Фортуне, ожидая от неё новых даяний, а картина, которую наблюдали поэты, показывает, – все её даяния – обман летучий. Всё золото мира не может ни на толику успокоить бури страстей расточителей и скупцов, так же, как никогда не стихает море.
Фортуна – римская богиня судьбы и случая.
Вергилий попрекнул Данте за ошибочную мысль, – будто Фортуна держит «в когтях своих» счастье всех племен, поясняя, – она – лишь исполнительница справедливой Божьей воли.
Как считали философы XV века, Бог, воздвигнув тверди, создал им вождей. Это – ангелы – «движители», «умы», «разумы», управляющие вращением небесных Сфер и сообщающие им силу влияния на земную жизнь. Каждой части, то есть каждой из небесных Сфер, сияет своя часть, свой ангельский круг. Мирским же блеском, земным счастьем, распоряжается Фортуна; здесь она полновластна, как в прочих царствах – в небесных сферах, остальные боги или ангелы-движители. Именно потому, что земные дела находятся во власти Фортуны, «ничто не вечно под Луной», также изменяющейся от новолуния до полнолуния и претерпевающей затмения, зато выше Луны, в прочих Сферах, всё вечно и неизменно.
Приведём размышления о Фортуне из бессмертного произведения, сожжённого на костре инквизиции философа Джордано Бруно: , особенно уместные для путешествующих: «Изгнание торжествующего зверя» 11
И вот, в то время как Отец богов осматривался кругом, сама по себе, бесстыдно и с необычным нахальством, выскочила вперёд Фортуна и сказала:
«Не хорошо вам, боги-советчики, и тебе, великий судья Юпитер, что там, где говорят и так долго выслушивают Богатство и Бедность, мне приходится, как презренной, позорно молчать, не показываясь и всячески сдерживаясь. Мне, столь достойной и могущественной, которая посылает перед собой Богатство, руководит им и толкает, куда вздумается и захочется, прогоняет, откуда захочет, и приводит, чередуя его с Бедностью; всякий знает, – наслаждение внешними благами надо приписывать не Богатству, а мне, как его началу; всё равно, как красоту музыки и прелесть гармонии – не лире и инструменту, но главным образом искусству и артисту, который ими владеет. Я – та божественная и блистательная богиня, которой так жаждут, ищут, любят, за которую столько благодарят Юпитера, из чьих щедрых рук исходят богатства, а из-за сжатых ладоней плачет весь мир и будоражатся города, царства и королевства. Кто, когда давал обеты Богатству или Бедности? Кто когда-либо благодарил?
Я – та причина, которую, чем меньше знают, тем больше уважают и страшатся, чем больше жаждут и добиваются, тем меньше она сама дружится и сближается. Ибо обычно больше достоинства и величия в том, что меньше открыто, более неясно и всего более тайно. Я затмеваю своим блеском добродетель, очерняю истину, усмиряю и презираю большую и лучшую часть этих богов и богинь, которые, как я вижу, стоят здесь в очередь и порядке, готовясь занять места на небе. Я даже и здесь, в присутствии такого великого сената, одна внушаю всем страх, и (хотя у меня и нет зрения) ушами своими слышу, как у большинства стучат и скрипят зубы в страхе и ужасе перед моим появлением, несмотря на всю их дерзость и притязания выдвинуться вперед и заявить о себе раньше, чем обсудят, достойна ли я, я, которая часто и чуть не всегда владычествую над Разумом, Истиной, Софией, Справедливостью и прочими божествами. Пускай они скажут, если не хотят лгать о том, что известно-переизвестно всему миру, сумеют ли пересчитать, сколько раз сбрасывала я их с кафедр, тронов и судилищ, по своей прихоти обуздывая, связывая, запирая и заключая в темницы. И не по моей ли милости удавалось им выйти, освободиться, восстановиться и оправдаться, никогда не избавляясь от страха моей немилости?». Всякий, кто хочет и жаждет их, зовёт меня, призывает, приносит мне жертвы, всякий, ублаготворённый богатством, благодарит Фортуну; для Фортуны возжигаются ароматы, для Фортуны дымятся алтари.
Фортуна, не слушая, продолжала своё и прибавляла, – самые выдающиеся и лучшие философы мира, как Эпикур, Эмпедокл, приписывали ей более, чем самому Юпитеру, даже больше, чем всему совету богов вместе.
«Так и все остальные», – говорила она: «считают меня богиней, небесной богиней, так как, думаю, для вас не внове стих, который прочтёт вам любой школьник: «Те facimus, Fortuna, deam, caeloque locamus». («Богинею мы называем, Фортуна, тебя и на небо возносим»).
Ничего, ничего не отнимает, боги, у меня слепота, ничего ценного, ничего необходимого для моего усовершенствования. Ибо, не будь я слепа, не была бы я – Фортуной, и подавно слепота эта не может не только уменьшить или ослабить славу моих заслуг, но, наоборот, от неё-то я и беру доказательство их величия и превосходства, из-за неё-то я и убеждаюсь в своем нелицеприятии и в том, что я не могу быть несправедливой в распределении».
После того, как окончилась тяжба, и Фортуна удалилась, Юпитер обратился к богам:
«Юпитер – Светоносец равномерно всем дарит свой свет, мирской же блеск отдаёт Фортуне. Диво, что большинство стремится к мирскому блеску Фортуны, совершенно равнодушно относясь к вечному свету Светоносца.
Смертной воле не дано распоряжаться счастьем судьбы – Фортуны.
Именно Фортуна даёт одному народу властвовать над другим, являя свой невидимый промысел.
Убогому нашему разуму трудно спорить с Фортуной, она делает то же, что и другие боги в других царствах, без устали творя свой суд.
Шар Фортуны – рулетка Истории. Именно она определяет, кому выпадет счастье остаться в истории, а кому выпадет на долю скорое забвение».
Данте часто обнаруживает близкое знакомство с произведениями Джордано Бруно, что неудивительно, – согласно датировке Гороскопа, он жил позже этого великого человека или одновременно с ним.
Вышеприведённый отрывок «Комедии» практически полностью совпадает с многостраничным отрывком о Фортуне в произведении: «Изгнание торжествующего зверя» Джордано Бруно, изданном им в Лондоне. Джордано Бруно хорошо знал Данте, о чём и писал:
«Купидону Юпитер запретил впредь ходить повсюду в присутствии людей, героев, богов таким голоштанным, как у него была привычка, и приказал ему не оскорблять отныне зрение небожителей, показывая детородные части всему млечному пути и олимпийскому сенату, но ходить впредь одетым, по крайней мере, от пояса до низу. Кроме того, Юпитер строго-настрого наказал ему, – пусть он не смеет сыпать своими стрелами, кроме как для естественной потребности, и пусть любовь у людей он сделает, как у животных, приурочив ее к точно определенным временам года. Пусть точно так, как для кошек месяцем влюбленности обычно служит март, для ослов – май, для людей будут приспособлены те дни, И пусть будет это постановление временным вплоть до ближайшего собрания, которое состоится, когда Солнце поднимется на 10 градусов Весов, на верховья реки Эридан там, где сгиб Орионова колена. когда Петрарка влюбился в Лауру и Данте – в Беатриче.
На этом собрании пусть снова будет восстановлен природный закон, в силу которого будет дозволено всякому мужу иметь столько жен, скольких он в состоянии прокормить, оплодотворить, ибо расточительно, несправедливо и, в сущности, противно законам естества, чтобы это человекотворческое семя, которое может создавать героев и дополнять пустые обители эмпиреи, сеется в одну, уже оплодотворенную и беременную женщину, или в ещё худшие личности, как иные, незаконно преследуемые, что из боязни дурной славы делают выкидыши».
Данте и Бруно были не только современниками, но и большими друзья, – Бруно в своём произведении упоминает не только Данте, но и его современника, великого поэта Франческо Петрарку = Пьетро Метастазио (1698—1782 годы).
Зная, – Данте был приговорён к сожжению, а Джордано Бруно был сожжён на костре по приговору суда инквизиции, заключаем, – Джордано Бруно не удалось спастись от костра именно в 1743 году, подобно тому, как это сделал Данте.
Джордано Бруно в своём произведении сначала назвал Петрарку, а затем Данте. Это означает, – Петрарка был старше Данте.
Когда поэты тронулись в путь, звезды поднимались от востока к середине неба. Теперь они начали клониться к западу, миновала полночь. Вергилий торопит Данте, – путь им предстоит долгий, кругов Ада ещё очень много.
Путники продвигаются в сторону Константинополя. Дорога обходила город с севера; с этой стороны в него не войти. Единственный доступный путь лежал водой, через залив Золотой Рог. Они подошли к самому началу залива Золотой Рог, где в него впадают два ручья, – Али бей су (древний Кидарос) и Киат Ханс Су (древний Барбизес). Ручьи, бегущие с гор, имеют бурное течение, стихающее после впадения в залив, который Данте назвал Стигийским болотом. Цвет воды в ручьях практически чёрный, особенно на фоне белого снега. Залив Золотой Рог впадает в пролив Босфор, пробегая между серыми каменными стенами Константинополя, расположенными на обоих его берегах.
Вглядевшись в толщу вод пролива, в месте впадения быстрых ручьёв Данте увидел подводные разноцветные струи, образующие водовороты и смешивающиеся друг с другом, норовящие изгрызть самих себя в клочки. Кроме струй, там было видно огромное количество водных растений, колеблемых течениями и никогда не пребывающих в покое.
Люди, погрязшие в омуте реки, испускающие пену и пузыри – струи падающего в залив ручья, создающие обильную пену на поверхности и подводные течения. Они дерутся не руками, а всей своей сутью без исключения, разбивая друг друга на бесследно исчезающие клочья.
Гневные казнятся волнами и прибоем; их противоположность – вялые – быстрым подводным течением, водоворотами, пеной. Под водой казнятся грешные души, пуская пузыри, напрасно трудясь вымолвить слово, глотки их забиты подводной густой травой – тиной. Это вялые – полная противоположность гневным, такая же, как скупцы – расточителям. Голос воды и ветра над ними поёт свою бесконечную песнь.
Но, главное, на этих берегах происходили основные сражения «Троянской Войны» = осады и взятии Константинополя в 1453 году. Эти события, отнесённые на 25 веков назад, породили и россказни о сражениях нагих людей, как изображали героев «Троянской Войны», их свирепость и гнев.
Место, где находятся путники отождествлено в [3], как место сражения Ахиллеса с троянцами у реки и с самой рекой – Скамандром. Свой гнев Ахиллес изливал на троянцев, которые, будучи вялы и трусливы, сыпались с берега в реку и погибали в ней, запрудив поток, впадающий в залив Золотой Рог. Это было самое жестокое побоище «Троянской Войны».
Путники берегом пенного, тинного, илистого залива направились к башне. Подойдя с Запада к Константинополю, они увидели издали возвышающийся над местностью ориентир – знаменитую Галатскую башню [Рис. А.VII.1], расположенную в пригороде Галата на северном берегу пролива Золотой Рог, отделяющего пригород от центральной части Константинополя, на Европейском берегу пролива Босфор.
Галатская башня отождествлена в [2], как памятник двум величайшим людям, – Богу-Отцу = Зевсу-Громовержцу = Дмитрию (Илье) Донскому (1350—1389 годы), похороненному в этом месте, как утверждает Гомер [3], помещая в это место могилу Ила, и Богу-Сыну = Иисусу Христу = Христиану Амадею «VIII» Миролюбивому (1383—1451 годы), распятие которого состоялось в 1429 на могиле Отца. В 1449 году император Константин «XI» Драгаш (1405—1453 годы) с матерью Еленой Драгаш (1372—1450 годы) возвели на этом месте башню Галата, как памятник двум Богам, за что почитаются, как равноапостольные святые Константин и Елена [2].
А.VII.1 Башня Галата в Константинополе, памятник Богу-Отцу и Богу-Сыну. Вид на север утром со стороны центра Константинополя через залив Золотой Рог. Упоминается в Библии, как Вавилонская Башня.
Дорога с материка (Европы) вдоль залива Золотой Рог, в сторону Константинополя, идёт на восток, далее, с правой стороны залива расположена центральная часть Константинополя с Айя Софией и главными мечетями, с левой стороны – пригород Галата, за ним пригород Пера – место размещения иностранцев. Башня Галата, видимая издалека, доминирует над одноимённым пригородом, со стороны истока залива Золотой Рог видна прямо на востоке.
В настоящее время высота башни составляет 61 метр. В XVIII веке конического купола на башне не было; её высота составляла 45 метров, заканчиваясь ограждением с зубцами.

АД – Песня VIII
Круг пятый (окончание). – Флегий. – Город Дит. Путники переправляются на лодке по заливу Золотой Рог к воротам Галаты, рассматривая Константинополь. В ворота их не пускают.
Скажу, продолжив, что до башни этойМы не дошли изрядного куска,Когда наш взгляд, к её зубцам воздетый, 3Приметил два зажжённых огонькаИ где-то третий, глазу чуть заметный,Как бы ответивший издалека. 6Взывая к морю мудрости всесветной,Я так спросил: «Что это за огни?Кто и зачем даёт им знак ответный?» 9«Когда ты видишь сквозь туман, взгляни», —Так молвил он: «Над илистым просторомТы различишь, кого зовут они». 12Ни перед чьим не пролетала взоромСтрела так быстро, в воздухе спеша,Как малый чёлн, который, в беге скором, 15Стремился к нам, по заводи шурша,С одним гребцом, кричавшим громогласно:«Ага, попалась, грешная душа!» 18«Нет, Флегий, Флегий, ты кричишь напрасно»,Сказал мой вождь: «Твои мы лишь на миг,И в этот чёлн ступаем безопасно». 21Как тот, кто слышит, что его постигБольшой обман, и злится, распалённый,Так вспыхнул Флегий, искажая лик. 24Сошёл в челнок учитель благосклонный,Я вслед за ним, и лишь тогда ладьяВпервые показалась отягчённой. 27Чуть в лодке поместились вождь и я,Помчался древний струг, и так глубокоНе рассекалась ни под кем струя. 30Посередине мёртвого потокаМне встретился один; весь в грязь одет,Он молвил: «Кто ты, что пришёл до срока?» 33И я: «Пришёл, но мой исчезнет след.А сам ты кто, так гнусно безобразный?»«Я тот, кто плачет», – был его ответ. 36И я: «Плачь, сетуй в топи невылазной,Проклятый дух, пей вечную волну!Ты мне – знаком, такой вот даже грязный». 39Тогда он руки протянул к челну;Но вождь толкнул вцепившегося в злобе,Сказав: «Иди к таким же псам, ко дну!» 42И мне вкруг шеи, с поцелуем, обеОбвив руки, сказал: «Суровый дух,Блаженна несшая тебя в утробе! 45Он в мире был гордец и сердцем сух;Его деяний люди не прославят;И вот он здесь от злости слеп и глух. 48Сколь многие, которые там правят,Как свиньи, влезут в этот мутный стокИ по себе ужасный срам оставят!» 51И я: «Учитель, если бы я могУвидеть въявь, как он в болото канет,Пока ещё на озере челнок!» 54И он ответил: «Раньше, чем проглянетТот берег, утолишься до конца,И эта радость для тебя настанет». 57Тут так накинулся на мертвецаВесь грязный люд в неистовстве великом,Что я поднесь благодарю Творца. 60«Хватай Ардженти!» – было общим криком;И флорентийский дух, кругом тесним,Рвал сам себя зубами в гневе диком. 63Так сгинул он, и я покончу с ним;Но тут мне в уши стон вонзился дальный,И взгляд мой распахнулся, недвижим. 66«Мой сын», – сказал учитель достохвальный:«Вот город Дит, и в нём заключеныБезрадостные люди, сонм печальный». 69И я: «Учитель, вот из-за стеныВстают его мечети, багровея,Как будто на огне раскалены». 72«То вечный пламень, за оградой вея», —Сказал он: «Башни красит багрецом;Так нижний Ад тебе открылся, рдея». 75Челнок вошёл в крутые рвы, кругомОбъемлющие мрачный гребень вала;И стены мне казались чугуном. 78Немалый круг мы сделали сначалаИ стали там, где кормчий мглистых вод:«Сходите!» – крикнул нам: «Мы у причала» 81Я видел на воротах много сотДождём ниспавших с неба, стражу входа,Твердивших: «Кто он, что сюда идёт, 84Не мёртвый, в царство мёртвого народа?»Вождь подал вид, что он бы им хотелПоведать тайну нашего прихода. 87И те, кладя свирепости предел:«Сам подойди, но отошли второго,Раз в это царство он вступить посмел. 90Безумный путь пускай свершает снова,Но без тебя; а ты у нас побудь,Его вожак средь сумрака ночного». 93Помысли, чтец, в какую впал я жуть,Услышав этой речи звук проклятый;Я знал, что не найду обратный путь. 96И я сказал: «О милый мой вожатый,Меня спасавший семь и больше раз,Когда мой дух робел, тоской объятый, 99Не покидай меня в столь грозный час!Когда запретен город, нам представший,Вернёмся вспять стезёй, приведшей нас». 102И властный муж, меня сопровождавший,Сказал: «Не бойся; нашего путиОтнять нельзя; таков его нам давший. 105Здесь жди меня; и дух обогатиНадеждой доброй; в этой тьме глубокойТебя и дальше буду я блюсти». 108Ушёл благой отец, и одинокийОстался я, и в голове моейИ «да», и «нет» творили спор жестокий. 111Расслышать я не мог его речей;Но с ним враги беседовали мало,И каждый внутрь укрылся поскорей, 114Железо их ворот загрохоталоПред самой грудью мудреца, и он,Оставшись вне, назад побрёл устало. 117Потупя взор и бодрости лишён,Он шёл вздыхая, и уста шептали:«Кем в скорбный город путь мне возбранён!» 120И мне он молвил: «Ты, хоть я в печали,Не бойся; я превозмогу и здесь,Какой бы тут отпор ни замышляли. 123Не новость их воинственная спесь;Так было и пред внешними вратами,Которые распахнуты поднесь. 126Ты видел надпись с мёртвыми словами;Уже оттуда, нисходя с высот,Без спутников, идёт сюда кругамиТот, чья рука нам город отомкнет». 130Не дойдя до Галатской башни изрядного куска, путники заметили впереди, над её зубцами, два огонька. Они двигались на восток, значит, два огонька зажглись на востоке.
При взгляде на звёздное небо видим, – перед поэтами, после захода Солнца, на востоке показались две зловещие планеты на вечернем небе в созвездии Льва – Марс и Сатурн. На другой стороне звёздного неба, на западе, в лучах вечерней зари, в созвездии Водолея, показался едва заметный глазу Меркурий. [Рис.А.VIII.1]Это, – реальная скорость передвижения в те времена морем на кораблях, сушей на лошадях, учитывая сложный, извилистый путь, которым им приходилось идти и тайный характер операции. Эту картину можно было наблюдать с 12 февраля 1743 года , значит путники провели в пути уже больше месяца.
В условленном месте Вергилий зажёг два огня, прося перевоза через залив Золотой Рог. В ответ вдалеке зажёгся один огонёк, в знак, – сигнал понят и принят. Так в те времена сообщались между собой лодочники-перевозчики.
А.VIII.1 Вид звёздного неба в Константинополе 15.02.1743 года после захода Солнца.
На востоке, в созвездии Льва показались две планеты – ярко-красный Марс и зеленовато-бледный Сатурн. На западе, при погасании вечерней зари, был виден чуть заметный глазу Меркурий. Созвездие Возничий приближается к кульминации. Если смотреть со стороны истока залива Золотой Рог, Марс и Сатурн оказались над башней Галата.
На севере, под созвездием Цефей (Плутос), ярко светят созвездия Кассиопея (Тисифона) и Андромеда (Мегера), рядом с ними малозаметное созвездие Ящерица (Алекто). Созвездие Персей с Головой Медузы кульминирует, но созвездие Северная Корона и созвездие Геркулес ещё за горизонтом и им это не страшно.
Созвездие Большая Медведица лежит на северо-востоке, над горизонтом, где находится Крым (Кавр, Таврида), созвездие Рыбы хорошо видно на вечернем небе.
Путники подошли вдоль залива Золотой Рог к стенам Константинополя. К ним сквозь вечерний туман подплыла лодка с одним гребцом, чтобы перевезти их вдоль залива. Определим, – что это за созвездие. Следуя по «Атласу Звёздного Неба», видим, – перед нами созвездие Возничий – точное имя для перевозчика [Рис.А.VIII.2]. Дело происходит в Османской империи; перевозчик – мусульманин, видя перед собой христианина, называет того «грешной душой». По законам ислама, всякий мусульманин, встретивший неверного, обязан сделать всё возможное для обращения того в ислам.
А.VIII.2 Созвездие Возничий (AURIGA) из Атласа «Uranographia» Яна Гевелия 1690 года.
Слева созвездие Персей (Perseus) с мечом и Головой Медузы Горгоны в руках. На голове Персея богатый шлем с перьями, на ногах крылья, одет в тунику. Вверху созвездие Жираф (Camelopard). Справа созвездие Рысь (Lynx). Внизу слева Зодиакальное созвездие Телец (Taurus), справа Зодиакальное созвездие Близнецы (Gemini).
Возничий изображён с кнутом и конскими удами – уздечкой в правой руке. Левая рука держит за спиной белую козу Амалфею, по преданию, вскормившую Олимпийского Бога Зевса, и двух козлят. На голове Возничего шляпа с перьями, одет в тогу.
Флегий – по греческому мифу – царь лапифов, сын Олимпийского бога Ареса (Марса) и смертной, внук Зевса. В гневе на Аполлона, обольстившего его дочь, он сжёг Дельфийский храм, за что был ввергнут в Аид. У Данте он – злобный страж пятого круга, перевозчик душ через Стигийское болото, где казнятся гневные и вялые.
«Слово и дело» – в очередной раз заявляет Вергилий, предъявляя фирман великого визиря, гарантирующий беспрепятственный проезд. Возничий, видя, – ему придётся перевозить христиан, скривился, «искажая лик». Ярчайшая звезда созвездия Возничий – Капелла (козочка) – переменная звезда. На «Карте Звёздного Неба», созвездие Возничий оборачивается через плечо (искажает лик), глядя на Капеллу.
Ладья отягчилась, как только в неё вступил Данте. Случалось ли вам переправляться через реку на маленькой лодке? Пока в ней один-два человека, кажется, – она не меняет своей осадки, когда же вступаешь в неё третьим, кажется, – лодка огружается очень глубоко, вот-вот зачерпнёт воды. У Данте, Вергилий и Флегий, – бесплотные души, когда же он, живой человек вступил в чёлн, тот глубоко огрузился от его веса.
Путники отправились в плавание по заливу Золотой Рог.
Залив Золотой Рог XVIII века – грязная, загаженная, мёртвая лужа. Жители огромного города и многочисленных сёл, расположенных на его берегах сбрасывали в него все нечистоты и отходы производства – от кустарного кожевенного до промышленных отходов металлургических заводов, которых в Константинополе было много.
Посреди потока Данте встретился один знакомый ему дух – тот, кто плачет – которого он с презрением оттолкнул от себя.
Приходилось ли вам бороться со своими недостатками? Насколько это тяжело, сможет сказать только победивший их. Здесь поэт встретился с побеждённым им самим грехом – унынием; Вергилий благословил его.
Вергилий говорит, – встреченный ими дух в мире был гордецом с сухим сердцем и деяний его люди не прославят. Он подтвердил, – поэт был там правителем – монархом, одним из многих, которые оставили по себе ужасный срам.
Он назвал его «флорентийским духом». Если это его родина, не пристало бы так с ней обходиться. Но понимаем, – его родина где-то в другом месте, во Флоренцию он был отправлен на учёбу (под розги педанта) и там грешил унынием. Возможно, там его называли Ардженти (Серебряным) Филиппо. К сожалению, М. Л. Лозинский не привёл в переводе имени Ардженти, исправляем эту недоработку. Это, – четвёртый грех Данте, встреченный им в Аду – уныние.
Небольшой штрих, дополняющий картину. Во всех случаях, как увидим позже, Флоренцией Данте называет Францию, поэтому «флорентийский дух» следует понимать, как «французский дух». С другой стороны, Вергилий, отправляя Ардженти на дно, назвал его «псом», а это уже относится к России; здесь вдруг пахнуло «русским духом». Думаем, в дальнейшем станет ясно, почему.
Дит – латинское имя Аида, или Плутона, властителя преисподней, сына Кроноса и Реи, супруга Персефоны, брата Олимпийских богов Зевса и Посейдона. Данте называл так также Люцифера, верховного дьявола, «князя мира сего», царя Ада. Его имя носит адский город, окружённый Стигийским болотом – области Ада, лежащие внутри крепостной стены и носящие общее название нижнего Ада.
Поэт услышал дальний стон, потом показался город Дит – столица Османской империи – Константинополь, ещё не получивший имени Стамбул [Рис.А.VIII.3]. С точки зрения христианина, этот город – исчадие Ада. За стеной «вечного города», раскинувшегося по обоим берегам залива Золотой Рог, возвышается много огромных мечетей, с бесчисленного множества минаретов которых доносился стон (восхваление Аллаха). Поэт описывает их багровыми в лучах вечерней зари, как бы горящими адским огнём. Только Константинополь в XVIII веке имел так много мечетей внутри себя. В XV веке, перед падением под ударами объединённых войск 27-ми государств Европы, под общим командованием Магомета «II» Фатиха (Завоевателя) (1432—1481 годы) в 1453 году, этот город имел только один огромный православный храм – Святую Софию Константинопольскую [Рис.А.VIII.4], построенную Самим Иисусом Христом, в честь Матери = Софии Богородицы = Софии Витовтовны (1371—1453 годы), впоследствии преобразованную османами в мечеть – Айя Софию [2], [3]. [Рис. А.VIII.5] Остальные огромные мечети появились в этом городе в период наивысшего могущества Османской империи, во второй половине XVI века, и были построены под руководством одного великого архитектора – Синана, прожившего до 98 лет (подтверждение мысли, – люди того времени могли прожить 100 лет, постоянно работая!)