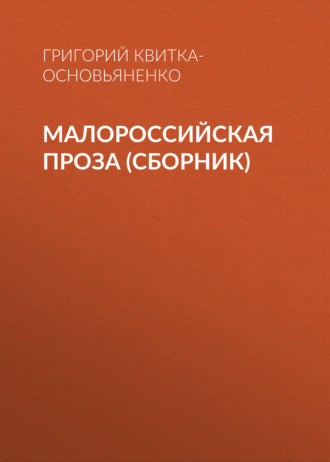 полная версия
полная версияМалороссийская проза (сборник)
«Вот милой парень! Недаром его люблю; такой не пропадет!»
Потом и спросил:
– Сколько же ты теперь получаешь жалованья?
– Жалованье не делает мне счету, – говорит Василь, – лишь бы стало на одежу; а то важнее всего, что хозяин, знавши мою нужду, чего я боюся и отчего вы не отдаете за меня Маруси, сам хлопочет обо мне; теперь посылает меня с фуром в Одессу, а оттуда пойду в Москву и на заводы, и только что к Успению ворочуся сюда; а он мне сыщет наемщика, говорит, хоть пятьсот рублей потеряю; осенью, как скажут набор, сам и отдаст, а деньги, говорит, будешь отслуживать.
– Пускай тебе Бог помогает! – сказал Наум, а потом, подумавши, и говорит: – Чего же больше думать? Послезавтра, во вторник, присылай людей за рушниками. И тебе в дороге будет веселее, и Маруся тут не будет грустить. Теперь нечего бояться. Это уже верно, что ты наемщика поставишь. Даст бог воротишься, осенью и свадьба.
Не можно и рассказать, как обрадовалися Василь и Маруся! Тотчас бросились к ногам отца, целуют их и руки ему целуют; сами обнимутся и снова к нему кинутся, и благодарят его; то к матери, то опять к нему; и не помнят себя, и что делать, не знают.
Долго смотрел на них Наум да все тихонько смеется и думает:
«То-то дети!»
После и говорит:
– Полно же, полно! Пустите же меня! Мы со старухою ляжем спать, потому что я всю ночь слушал Деяния[131] и стоял, пока дочитались до Христа; а вы, хотите, дома сидите или гулять идите к качелям, да только сами не качайтесь, потому что грех для такого праздника заниматься такою глупостью.
Как уже у Василя с Марусею в тот день было, нам нужды мало; потому что известно, ходили ли или сидели, а все об одном говорили: как один по другом скучал; когда, что и как думал; как недуманно-негаданно они увиделись; как еще радость будет, как уже сговорят их; вот такое все говорили, да ласкалися, да миловалися.
Вот же и вторник настал, и к вечеру начали ожидать старост: прибрали хату, затеплили свечу перед образами, старики приубралися, как долг велит, а что Маруся разоделася, так уже нечего и говорить. Вот постучали раз, в другой, в третий, и вошли старосты, подали хлеб, и старосты говорили законные речи про куницу, как и прежде сего было.
Вот Наум с притворною досадою и говорит:
– Да что это за напасть такая? Жена! Что будем делать? Дочка! А иди-ка сюда на совет!
Маруся, вышедши из комнаты, застыдилась – Господи! – покраснела, что твой мак, и, не поклонившися, прямо стала подле печи и начала ее ковырять пальцем[132].
Вот Наум и говорит:
– Видите, ловцы-молодцы, что вы наделали? Меня с женой смутили, дочь пристыдили до того, что скоро печь совсем повалит: видно, не думает тут больше жить. Гай, гай! Так вот что мы сделаем: хлеб святой принимаем, доброго слова не отвергаем; а чтобы вы нас не порочили, что мы передерживаем куницы да красные девицы, так мы вас свяжем и тогда все доброе вам скажем. Дочка! Пришла и моя очередь ладно сказать: полно уж тебе печь колупать, а нет ли чем этих ловцов-молодцов связать.
Еще не время было Марусе послушать, так она все ковыряет. Вот уже мать говорит ей:
– Слышишь ли ты, Маруся, что отец говорит? Иди же, иди, да давай чем людей связать. Или, может, ничего не припасла, так от стыда печь колупаешь? Не умела матери слушать, не училась прясть, не выработала рушников, так вяжи хоть валом, когда и тот еще есть.
Пошла Маруся в комнату и вынесла на деревянной тарелке два рушника длинных, да искусно вышитых и крест-накрест сложенных, и положила на хлебе святом, а сама стала перед образом, да и положила три поклона, после поклонилася три раза отцу в ноги и поцеловала руку, а там и матери тоже; и взявши рушники, поднесла на тарелке прежде старшему старосте, а там и другому. Они, вставши, тоже поклонилися, взяли рушники и говорят:
– Спасибо отцу и матери, что свое дитя рано будили и доброму делу учили. Спасибо и девушке, что рано вставала, тонко пряла и хорошенькие рушники придбала.
Повязавши себе один другому рушники, вот староста и говорит:
– Делайте же дело с концом, разведывайтесь[133] с князем-молодцом. Мы приведены, мы не так виноваты; вяжите приводца[134], чтоб не ушел из хаты.
Вот мать и говорит:
– А ну, доня! Ты же мне говорила, что затем по пятницам работала[135], чтоб шелковый платок придбать да им напраслину связать. Теперь на тебя напраслина напала, что не всех ты связала.
Вынесла Маруся вместо обыкновенного бумажного шелковый платок, красный да хороший, как сама. Наум ей и говорит:
– Этому, дочка, сама прицепи и за пояс платок заткни, да к себе притяни, да слушай его, да шануй (почитай), а теперь его и поцелуй.
Вот они и поцеловались, а Василь выкинул Марусе на тарелку целкового.
После этого староста сговоренным велел, чтобы кланялись прежде отцу в ноги три раза; а как поклонились в третий раз, да и лежат, а отец им и говорит:
– Смотри же, зять! Жену свою бей поутру и ввечеру, и вставая, и ложась, и за дело, и без дела и ссорься с нею каждый час. Не делай ей ни белья, ни платья; дома не сиди, таскайся по шинкам, да по чужим женам; то с женою и с детками скоро пойдете в нищие. А ты, дочка, мужу не спускай и ни в чем ему не уважай; когда дурак будет, да поедет в поле работать, а ты иди в шинок, пропивай последний кусок. Пей, гуляй, а он пускай голодует; да и в печи никогда не хлопочи; пускай паутиной заснуется печь; вот вам и вся речь. Вы не маленькие сами, сами разум маете (имеете), и что я вам говорю, и как вам жить, знаете.
А староста и крикнул:
– За такую науку целуйте, дети, отца в руку.
Поцеловавши, кланялись и матери также три раза. Мать не говорила им ничего; ей закон велит, благословляя детей, только плакать. После этого староста сел и сказал три раза:
– Христос воскресе! – а старики ему в ответ, также три раза:
– Воистину воскресе! Старосты говорят:
– Панове сватове! – а они отвечают:
– А мы рады слушать. Старосты говорят:
– Что вы желали, то мы сделали; а за эти речи дайте нам горелки гречи (славной), – а старики отвечают:
– Просим милости на хлеб, на соль и на сватанье.
После сего и посадили сговоренных, как обыкновенно, на посад[136], в передний угол. Отец сел подле зятя, а мать, известно, управлялась сама и блюда на стол подавала, потому что уже Марусе не должно было с посаду вставать. Старосты сели на скамейке, подле стола.
Покуда мать блюда носила, отец стал потчивать горелкою старост. Первый староста отведал, повертел головой, поцмокал, да и говорит:
– Что это, сватушка-панушка, за напиток? Сколько мы по свету ни езжали, а таких напитков и не слыхали, и не видали, и не пивали!
– Это мы такое для любезных сватов из-за моря придбали, – говорит Наум и просит:
– Вот нуте-ка, всю выкушайте. Сверху хороша, а на дне самый лучший смак!
Выпил староста, поморщился, крякнул, да и говорит:
– От этого сразу покраснеешь, как мак. Смотрите-ка, сватушка-панушка, не напоили ли вы нас таким, что, может, и на стену полезем?
– Да что вы это на нас нападаете? – сказал Наум. – Тут таки, что славное само по себе, а то еще вот что: шла баба от ляхов да несла здоровья семь мехов, так мы у нее купили, семь золотых заплатили да в напиток пустили.
А староста и говорит:
– Ну, что мудрое, так уж в самом деле мудрое! А ну, товарищ, попробуй и ты, да и скажи: пили ли мы такое в Туретчине или хоть и в Неметчине, да и в Рассеи не пивали сиеи.
Выпил и другой староста, так же прицмокивая, и тоже приговаривал, похваляючи.
Проговоривши все законные речи, стали потчиваться просто, со своими приговорками, а потом, только что стали ужинать, как отозвались девушки, коих Маруся еще днем просила прийти к ней на сговор, и, входя в хату, пели приличную песню.
Окончив песню, поклонилися да и говорят:
– Дай Боже вам вечер добрый и помоги вам на все доброе!
Старая Настя, такая радехонькая, что привел ее бог дождаться одним-одну дочечку просватать за хорошего человека, да еще и любимого ею, земли под собою не слышит, управляется проворно, – и где взялася у нее сила, даже бегает от стола к печи, и миски сама носит, и порядок дает – бросилась тотчас к девушкам-дружкам и говорит:
– Спасибо вам! Просим на хлеб, на соль и на сватание.
Да и усадила их по чину, от Маруси по всей лавке[137] да и говорит:
– Садитеся, дружечки, мои голубочки! Да без стыда брусуйте (кушайте), а ты, староста, им батуй (нарезывай)!
Так девкам же не до еды: одно то, что стыдно при людях есть, чтобы не сказали люди: вот голодная! Видно, дома нечего есть, так бегает по чужим людям, да и поживляется; вон видишь, как рот запихает! А другое и то, что надо свое дело исполнить – петь приличные песни. Вот они их и пели.
Как же развеселился Наум! Давай музыку да и давай! Негде деваться, побежала проворнейшая из всех девок, вот таки Домаха Третякивна, к скрипнику и призвала его. Батюшки! Поднялися танцы, да скоки, так что ну! Набралася полная хата людей, как услышали, что старый Дрот да сговорил свою дочку. То еще мало, что в хате, а то и около окон много было: так и заглядывают; а подле хаты девки с парубками танцуют, девушки ножками выбивают, парубки вприсядку танцуют, отец с матерью знай людей потчуют… Такая гульня была, что укрой боже! Чут ли не до света гуляли. Только Василь да Маруся никого не видали и удивлялися, что так скоро народ разошелся. За ласканьем да милованьем не приметили, как и ночь прошла.
Не дай бог человеку печали или какой напасти, то время идет не идет, словно рак ползет; как же в ра дости, то и не приметишь, как оно пробежит, как ласточка проплывет. Думаешь, один день прошел, ан гляди, уже и недели нет. Так было с Василем и с Марусею: все вместе да вместе, как голубь с голубкою. И в город, и на рынок, и под качели, и на огород все вместе себе ходят. И в монастырь на богомолье вместе ходили, и молебен пели, что обещалася Маруся, когда будет помолвлена за Василя.
Как бы то ни было, вот и проводы (Фомин понедельник[138]). В это время Василев хозяин высылает фуру, и Василю надо с кем выступать.
– Ох, нам лишечко! – сквозь слезы говорят обое, – мы же и не наговорилися, мы и не насмотрелися один на одного!.. Как будто сегодня только сошлися!
– Не плачь, Василечку, – говорит ему Маруся, – в дороге и не приметишь, как и Спасов пост[139] наступит: тогда воротишься сюда и будем всегда вместе. Смотри только, чтоб ты был здоров; не скучай и не вдавайся в тоску без меня. А я, оставшись без тебя, утро и вечер буду обмываться слезами…
– Полно ж, полно, моя перепелочка! Не плачь, моя лебедочка! – говорит ей Василь, прижимая к сердцу. – Пускай я на чужой стороне один буду горе знать, а ты, оставшись тут, будь здорова и весела да дожидай меня. А чтоб нам отраднее было, так прошу тебя: как взойдет вечерняя звездочка, то ты вспоминай меня, глядя на нее; в ту пору я с фурою буду отдыхать, гляну на ту звездочку и буду знать, что и ты на нее смотришь, то мне отраднее будет, как будто посмотрю в твои глазки, что как звездочки блестят. Не плачь же, не плачь!..
Вот так-то они в последние часы разговаривали и обое плакали беспрестанно! А когда уже пришло время совсем прощаться, так что там было!.. Когда уже и старый Наум так и хлипает, как малое дитя; а мать, смотря на слезы да на скорбь Марусину, даже слегла; так уже про молодых что и говорить!.. При прощаньи выпросила Маруся у Василя сватанный платок, что на сговоре ему поднесла, затем, чтобы иногда в дороге не потерял, и что она на платок, как будто на Василя, будет смотреть. Чтобы успокоить ее, Василь отдал, а она в тот платок положила орехи, те еще, что с самого начала Василь дал ей на свадьбе, завязала да и положила к сердцу и говорит:
– Тут будет лежать, пока ты воротишься и сам возьмешь.
Сяк-так, Василь насилу вырвался от стариков, а Маруся пошла его провожать. То было на самые проводы (в Фомин понедельник), и надо было идти чрез кладбище, где на могилах в тот день все поминают своих покойников. Вот Маруся взяла кутью, чтобы и своих помянуть. Положила вареную курицу, три связки бубликов, булку, два пирога да сверху пятикопеечный пряник; да взяла материн мешочек с деньгами, чтоб нищим раздать, а Василь с нею также нес в платке три десятка крашеных яиц.
Пришли на могилы, как пан отец священник уже и там и собирается служить панихиду. Маруся поставила к куче и свою кутью и поминальную грамотку батюшке подала, чтоб помянуть и ее родственников.
Смутная и невеселая Маруся все молилася и знай клала поклоны; как же запели дьячки: «Ни печали, ни воздыхания», так она так и зарыдала и говорит:
– Как ты воротишься, Василечку, то, может, на этом кладбище будешь меня поминать.
Василь даже вздрогнул от этих слов и хотел ее остановить, чтоб и мысль такую выкинуть из головы, так и у самого слезы невольно так и льются, а на сердце такая грусть упала, что дух ему захватывает! И сам не знает, отчего ему это так стало.
Отслужили панихиду, подала Маруся кутью пану отцу, а старцев божиих обделила крашеными яйцами и деньгами за Царство Небесное померших. Сели люди на могилах трапезовать и поминать родственников, а Марусе уже не до того, потому что Василь через силу едва проговорил, что уже пора ему идти к хозяину.
Батюшки! Как зарыдает Маруся! Да так и повисла ему на шею! Выцеловала его… что-то? И в глаза, и в лоб, и в щеки, и в шею… После, как будто кто ее наставил, разом оставила его, глазки засверкали… То была бледна, а тут зарумянилась; да так громко, как бы не она, сказала Василю без запинки:
– Василь! На кладбище меня оставляешь, на кладбище меня и найдешь… Благодарю тебя за любовь… Чрез нее я узнала счастье на земле. Поминай меня; не вдавайся в тугу… Прощай на веки вечные!.. Там увидимся!..
Это сказавши, не озираяся уже, пошла домой скоро, так легко ступая, как будто и к земле не дотрагивалась. А Василь? Его как гром поразил!..
Стоит как вкопанный… Потом горестно вздохнул, поднял глаза к Богу, перекрестился, положил поклон и, припавши на то место, где стояла Маруся, целовал землю вместо нее, боясь удерживать и самую мысль о том, что сказала ему Маруся, а после проговорил:
– Господи милосердый! Пусть я один все беды претерплю, пусть я умру, только помилуй Марусю! Дай нам пожить на этом свете… но в том да будет воля твоя святая! – Да и пошел тихим шагом к хозяину.
Давно ли наша Маруся была веселенькая, как весенняя заря, говорлива, как воробушек, проворна и игрива, как ласточка, – а теперь точнехонько как в воду опущена. Говорить, мало и говорит; сядет шить, да стегнула ли иголкою или нет, вывела ли нитку или нет, тотчас и задумается, и ручки сложит; пойдет в огород полоть, станет над грядкою, да хоть целый день будет стоять, ничего не сработает, пока мать ее не позовет; приставит обед, то либо в нетопленную печь, или забудет чего положить, либо все у нее перекипит, что и есть не можно; да до того довела, что – нечего делать! – взялася мать сама хлопотать. Часто ворчал на нее отец и ласково уговаривал, чтоб не тужила, чтобы в грусть не вдавалася, что грусть истребит ее здоровье, что она от того зачахнет, занеможет, и какой ответ даст Богу, что наивеличайшую милость Божию, здоровье, не умела сберечь и погубила его.
Что же? Только и речей:
– Таточко, батечко! И ты, матинка родненькая! Что ж мне делать, когда не могу забыть своего горя! Не могу не думать об моем Василечку! Свет мне немил, и ничто не развеселяет. Сердце мое разрывается, глядя на вас, что вы обо мне так сокрушаетесь, да что же я буду делать! Я и сама своей тоске не рада… Только у меня и мысли: где-то теперь мой Василь? Знаю, что день, что час, он от меня все далее, вот меня скорбь и душит! Не тревожьте меня, не беспокойте меня, как будто вы ничего и не видите; и не развлекайте меня, мне как будто легче, как я говорю на свободе и что никто мне не мешает.
Старики, посоветовавшись между собою, дали ей волю: пускай, говорят, как себе знает, так с собою и делает. Наградил ее Бог разумом; она и богобоязлива и богомольна, так ее отец милосердый не оставит. Пусть поступает, как знает.
Еще с того дня, как проводила Василя, не надевала Маруся никакой ленты; как навязала на голову черный шелковый платок, так и пошло; все черный платок, да и полно! То охотница была по воскресеньям да по праздникам в церковь ходить, а теперь и в буднишний день, как услышит, что звонят, то скорее и идет в церковь. Всякий божий день любимое место, куда было ходит, все в бор к озерам, где с Василем в первый раз ходила; сядет там под сосенкою, развернет платок, что Василь ей оставил, смотрит на него, да свои орешки перебирает в руке, да и поплачет… Как же только начнет вечереть, она уже и сидит подле хаты на завалине и высматривает вечернюю звездочку… Покажется она… тут Маруся тотчас станет так весела, так весела, что не то что!
– Вон он, мой Василь! – сама с собою разговаривает. – Он смотрит на эту звездочку и знает, что и я смотрю!.. Вот так блестят и его глазки, как было бегу к нему навстречу…
И тут уже ее, хоть зови, не зови, хоть что хочешь делай, а она и с места не пойдет и глаз от звездочки не отведет, пока она совсем не зайдет; тогда, тяжко вздохнув, скажет:
– Прощай же, мой Василечку! Ночуй с богом да возвращайся скорее к своей бедной Марусе.
Вошедши же в хату, перецелует всякой орешек и платок раз сотню поцелует, да, сложивши все, прижмет к сердцу, да так и заночует; а уж и не говори, чтоб спала хорошо, как должно!
Сяк-так, то с грустью, то с тоскою, прожила Маруся до Спасова поста; а к Успению, говорил Василь, будет неотменно. Хоть и не совсем Маруся повеселела, да все-таки как будто стала понемногу оживать. Она и дома прибирает, она и с отцом в поле; вот уже и Наум, смотря на нее, что она стала рассеиваться, и сам стал веселее и думает: «Слава тебе, Господи! Еще только Спасовка наступила, а уже Маруся совсем не та; как вновь родилась: вот-вот Василь приедет. Тогда забуду всю беду, скорее сделаю свадьбу, да и пускай себе живут». Когда куда едет по хозяйству, то и дочь берет с собою, чтобы ее лучше развлечь. Когда ж она иногда останется дома, то, управившись, идет в бор за грибами, да-таки так сказать, что день за день, да стала опять и к работе проворна и во всяком деле прилежнее, и что день божий, то все веселее, все рассчитывает:
– Вот Успение недалеко, вот-вот Василь возвратится.
Раз в пост, на третий день после Преображения[140], отдавши обедать и прибравши все, пошла в бор за грибами и уже никуда больше, как к тем же озерам. Напала на место, где много грибов было, да такие славные; и хоть бродила в воде, де насобирала их полное ведро и еще лукошко. Она еще их собирала бы, но как пошел же дождь, да проливной как с ведра, да с холодным ветром; а она была в одном набойчатом[141] корсете, и свиты не брала. Что ей тут на свете делать? И не говори, чтобы куда забежать да пересидеть дождь, потому что до села было далеконько, а дождь так и поливает! Негде деваться – надо бежать домой. Шла, а где и подбегала, да пока пришла домой, так одно то, что устала, а другое, измокла ужасно, так вода с нее и течет; а озябла ж то так, что зуб с зубом не сведет, так и трясется.
С бедою пополам добежала до дому. А дома ж то: мать старенькая и все себе больная, не смогла подняться с постели и в печи затопить. Беда, да и полно, нашей Марусе! Нитки сухой на ней нет, а негде обсушиться; озябла как будто зимой, а негде обогреться. Взлезла на печь, да как не на топленную, так еще пуще озябла. Покрылась тулупом, ничего! Так лихорадка ее и бьет!
Пришел и Наум, управившись с батраками. Некому ему и ужинать дать, да и нечего. Прежде было рассердился, а после, как расслушал, что ему Настя, стоная, рассказывала, так и замолчал. После взглянул на Марусю да даже испугался! Господи! Твоя воля! Сама, как огонь, горяча, а ее трясет так, что и сказать не можно!
Защемило сердце у нашего Наума! Подумал, подумал, да и стал Богу молиться. Это у него уже такое было правило: ежели хоть малая беда или радость ему какая, тотчас к Богу. Так и тут. Помолился, перекрестил три раза Марусю и лег себе. Прислушивается, чуть ли Маруся не заснула?
– Дай, Господи, чтоб заснула и чтобы завтра здорова была! Сказавши это, лег и заснул.
Только что в самую полночь будит его Настя, из всех сил толкает и говорит:
– Посмотри, Наум, что с Марусею делается? Стонет час от часу более… вот все крепче… даже кричит!..
Наум уже подле больной:
– Что тебе, Маруся! Чего ты стонешь?.. Что у тебя болит?..
– Таточко… Батечко!.. Ох… Не дайте пропасть… Колет… Ох, тяжко мне!.. Делайте, что знаете… ко… колет меня!..
– Где колет, Машечко?
– Вот… в бок… ох-ох!.. В левом боку… Помогите мне… Не вытерплю! Бросился Наум, высек огня, засветил свечу, и Настя уже встала; где-то и сила взялась! К Марусе… А она все больше стонет…
Что делать? И сами не знают. Сяк-так, старики вдвоем затопили печь, укутали Марусю шубами… Так кричит:
– Жарко! Не вылежу на печи… Положите меня на лавке… Ох, жарко мне!.. Ох, тяжко мне!.. Болит же бок… ох, болит!..
Скорее постлали на лавке. Взялись старики подводить Марусю… Она не сможет идти, старики не смогут ее вести… Тянутся, силятся, толкаются… Наум сердится, кричит на жену, что ему не помогает; Настя ворчит на него, что он дочку на одну ее клонит… Маруся стонет, плачет, а старики, глядя на нее, себе плачут.
Через превеликую силу дотащили Марусю, положили на лавке, укрыли рядном[142], потому что ей все было жарко; а сами стали советоваться, что с нею делать. Настя всё, чтобы бежать к знахарке, чтоб умыла, либо сказала; потому что это ей, может, сглаз; или пускай перепуг отнимает, или лихорадку отшепчет; пускай, что знает, то и делает. Так же Наум не то говорит, потому что он очень не любил ни знахарок, ни ворожей; что только они дураков обманывают, да с них денежки сдирают, а сами не могут никакого добра никому сделать, разве беду – так так! Вот он тотчас достал иорданской воды[143], да и велел Насте, чтоб тою водою натерла Марусе бок, где болит, и дал той же воды немного напиться, а сам подкуривал ее ладаном, помолился с Настею Богу… Как вот Маруся приутихла и стала как будто засыпать. Старики от радости уже хотели тушить огонь и сами ложиться… Как тут опять Маруся не своим голосом закричала:
– Ох, лишечко! Колет меня, колет в бок, печет… Ох, тяжело мне! Батиночко родненький! Матиночко моя, голубочко! Ратуйте (спасайте)!.. Помогите мне… Смерть моя… не дает… мне дышать!..
Видит Наум, что совсем беда, надо что-нибудь делать. Схватил шапку, побежал к соседке, разбудил, попросил ее, чтобы шла скорее на помощь к Насте; пока управился, пока довел ее до двора, как уже и светает. Не заходя домой, пошел в город. Был у него знакомый, приятель цирюльник, да еще Марусин и кум; она у него трех девочек крестила; так к нему-то он пошел советоваться, что надо делать; а когда можно, так чтоб и сам пришел да посмотрел на болящую.
Так-то старому скоро и дойти! Идет и, кажется, все на одном месте; станет поспешать, задыхается, ноги не служат, хоть совсем упасть. Жалеет Наум, что не разбудил кого из батраков, спавших на гумне, в соломе; так что ж? Хоть бы и скорее дошел, так не умел бы так всего рассказать; а как бы цирюльник не захотел идти, то батрак не умел бы его и упросить, как сам отец.
Солнышко поднялось, когда Наум добрел к цирюльнику. Пока его разбудили, потому что он был себе уже богат, а через коровью оспу[144] стал уже ходить в таком кафтане, как и господа; так надо туда же за господами долго утром спать. Вот, пока согрели ему самовар, пока он напился того чаю, закуривая трубкою, как наш исправник[145], пока-то, потягиваясь, вышел к Науму, так уже было довольно светло. Да уж за то спасибо, что, как расспросил, чем больна Маруся, так вдруг и собрался, схватил скорее что-то за пазуху, да взял склянку с чем-то, да и говорит:
– Наум Алексеевич! Худо дело, надо поспешать как можно. Не поскупись нанять извозчика. Мне ничего проходиться, да нужно поспешать.
Наум тотчас бросился, взял извозчика, и что есть духу поехали с цирюльником домой.
Как осмотрел цирюльник Марусю, так даже зацмокал. Стал ее расспрашивать, где и как у нее болит? Так она за кашлем и слова не скажет. Цирюльник покачал головою, да и говорит себе тихонько:
– Овва! Худо дело!
А Наум, это услышавши, да и руки опустил…
Бросился цирюльник и как можно поспешает, да и бросил ей кровь из руки, после развязал склянку, а там все пиявки, да и припустил их к боку. Пока то да это делалось, Наум так, что ни живой ни мертвой; то пойдет, то станет, то сядет, да все, вздыхая, руки ломает; а пуще то его смутило, что цирюльник был невесел. А Настя? Бедная Настя! Та и нужды нет. Она там около Маруси и помогает, и держит, и что надо делает, и так справляется, что как будто и не была больна. Так-то, великое горе и беда как постигнет, то уже меньшее и забудешь и не уважаешь его.
Управившись, цирюльник вышел в сени отдохнуть. Наум пристал к нему с расспросами.









