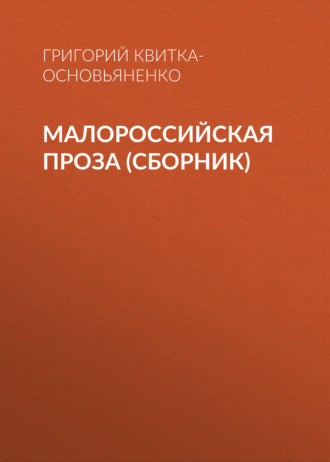 полная версия
полная версияМалороссийская проза (сборник)
– Худо дело! – сказал ему цирюльник. Наум так и бросился ему в ноги и плачет и говорит:
– Приятель мой, Кондрат Иванович! Делай, что знаешь, только не погуби моего дитяти!.. Не положи меня живого в могилу!.. Век буду родным отцом звать! Бери у меня, что хочешь, бери все имение… Только спаси Марусю!..
Цирюльник даже заплакал и говорит:
– Друг мой, Наум Алексеевич! Разве же мне не жаль своей кумы! Что бы то я делал, чтобы вылечить крестную мать моих деток! Да как нет Божьей воли, так наш брат, хоть с десятью головами, ничего не сделает!
– Так моей Марусе не жить? – даже вскрикнул Наум.
– Один Бог знает, – сказал цирюльник да и пошел опять к больной. Посмотревши на нее и подержав за пульс долго, говорит:
– Молись, Алексеевич, Богу! Когда заснет, то не об чем и тужить. Вот тихонько все и отступили от нее, чтоб ей не мешать спать…
Так куда ж то! Только что как будто стала дремать, как поднимется кашель, да пресильнейший, так и подступает к груди и дышать ей, сердечной, не дает; а тут и в бок снова начало колоть.
Долго того рассказывать, как она три дня так страдала! Что цирюльник таки лечил, а то еще он и немца привозил; и тот и пластырь к боку прикладывал, и чего-то уже не делал… Так нет легче, да и нет! И что далее, то еще хуже было.
Наум давал им волю: что хотели, делали. А сам, запершись, все Богу молился, бросится на колена, руки ломает и, как положит поклон, да с полчаса лежит и все молится:
– Господи милосердый! Не осироти нас! Не отнимай от нас нашей радости! Лиши меня всего имущества, возьми меня, старого, немощного, возьми меня к себе…
Потом и прибавит:
– Но да будет воля твоя святая со мною, грешным! Ты все знаешь, ты и сделаешь все лучше, нежели мы, грешные, располагаем.
Приступит к немцу, просит, руки ему целует… Вынес шкатулку с деньгами, а в ней, может, было ста три рублевиков, и просит:
– Бери, говорит, сколько хочешь, все деньги возьми, все имение возьми; всего лишусь, в нищие пойду – только вылечи мое дитя: она у меня одинешенька… Без нее к чему и мне жить? Не будет мне никакой радости!.. Кто меня досмотрит?.. Кто?..
Да так и зарыдает.
Нужды нет, что немец, да и он заплакал, и хоть бы копеечку взял. В последний раз, как был и опять чего-то ни делал, а потом сказал:
– Ничего не можно сделать! С тем и поехал.
Молился Наум, молился – и как-то уже плакал! Так и обливается слезами. После вышел из комнаты, посмотрел на Марусю, видит, что она как та свеча догорает, перекрестился и в мысли говорит себе:
– Господи! Твоя воля святая! Прости нас, грешных, и научи, что нам творить и как тебе повиноваться!
Да с сим словом и пошел.
Идет и за слезами света не видит. Позвал священника; тот даже удивился, что такая здоровая девка, три дня как заболела, а уже и на Божией дороге.
Пока священник пришел со святынею, Наум воротился и, крепясь, чтоб не плакать, через великую силу говорит Марусе:
– Доню! Причастим тебя; не даст ли Бог скорее здоровья!
– Я этого хотела просить… да боялась вас потревожить… И уже здоровье!.. Разве спасения души… когда б только скорее!.. – едва могла это проговорить Маруся.
Бросилась Настя, прибрала хату и сени, а Наум затеплил свечу и ладаном покурил, как вот и батюшка пришел.
Пока Маруся исповедовалась, Наум с Настею и кто еще был из соседей вышли в сени. Вот Настя и говорит мужу:
– На что ты ее так потревожил? Она теперь подумает, что уже совсем умирает, когда призвали священника?
– Что же, старуха, будем делать? – тяжело вздохнувши, сказал Наум. – А каково ж было бы, как бы она умерла без покаяния?
– Да что же ты, старый, говоришь? Где ей еще умирать? Еще только сегодня четвертый день как порядочно занемогла.
– Але! Четвертый! У Бога все готово: его святая воля! То я еще скорее ее умру, нужды нет, что она уже на ладан дышит, – сказал Наум, да и отошел, горько заплакавши, и говорит себе тихонько:
– И когда б то Господь послал свою милость!.. Воля твоя, Господи! Задумалась и Настя, да и размышляет:
– Правду ли же то Наум говорит? Как-таки, ни горевши, ни болевши, да и умирать? Хоть бы недели две проболела, а то…
Тут кликнул священник, чтобы все вошли в хату, будет ее приобщать. Наум, сам чуть живой, еще смог подвести ее до Святого причастия… Маруся приняла тайны Христовы, как ангел Божий! Потом легла, перекрестилась, подвела глаза вверх и весело проговорила:
– Когда мне… такая радость здесь… после Святого причастия… что же будет в Царстве Небесном? Прими и меня, Господи, в Царство твое Святое!
Священник, посидевши и поговоривши из Писания, пошел домой.
Немного спустя, что у Маруси кашель как будто бы перестал, и она уже хотя и не стонет и будто бы спит, так в горле стало крепко хрипеть, а в груди как будто клокочет… Вот Настя и говорит старику:
– Да, ей-богу, она не умрет, видишь, ей легче стало.
– Молчи да молись Богу! – сказал ей Наум, а сам даже трясется. – Теперь, – говорит, – ангелы святые летают над нею. Страшный час тогда настает, как праведная душа кончается. Нам, грешным, надо только молиться Богу!
– Господи милостивый! Ты сам боишься, да и меня пугаешь, – так говорила Настя, не примечая своего несчастья, а Наум все хорошо видел и знал, что к чему и после чего что идет, да и говорит:
– Если б то Бог милосердый сотворил такое чудо!
Потом затеплил страстную свечу[146], поставил перед образами, а сам пошел в комнату… и что-то уже молился! Куда-то ни обещал идти на богомолье! Сколько имущества раздать на церкви, нищим…
Как вот Маруся довольно-таки громко проговорила:
– Таточко!.. Матинко!.. А подойдите ко мне…
Вот они и подошли. Наум видит, что Маруся совсем изменилась в лице: стала себе румяная, как заря перед восходом солнца; глаза, как звездочки, блестят; весела, и от нее как будто сияет. Он знал, к чему это приходит, вздрогнул весь, скрепил сердце, а слезы знай глотает да мыслию только так помолился:
– Час пришел!.. Господи! Не оставь меня!.. Маруся им и говорит:
– Батечко, матинко, мои родненькие! Простите меня, грешную!.. Попрощаемся на сем свете… пока Бог сведет нас вместе в своем царстве.
Тут стала им руки целовать; а они так и разливаются, плачут и ее целуют. Вот она и говорит им опять, да так приятно и с веселою улыбкою:
– Благодарю вас, мои родненькие, что вы меня любили… и лелеяли… Простите меня; может, когда вас не послушала… или сердила… Мне Бог грехи простил… Простите и вы! Не печальтесь очень обо мне; это грех… Помяните мою грешную душу… Не жалейте имущества; все земля и пыль… Полно же, полно, не плачьте… Видите, как я весела!.. Там мне будет очень хорошо!.. Когда-нибудь надобно же было умереть… Мы недолго будем розно; там год, как часочек… Видите, я не жалею за вами, потому что скоро увидимся… Васи… ох! Василечка моего, когда увидите, скажите, чтоб не грустил… Скоро увидимся… Я его очень, очень любила!.. Орешки мои, когда умру, положите мне в руку, а платок… возвратите ему!.. А где вы? Я что-то вас не вижу… Таточко! Читай мне… громко молитвы… а ты, матинечка, крести меня… по… бла… госло… ви… те же ме… ня…
Наум стал читать молитвы, а Маруся силилася, но не смогла за ним и слова сказать. А он, что проговорит слово, то и зальется слезами! Переплачет и опять читает. Настя перекрестила ли раза два, да и изнемогла, и тут же упала. Соседка дала Марусе в руки свечу и уже насилу расправила пальцы, потому что окоченевала уже… Вот уже и дыхания ее не стало слышно… Наум поклонился, да над ухом ее громко читает: «Верую во единого Бога» да «Богородицу»… Как вот вдруг она, глядь глазами, да и сказала громко:
– Слышите ли вы?.. Что это такое?..
Наум упал на колена и говорит:
– Молитеся все! Ангелы прилетели за душою ее! Потом Маруся еще спросила:
– Видите ли вы? – да и замолчала… Вздохнула тяжело, проговорила: – Мати Божия! Приими…
И успокоилася навеки!..
Наум вскочил, всплеснул руками, поднял глаза вверх и стоял так долго. Потом упал перед образом на колена и молился:
– Не оставь меня, Господи, отец милосердый, в эту тяжкую годину! Целый век ты меня миловал; а на старости, как мне надо было в землю ложиться, послал ты мне такое тяжкое горе! Укрепи меня, Господи!.
Бросился к Марусе, припал к ней, выцеловал ей руки, щеки, шею, лоб, все приговаривая:
– Прощай, моя донечка, утеха, радость моя!.. Увяла ты, как садовый цветочек, засохла, как былинка! Что я теперь без тебя остался? Сирота, пуще малого дитяти. Об дитяти жалеют, дитя присмотрят; а меня кто теперь приглянет?.. Теперь ты в новом свете, между ангелами святыми; знаешь, как мне тяжко, как мне горько без тебя; молись, чтоб и меня Бог к тебе взял… Закрываю твои глазочки до Страшного суда!.. Не увижу в них больше своей радости! Складываю твои ручки, которые меня кормили, прибирали, обнимали…
Он бы и долго около нее убивался, так тут соседка подошла и говорит:
– Пусти, дядюшка! Ты ее уже не подымешь, а вот пришли девушки убирать Марусю; ты иди да давай порядок; видишь, Настя бесчувственная тоже лежит.
Наум стал над Настей, опять горько заплакал да и говорит:
– Вставай, мати! Дружечки пришли; пускай убирают к венцу нашу невесту, а я пойду приготовлять свадьбу!..
Пришедши к священнику, не мог и слова сказать, а только так плачет, что и господи! Священник тотчас догадался, да и говорит:
– Царство ей Небесное! Праведная душа была, упокой ее, Господи, со святыми!
А помолившись, стал, пока сошлися дьячки, успокаивать Наума; потом вошли в церковь; священник служил панихиду и по душе велел звонить на Непорочны[147], как по старом и почетном человеке; да и постлал сукно, ставник[148] и велел читать над нею псалтырь.
Вошедши Наум в церковь, так и упал пред образами да и молился, что-таки за упокой души своего дитяти, а то-таки все взывал:
– Господи милосердый, дай мне разум, чтоб я при такой тяжкой беде не прогневал тебя не только словом, но ниже мыслью!
Как же запели «Вечную память», так и сам почувствовал, что ему как-то стало легче на душе, и хоть и жаль ему дочери, что уже и говорить – крепко жаль! – да тотчас и подумает:
«Воля Божия! Она теперь в царстве; а за такое горе, что мы теперь терпим, Бог и нас сподобит с нею быть».
Бодро дошел до дому. Уже Марусю одели и положили на лавке, подле окна. Стал Наум над нею, помолился, сложил руки накрест да и начал говорить:
– Доненька моя милая! Марусенька моя незабытная! Что же ты не глянешь карими своими оченьками на своего батеньку родного? Что же не бросишься обнять его ручками?.. Что же не проговоришь к нему ни словечка?.. Ты же меня всегда так встречала… а теперь… закрыла свои глазоньки, пока узришь Господа на Страшном суде; сложила ручки, пока с держимым теперь тобою крестом выйдешь из гроба навстречу ему; скрепила уста, пока с ангелами не станешь хвалить его!.. На кого же ты нас оставила?.. Взяла наши радости с собою; кто нас будет веселить такою добротою, как ты?.. Кто нас, как былинок в поле, будет присматривать?.. Кто уймет наши горючие слезы?.. Кто оботрет нам запекшиеся уста?.. Кто в болезни промочит нам засохший язык?.. Не повеселила ты нас, живучи со своим Василем!.. Не порадовала нас своею свадьбою!.. Берешь свое девство в сырую землю!.. Зато подруженьки украсили твою русую косу, как к венцу: ленточки на голове навязаны… цветочками убраны… и с правой стороны тоже цветок; пусть люди видят, что ты девою была на земле, девою и на тот свет идешь…
Какой собрался народ, а его таки была полнешенькая хата, и в окна многие смотрели, так все навзрыд и плачут!.. Да и как можно было утерпеть, глядя на человека, что совсем в старости, седого как лунь, немощного, стоит над своим дитятею, что одним-одна была ему на свете, и ту пережил, и ту в самом цвете хоронит, а сам остается в свете со старостью, с недугами, с горем, один себе со старухою до какого часа!.. Какая их жизнь уже будет!.. Да что и говорить! Да какое же еще и дитя! Если бы уже какая-нибудь, так себе, так бы и сюды, и туды; а то ж девка не то что на все село, да вряд ли где и близко была ли такая? Богобоязливая, богомольная, ко всякому делу прилежна, послушная, покорная, учтивая, тихая, разумная, а что уже красивая, так уже нечего и говорить. И что-то: кто и знал ее, кто и не знал, то всяк любил и уважал; и как услышали, что она умерла, то все, и старые, и молодые, и малые дети, все жалели об ней, и сбежались смотреть на нее, и тужить по ней.
О старой Насте уж нечего и говорить: не смогла она не только что порядок давать, да и с места не вставала: все сидела подле покойницы и уже не плакала, потому что и слез не стало, а только вздыхала и ни полслова не могла, оплакивая, приговаривать[149].
Послушав псалтырь, что дьячок читал, Наум сел подле своей старухи, да и говорит:
– Что, старуха? Управились мы с тобой? Собирались свадьбу играть, как вот похороны! Ох-ох-ох!
– Это нам за грехи наши Бог наказание послал! – сказала ему Настя.
– За грехи, – сказал, подумавши, Наум, – есть ли такое наказание, чтоб нам можно бы удовлетворить за наши грехи?.. Что день, что час, мы тяжко согрешаем пред Господом нашим; так чего же мы достойны?.. Как бы отец наш небесный поступал с нами не по милосердию, а по правде своей святой, так мы бы и давно недостойны и на свет смотреть. Меры нет милосердию.
– Зачем он взял от нас одну нашу радость?.. Что мы теперь будем?
– Зачем? Глупая, глупая! Зачем взял? Чтоб дитя доброе, за доброту и ему милое, поживши в этом злом свете, да видевши других, не пошло вслед за теми, кои не по его воле поступают: чтоб не стала и она такою, каких он не любит. А за худое и злое дитя Бог карает отца и мать; так мы и были бы за нее в ответе. А теперь, если наше дитя было доброе, зато и нам что-нибудь Бог из грехов простит.
– На кого же мы теперь остаемся? И кто нас в старости да в немощах присмотрит? – еще-таки спросила Настя.
– И я тоже думал с первого часа, – говорит Наум, – а после, по моей молитве, Бог такую мне мысль послал: не было у нас дитяти, сами по себе жили, будем и без нее. Ты скажешь: тогда были молоды да здоровы, а теперь старые, не сможем работать на себя… Настя, Настя! И в молодые лета не сами по себе мы и жили, и работали, и пропитались – Бог нам помогал; он же нам и теперь не даст погибнуть. Поживем еще, потерпим еще за грехи на сем свете; по его воле придет и наша година. Ты мне закроешь глаза, а тебя тогда, круглую сироту, в беде еще и лучше не оставит тот, который и малейшую мушечку призирает, да и соберет нас вместе, и наша Маруся нас там встретит. Когда же нибудь настанет этот час; не сто лет будем тут бедствовать… Да хоть бы и сто лет, хоть бы и больше, и хотя бы еще горшую беду нам Бог послал – если еще горше этой! – так может ли все то сравняться против того, что нам будет у Господа милосердого и где теперь наша Маруся? Полно же, полно, не плачь, да давай порядок. Живое думает, так и мы: надо все приготовить, как прилично и как только можем мы устроить и за душу, и за славу нашей Маруси.
Стало к вечеру. Под навесом знакомый маляр красит гроб, да что за славный гроб! Дубовые доски, да толстые, да сухие, словно железо, да и сделано чисто, как столярной работы, потому что и мастера, что его делали, жалея об Марусе и любя Наума, делали его со всем усердием; а как еще маляр вычернил его, да на крыше намалевал крест святой, да кругом написал слова всякими красками, в головах ангела Божьего, а в ногах изображение смерти, с костьми, да так живо, что как настоящая смерть, так такой гроб! Хоть бы и всякому доброму человеку привел Бог такой иметь. В хате и в комнате женщины приготовляли: то муку сеяли, то тесто месили, то лапшу крошили, то птицу резали; а народ то подле мертвой, то подле открытого окна, что над нею, смотрел; а старики от горя так уже изнемоглися, что даже слегли… Как вдруг крик! Кто-то крепко застонал, даже закричал… Народ за окном тоже крикнул: «Василь, Василь!» – и расступился. Наум, услышавши это, вскочил… Глянул в окно… Лежит бедный Василь подле окна, точно мертвый совсем…
В то время, как звонили по душе Марусиной, ехал мимо церкви сердечный Василь и как можно поспешал к хозяину с радостью, потому что все сделал, как только лучше можно было, и вез ему великие барыши. Как едет – и слышит, что звонят: вздрогнул крепко, как будто ему кто снегу за спину насыпал, в животе стало холодно, и на душе такая скорбь пала, что и сам не знал, что он такое стал. Перекрестился и сказал:
– Дай Бог Царство Небесное, вечный покой умершему! – а сам погнал лошадей, чтоб скорее отдать отчет хозяину, да и к Марусе, и чтобы уже с нею не разлучаться до самой свадьбы.
Так вот какую свадьбу нашел Василь! А как увидел свою Марусю, вместо того, чтобы сидеть на посаде, лежащую на лавке под церковным сукном; хоть и убрана, и украшена, да не к венцу с ним, а в могилу от него идти! Как такую ее увидел, вскричал жалобно, застонал, побледнел, как смерть, да тут же и упал как неживой!..
Насилу и на великую силу спасли его. Уж и водою обливали и трясли… Так вот он глянул, обвел кругом глазами, да и сказал тихо:
– Маруся!.. Где моя Маруся?..
– И уже, мой сын, Маруся ни твоя, ни наша – Божия! – стал ему Наум говорить. – Оставила нас! Василь сидит, как окаменелый, и не видит, и не слышит ничего. Вот Наум подумал, видит, что его надобно разжалобить, чтоб только он заплакал, то ему и легче будет; вот и стал к нему говорить… Да как уже жалобно говорил, что я подумать так нельзя, как он ему все рассказывал! Как его Маруся любила, как грустила за ним, как заболела и, умирая, что поручила ему сказать… Василь, слушавши, как заплачет… зарыдает! Как бросится к ней… Припал, целовал ей руки… и не выговорит ничего, только:
– Маруся!.. Моя Марусенька!..
То оставит ее, плачет, то убивается да опять к ней… А народ таки весь… да что то, и малые дети, так и рыдают, глядя на него и на стариков, что и его оплакивают, как мертвого.
Вот так все было до вечера. Народ помаленьку разошелся, и уже ночью Наум, изнемогши совсем, немного вздремал. Пробудился, смотрит, что Василь и не думает отойти от умершей, стоит подле нее на коленях, да знай руки ее целует, да что-то приговаривает с горючими слезами. Вот Наум ему и говорит:
– Отдохни, сын, хоть немного! Завтра тебе тяжкий день будет; соберися с силою. Видишь, я и – уж мне больше ее жаль – да я таки немного вздремнул, чтобы хоть мало голове легче было.
– Вам ее больше жаль? – говорит Василь. – Да как это можно и подумать? Я ее любил во сто раз больше, нежели вы.
– Уж этого не можно рассудить: ты говоришь, что ты больше, а я знаю, что я ей отец, стар человек, и уж у меня дочери не будет; а ты себе, как захочешь, невесту и завтра сыщешь…
– Отец, отец! – жалобно сказал Василь. – И вам не грех так говорить!.. И в какую пору, и в каком месте! – После посмотрел на него грозно из-под бровей, да и стал, как будто не в своем уме, сам с собою разговаривать:
– Их правда… Скоро, скоро посватаюсь… да и женюсь… Соберетесь на свадьбу… Да не зовите попа… а может… нужды нет…
Слушая такие его речи, Наум крепко испугался, подумав, нет ли у него намерения, чтоб – сохрани Бог! – самому себе смерть причинить; стал его развлекать и рассказывать, какой это смертельный грех, чтобы против Божией воли искать смерти, и что такая душа не прощена от Бога в веки вечные. Потом стал его научать, чтобы молился Богу и чтоб положился на милость его… И много кое-чего ему доброго говорил, потому что был очень умный, хоть и читать не учился, а в беседе частенько и священник не знал, что против него говорить; а дьячок так и в речь с ним не смел вступать.
Василь на все его речи стоял молча: то усмехнется, то насупится, то забормочет:
– Молиться? Молитесь вы?
А сам, видно, свое думал. Наум же, говоривши ему долго, подумал:
«Что ему теперь толковать? Он и себя не помнит. Пускай на свободе примусь за него и растолкую, чтобы иногда не погубил души своей».
Как только немного обутрело[150], тотчас собралися нужные люди во двор Наума, среди двора разложили огонь, женщины стали заниматься своим: приготовили котлы и горшки и варят в них борщи, лапшу, квасок, жареное мясо режут кусками; а там кутью в миски накладывают; да сытою[151] разводят; горелку в бутылки разливают, чтоб потчивать; ложки перемывают, миски готовят; мужчины доски кладут, где сидеть и на которых обедать, и все готовят, как должно, чтоб и людям пообедать, и нищих накормить.
Стал день. Заблаговестили в большой колокол поважно, обыкновенно, как на сбор. Господи! Как повалил народ, так видимо-невидимо! Что из своего села, а то из города поприходили и понаехали; да были-таки и господа, чтобы видеть, как по старинному обряду, что уже теперь редко и употребляется, будут хоронить девку.
Как перестали звонить, вот от церкви несут святой крест и хоругви, за ними носилки, а там идут три священника и четвертый диакон, да все в черных ризах; а дьячков так десятка два. За народом же насилу протолпились к хате.
Наум, видевши, что все уже готово, стал отбирать людей; кого дружком, кого в поддружие, кого в старосты, женщин в свашки, и все по двое; девчонку взял в светилки[152], двенадцать парубков в бояре[153], а жениха не нужно было выбирать, потому что Василь, настоящий ее жених, был налицо.
Вот как отобрал всех, то и стал им кланяться и просит:
– Люди добрые, соседи любезные! Панове старики, жиночки пан матки, и вы, парубочество честное, и ты, девочка молоденькая! Не откажитесь послушать меня, старого, отца несчастного (а сам так и рыдает). Не привел меня Бог – воля его святая! – дочь замуж отдать, и с вами, приятелями, хлеб-соль разделить и повеселиться, а сподобил меня, грешного, отдать ему единственную дочь, чистую и непорочную, как голубя белого. Собираюсь теперь похоронить ее девство, как велит закон и как слава ее заслужила. Потрудитесь за нею пойти в почете, проводите ее девство на вечную жизнь, не в новую хату и не до милого мужа, а в темный гроб и в сырую землю! Утешьте меня своим послушанием, и меня, старика, отца скорбящего, что свою утробу… – да хотел поклониться, да и упал на землю, и горько, горько зарыдал, а за ним и весь народ плачет.
После, вставши и отдохнувши, говорит:
– А где старая мать? Пускай раздает подарки сватам да снаряжает поезд.
Вот позвали Настю, а вместо нее поставили другую женщину, чтоб голосила над покойницею да приговаривала до какого времени нужно.
Не сама вышла Настя к почетным, а вывели ее, потому что уже совсем не могла. За нею вынесли сундук с подарками и открыли. Вот Настя прежде всего подозвала к себе девок, да и говорит:
– Не порадовалась моя душа, чтобы видеть, как моя милая Марусенька, ходя по улице, да собирала бы вас в дружки на свою радость, а привел меня Господь самой в старости, горькими слезами обливаясь, просить, чтобы проводили девство ее до темной могилы. Не досталося мне слышать ваших свадебных песен к моей Марусе, и вместо того увижу ваши слезы, что со мною станете проливать, как запоют «Вечную память»! Не прогневайтесь, что вместо свадебных пряничков или каравайных шишек дает вам мать несчастная, горькая, дает восковые свечи. Затеплите их, проводите мою Марусеньку и ведайте, как горят ваши свечки, так горит мое сердце от скорби великой, хороня единственную дочь – утеху мою… А сама остаюся в старости, как былинка в поле, и слезами умываюсь.
Тут и раздала им гривенные свечи и все зеленого воску.
Потом вынула тот рушник, широкий да долгий, да что-то уже хорошо был вышит и что должен бы подостлан быть при венчанье под ноги молодым; тот навязали на святой крест, большой, что впереди носят.
А там перевязали дружка и поддружего прежде рушниками длинными, от плеча даже до земли, да все с вышитыми заполочью орлами да цветами; а потом и другими накрест белого полотна, длинными, аршина по четыре, и все обшиты. Такими же рушниками перевязали и свашек, да им еще прикололи к очипкам по цветку. Старост также перевязали рушниками, по одному, да хорошему. Светилке сделали меч, как на свадьбе бывает; навязали ласкавцев, чернобривцев[154], васильков, позолоченной шумихою калины и свечу ярого воска зажгли; мечь обвязали и светилку перевязали рушниками, также хорошими и все вышитыми. Боярам нашили на шапки шелковые цветы и правые руки перевязали платками, все бумажными, красными, как один, что рубля по полтора каждый. Тот платок, тоже бумажный, что располагали молодым руки при венце связать, тот отдали на серебряный крест, что священник в руках несет; а таки, кроме того, каждому священнику и диакону на свечки дали бумажные платки синие и всякому дьячку дали по простому платку. Ковер большой, да хороший; положили на крышку гроба, а другой, коц, важный, с разводами и в средине большой орел, так тот положили на носилки под гроб; и чтобы всё то пошло на церковь Божию за душу умершей.
Потом Настя стала раздавать из сундука все, что было: что девичье – плахта ли, или запаска, рубашки, платки или что-нибудь такое – раздавала убогим девкам да сиротам, что ни отца, ни матери и что им негде взять; а женское, то серпянки, то белые очипки, то платки на голову, что было приготовлено для ее дочери, таким же женщинам, вдовам, все убогим, так что, какой то был большой сундук и полнехонький, так хотя бы что-нибудь осталось: все раздала и сундук отдала на церковь Божию; и перины, и подушки, и рядна – все сбыла за Царство Небесное Маруси и за душу свою и Наумову; а потом и говорит, перекрестившись:









