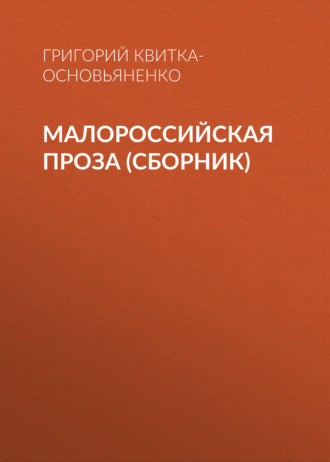 полная версия
полная версияМалороссийская проза (сборник)
Тут снова приступили и дети плачучи, и старая Настя рыдаючи, и старосты кланяючись, да знай просят Наума…
Молчал он, молчал, только знай слезы глотает. После встал, вздохнул горестно, перекрестился перед Господом милосердым да и говорит:
– Одна у меня на свете радость – моя Марусенька! Каждый день молюсь, чтобы она была счастлива; так как же, помолившись об одном, сам буду делать другое; молившись об ее счастье, сам буду ее топить. Прощайте, панове-сватове! Коли хотите, то вправду выкушайте по чарке; когда же нет, то извините, дайте и мне покой, потому что… Ох не хотелось было этого говорить, да вы меня разжалобили!.. Потому что мне очень жаль, что лишаюсь Василя, да нечего делать. Прощайте, люди добрые, идите себе, не прогневайтесь!
Тут опять все приступили к нему, что когда, говорят, любишь Василя, так почему не отдаешь за него Маруси? Маруся же так и повисла отцу на шею и обмывает его слезами; а Василь тоже припал на колена, да горько плачет, да все просит.
– Але! Зачем не отдаю? – сказал Наум, вздохнувши. – Потому что жаль своего рождения. Не тотчас; при таком важном деле, как есть сватовство, не можно всего говорить. Приди, Василь, завтра, да сам, без людей; вот тут я тебе все расскажу. Больше нечего и говорить, прощайте! Вот вам и хлеб ваш святой!
Хотели ли или не хотели, а, взявши свой хлеб, назад пошли из хаты с Василем; или так сказать, что повели его, потому что он сам не смог идти.
Остался Наум со своей семьею, сел себе и горюет. Маруся даже слегла от слез, а Настя, плачучи, сидела над нею и удивлялася: что это старому сделалося, что вдруг охулил Василя? Об ужине никто и не думал: некому было приготовлять, и никто не хотел ничего есть.
Вот сидел Наум, сидел, думал да думал, а после и отозвался:
– Полно плакать, Маруся! Встань да слушай, о чем я буду спрашивать. Наум был не тот отец, чтоб Маруся могла его не послушать. Смогла ли или не смогла, а когда отец говорит без шуток, да чуть ли еще и не сердит, так надо встать. Встала, отерла слезки и ждет, что он ей скажет.
– Ты, видно, знала Василя еще прежде, нежели я его привел?
– Знала, пан отченьку! – И затряслась, как осиновый листочек, и опустила свои долгие ресницы на глаза, чтоб не видел отец, как ей стало стыдно.
– Как же это было? – спросил он ее грозно.
Тут Маруся, хотя и с запинкою, а рассказала ему все: как увидела его в первый раз на свадьбе, как ей стало его жаль, как он гадал с нею орехами, как она его стыдилася, и все, как рассказала: как, и на рынок идучи, сошлися, как с рынка возвращалися, что говорили – и нельзя было правды скрыть – как и целовалися…
– Ну, ну! Что дальше? А начало хорошо! – говорит Наум, а сам и видно, что как на ножах сидит.
Вот Маруся, сплакнувши, смелее стала было рассказывать, как условилися с ним сойтися в бору на озерах, и как сошлись, и как…
– Полно, полно! – закричал не своим голосом, рассердившись, Наум, – то уже рассказывай матери, что не умела тебя беречь и от худа отводить! – А сам, схватив шапку, хотел было бежать из хаты, но Маруся так и вцепилася ему за шею и говорит:
– Нет, таточку! Нет, мой сизый голубчик! Не погубила себя твоя дочь и не погубит. Маточка моя родненькая! Лучше мне всякую муку принять; на смерть пойду, а не принесу тебе никакого бесчестья ни для какого пана, ни для какого генерала; я помню ваши молитвы; я знаю, что я ваша дочь: так можно ли, чтобы я на свою погибель шла? Вот как все дело было.
Тут она и рассказала, что себе с Василем говорила, и как у них там было, и как она запретила Василю ходить к себе, и для чего. Рассказала и то, как скучала и тужила без него. Все рассказала, как что было до последнего часа.
Наум еще-таки спросил:
– Смотри – полно, всему ли этому правда и не потаила ли ты чего?
– Всю правду вам сказала; и что ничего не потаила, так, когда велишь, тато, чтоб побожилась, то, как хочешь, так и побожуся.
– Великий грех, – говорит Наум, – божиться, а еще пуще, как напрасно; я же тебе и без божбы верю. Теперь слушай меня, Маруся! Не раз тебе говорил, что девкою тебе оставаться не можно, надо идти замуж. Приказывал тебе, что только кого полюбишь, тотчас скажи мне прямо: а я, рассмотрев, кто бы это был, так бы и оканчивал дело. Когда бы он мне не годился, то я сказал бы тебе: не надо, не знай его; а когда бы годился, то ему прежде всего сказал бы так, что и ты бы не знала: присылай, казак, за рушниками, потому чтобы пока до сговора, так чтоб не было у вас никакого жениханья[116], которое до добра не доводит. Счастье твое и наше с Настею, что Василь такой честный и богобоязливый; а другой, ты бы и не опомнилась, как навязал бы тебе камень на шею, что и вовек не избавилась бы от него, разве бы только с моста да в воду. Как бы я знал с самого начала об Василе, то я сказал бы тебе, почему не отдам за него, и ты не привязывалась бы так к нему, и легче тебе было бы его забывать. А теперь как знаешь, так и терпи, потому что не отдам.
Тут Маруся, как уже рассказала перед своими всю правду, то и стало ей на душе веселее и на сердце отраднее, то и начала снова просить отца, чтоб таки отдал за Василя, а что она хоть век будет сидеть в девках, а ни за кого не пойдет, кроме его.
– Говори! – сказал Наум. – А знаешь ты, голова, что отец видит твое счастье лучше, нежели ты? Ты молода, глупа! Ложися, девка, спать; завтра будешь старее, чем сегодня, а оттого и умнее. – Перекрестил ее и пошел себе от нее.
Ни свет ни заря, а Василь уже у Наума. То сяк, то так, пробыли до обеда. И варивши обед и подавши на стол, Маруся заливалася слезами, полагая, наверное, что в последний раз видит своего Василечка. Да, правду сказать, так и все невеселы сидели, а за обедом к блюдам никто и не принимался.
Вот как прибрали со стола, Наум и сказал жене и дочери:
– Идите себе или в комнату, или под комору на просторе шить; а нам тут с Василем не мешайте.
Вот как они вышли, Наум и говорит:
– Василь! Сядь-ка подле меня, да слушай, не прерывая, что я тебе скажу. Не за мою правду, потому что у меня, кроме грехов, нет ничего, а по отцовским и материнским молитвам наградил меня милосердый Бог женою доброю, трудолюбивою, покорною и несварливою. Родительского имущества мы с нею не растратили, а понемногу Бог благословляет, все добавляем. Велика милость Божия! Утро и вечер благодарю за его неоставление! Но наибольшая милость Божия к нам, грешным, в том, что наградил нас дочерью, да еще какою? Это не человек, это ангел святой!..
– Ох, правда, дядюшка… – прервал его Василь, а он его тотчас остановил и говорит:
– Перестань же, Василь, молчи, слушай и не прерывай меня. Это ты, видевши ее глаза, ее щеки и что она во всем собою красива, ты и хвалишь ее; а я не про тело ее, я говорю про душу ее. Она такая тихая, послушная; Бога небесного знает, и любит, и боится прогневать его; нас почитает и остерегается, сколько можно, чтоб ни в чем нас не прогневать. Сострадательна не то что к человеку, но и к малейшей козявочке. Худа никакого и по слуху не знает и боится самой мысли об нем. Как сама добра и незлобная, так и обо всех думает, всякому поверит, – и Бог ее сохранил, что она тебя, а не какого дурного человека полюбила; с другим пропала бы навеки веков. Да и ты ее, сердечную, сбил было с прямого пути; знаю все. Ох, грех так поступать!
– Дядюшка! – отозвался было Василь.
– Молчи, племянник, ты расскажешь после. Такое-то дитя нам дал милосердый Бог. Хотя я и отец ей, а не могу против правды говорить. Что ж мы называемся за родители, чтоб не пеклись о счастье своего дитяти? Я ж говорю, если бы она была и сяк и так, ну так бы и быть. А за ее доброту, за ее скромность, покорность нужно ей такого мужа, который был бы ей как отец; чтобы он любил ее, берег; чтоб – не дай бог! – если бы и случилось какое худо делом ли, или мыслию, – так он бы ее отводил, учил бы всему доброму, не допускал бы кому зря обижать ее; а скромную и смирную, как она, кто захочет, тот и обидит. Чем нас Бог в сем свете благословил, имуществом ли или скотом, все бы тут осталося зятю, потому что я хочу, когда Бог благословит, зятя принять к себе. Так это уже не чье, как мое дело, смотреть крепко, чтобы он был хозяин рачительный, чтобы хотя уже не растратил и не перевел, что примет от нас, и чтоб и ее не довел бы ни до какой нужды; а когда Бог благословит деточками, так чтоб и их через науку довести до пути и кое-что и им оставить. Теперь скажи мне, Василь, не правду ли я говорю?
– Правду, пан отче, святую правду говорите вы. Когда б ваша милость, чтоб наградили меня Марусею, я бы все то исполнил, что вы теперь рассказали.
– Не можно, Василь, не будешь ты ей таким мужем и хозяином, как желаешь, потому что это не от тебя. Когда ж я знаю, что сему не можно быть, и вижу свою Марусю, что, полюбивши тебя, совсем разум погубила – она теперь рада за тобою хоть на край света; еще Господь не совсем ее оставил, а то думаю… – сохрани Мати Божия! – даже вскрикнул Наум и перекрестился, – вот потому-то прошу тебя ласкою, да и приказываю, как отец своего дитяти: оставь ее, забудь, не ходи к нам и не знай ее, хоть бы она тебе где и повстречалась. Не погубляй ее и души ее, да и нас не кидай живых в могилу, – прошу тебя об этом… (Сказал и горько заплакал.) Дай нам спокойно веку дожить и не приводи нас отвечать за нее на том свете.
– Да отчего же вы, Наум Алексеевич, думаете, что я не буду ей добрым мужем и хорошим хозяином?
– Ты же мне рассказывал про себя. Ты сирота; у твоих дядей по два, по три сына, и ты с ними в одной сказке[117]. Сказка ваша девятидушная; дети дядей молоды, и как придет набор, наверно, лоб забреют тебе, потому что ты сирота, за тебя некому вступиться, и дядья скажут: мы тебя поили, кормили, одевали и до ума довели, служи за нашу очередь. А что тогда станется с Марусею? Ни замужняя, ни вдова. Где ей за полками таскаться! А молодо, глупо; попадется негодным людям, наведут на все злое. Имущество растаскают, отнимут – кто ее защитит? Деточки без присмотру, в бедности, в нищете, без науки, без всего – помрут или, еще хуже, бездельниками стану т. А она затем состареется, немощи одолеют, бедность, калечество… только что в богадельню, к нищим! (Сказал это и заплакал, как дитя.) Не приведи, Господи, и врагу нашему такой судьбы! Так вот, Василь! Как бы я тебя ни любил (а скажу по правде: так я тебя полюбил, так мне тебя жаль, как родного сына!), а не хочу погубить своей дочки, и такой, как наша Маруся. Теперь сам хорошо видишь, почему не могу тебя зятем принять.
Долго Василь, опустивши голову, думал, думал, а после даже повеселел, да и говорит:
– А если я найму за себя наемщика?
– Наемщика? – подумал Наум, а после и говорит: – А из чего же ты наймешь, когда получаешь от хозяина только восемьдесят рублей в год; а ведь отцовских денег не осталось?
– Дядья помогут.
– Не надейся на это, Василь. Помогут, да не тебе, а себе. К чему придет, а тебе лоб за тебя забреют, а наемщик пойдет после за дядиных детей. Рад бы и я тебе помочь, так все не то. Как будут знать, что у тебя жена богатая, то так станут с тебя тянуть, что только держись! И все к концу не доведут, а все будут оставлять, чтобы было за что уцепиться. Когда бы ты сам, своими деньгами, мог нанять, так бы так! Василь! Вот тебе образ Царя Небесного и его Матери Пречистой и Николая святого, принеси бумагу, что наемщик принят за самого тебя и за твои деньги: тогда тебе тотчас обеими руками Марусю отдам.
Выслушав это, как ударит себя Василь руками в грудь, как кинется на стол, как заплачет! А потом, сказавши: «Всему конец!» – бросился к Науму на шею, обнял его крепко и сказал:
– Прощай, мой?.. Когда тебе хоть немного жаль бедного Василя, будь ласков, будь жалостлив, покличь сюда Марусю, пусть я при тебе прощусь с нею!
– Хорошо, Василь, – сказал Наум, – да смотри же, попрощайся! Понимаешь ли?
– Все понимаю и все исполню, как мне приказываете. Вот вошла Маруся, а за нею и Настя.
Василь, взявши Марусю за руку, говорит:
– Правду, великую правду сказал мне твой отец. Должно нам… разлучиться!
– И навек? – с большим трудом могла спросить его Маруся.
– Увидимся… Будешь ты моею, если не на сем свете, так на том! Прощай, моя Ма… – и не договорил, как она обмерла и упала к нему на руки. Он прижал ее к сердцу крепко, поцеловал, бесчувственную ее отдал отцу на руки, поцеловал руку ему и Насте… и скоро, скоро пошел, не оглядываясь…
Не станем рассказывать, как долго и как крепко Маруся о нем тужила. Едва, едва, сердечная, с тоски не умерла. Сколько уже отец с матерью ее ни успокаивали – все ничего; а тем еще пуще, что не знала она, зачем и куда Василь ее скрылся и надолго ли? Воротится ли и когда-то это еще будет? Спрашивала не раз и отца; что ж? – «Не знаю, да и не знаю». Да и точно он не знал, с какими мыслями и куда он скрылся.
Всякий божий день переберет те орехи, что еще на свадьбе, как повиделася с Василем впервое, и он ей дал, переберет, перецелует да и опять к сердцу положит. Или, когда в праздничный день пойдет в бор к озерам, где с ним гуляла один раз, там посидит, поплачет и с тем воротится домой. Мать не принуждала ее работать и прибирать; сама бралась за все.
– Не так, – говорит, – моему сердечку тяжело, как я что-нибудь работаю.
С подругами никогда не играла и уже вовсе к ним и не выходила.
Отработалися в поле; от Семенова дня (1 сентября) стали работать с вечера. Маруся принялася прясть, а от Покрова[118] начала досвета вставать к работе: прядет, шьет, прибирает, а все тужит, и частенько, как заберется куда-нибудь сама себе, то плачет, плачет, так что – Господи! – потому что об Василе не было ни слуху, ни весточки, как в воду упал.
Вот и Филиппов пост[119]; вот и Аннино зачатие[120] (9 декабря) – зачали, по обычаю, парубки засылать к девкам старост. Знай, люди бродят по улицам с палочками в руках. То смотри: идут двое, перевязаны рушниками, бодрятся, выхваляются, вот там-то и там, такую-то за такого-то просватали. А иные старосты украдкою под плетнями, свиною дорожкою, тихомолком идут себе и под плечом, вместо хлеба святого, несут… тыкву! Эге, негде деваться: чего достойны, то и получили.
Не одни старосты приходили и к старому Науму Дроту сватать Марусю. Так что ж:
– Татонку мой родненький! Я им, – говорит, – поднесу по чарке горелки.
Старик было вскрикнет на нее:
– Разве ты с ума сошла? Почему ты не идешь? Люди хорошие, честного роду, парень бойкий. Или тебе поповича или купца надо?
– Василя! А когда не Василя, то и никого! – скажет было Маруся. Мать в слезы; а отец было даже рассердится, да и крикнет:
– Да где твоего Василя возьмем? Теперь ты людьми пренебрегаешь, а там станут и тебя пренебрегать, да и досидишься до седой косы.
– Нужды нет, таточку! Без Василя не страшна мне и могила, не то седая коса.
Только вздвигнет плечами Наум, подумает:
«Пускай еще до того года!» – да и замолчит. И ему грустно было, что об Василе не было никакого слуху, потому что он его очень любил и все надеялся, что он с собою устроит что-нибудь до пути.
Вот прошел и месяц, и везде прошла слава, что Маруся Дротивна и гордая, и пышная; за здешних парубков не хочет, а ждет себе паныча из-за моря. Она про такую славу знала, смеялась и говорит было:
– Нужды нет, и подожду.
Парубкам же, хотя и крепко досадно было, что такая красивая и богатая девка не дается в лад, да нечего было делать: силою не возьмешь.
Прошел и пост; отговелись[121] и – слава тебе, Господи! – дождались Воскресения. Маруся в Великую субботу сама заквасила тесто на паску, положила туда яиц, инбирю[122], бобков[123], шафрану, и выпеклася паска и высокая, и желтая, и еще в печи зарумянилась. Приготовивши все, что должно было, на самый Великий день поутру, с батраками понесла к церкви на посвящение паску, барашка жареного, поросенка, колбасу, крашеных яиц десяток, сало и кусок соли и, разостлавши на монастыре в ряду с другими скатерку, разложила все порядком, как ее научила мать, потому что Настя после болезни не пошла со двора. Наум же стал в церкви Божией и молится.
Когда Наум приходил в церковь молиться, то уже в самом деле молился, а не зевал по сторонам, не рассматривал сюда и туда, а стоял, как и должно, как будто перед самим Господом, Царем Небесным, и только слушал, что читают и поют. А сегодня, в такой великий праздник, он еще усерднее молился и на сердце так ему было весело, как и всякому богобоязливому, кого приведет Бог дождаться сего Великого дня!
Вот, как он стоит и молится, службу Божию поют; вышел на средину церкви читать Апостол… и кто ж?.. Василь! Наум смотрит и сам себе не верит: он ли это или не он? Рассмотрел хорошенько – так, это точно ой! Да он же вовсе не грамотен? Как же он будет читать? Может, на память, без книжки; может, вытвердил наизусть? Посмотрим!
Вот Василь уже и Павла чтение[124] сказал, да и начал… Да что за голос важный! Чистый, громкий, полубас, да понятный!.. Вот Наум и думает:
«Видел я слепорожденного, что читал псалтырь[125] так же, без книги; а Василь так смотрит в книгу… Уж не хвастает ли? Может, на память от дьяка выучил, да будто и грамотный! Так вот же зацепился было за титлу[126], да и разобрал понемногу… вот и дочитал без ошибки; вот и аллилуйя[127] по закладкам отыскал… Нет! Как бы не грамотный, то не сумел бы Апостол, да еще и на самый Великдень, прочитать».
Прислушивается Наум – Василь поет. Как же начал Херувимскую[128], так такую, что и сам дьяк не умел в лад взять; а Василь, без запинки, так все голоса и покрывает, и Переводы выводит, сам и кончает, сам опять и начинает. Тогда уже Наум совсем положился, что Василь стал грамотным.
«Да когда же выучился и где пребывал? Пускай, – думает себе, – после узнаю».
Как вышел священник с крестами святить паски и народ бросился из церкви, Наум остановил Василя да тотчас и говорит:
– Христос воскресе!
Вот, похристосовавшись с ним, как долг велит, и говорит ему Наум:
– Еще ты, Василь, нас не забыл?
– Пусть меня Бог забудет, если…
– Хорошо же, хорошо, сын! Теперь не до того. Приходи к нам разговеться; да хоть и пообедаешь, когда не пойдешь домой…
– Вы мне и дом, вы и родители…
– Хорошо же, хорошо. Приходи, не забудь; я буду ожидать. Сказавши это, Наум поспешил домой и дорогою думает себе:
«Не очень же я хорошо сделал, что, не расспросивши Василя, что он и что с ним, да и позвал его к себе. Может, он уже об Марусе и не думает, а может, и женат уже, а я только потревожу Марусю и снова раздражу тоску ее. Да хотя бы и не то, так, может, еще он не откупился от рекрутства, так что тогда делать? Да уже ж! Повижу. Даст Бог разговеться, а там буду поправлять, что напортил с радости, неожиданно увидев Василя, да еще и грамотного! Откуда ему Бог такую благодать послал? Правда: малой разумный, ему бы только дьячком быть».
С такой мыслию пришел домой и жене не говорит ничего, что кого он видел. Пришла и Маруся, и принесла все посвященное, и нужды нет! Потому что она, как не стояла в церкви, а при пасках, то и не видала Василя. Расставила все на столе, как должно, и приготовила, да и удивляется с матерью, что отец не садится разгавливаться, а ходит себе по хате да думает.
Как вот дверь – скрип! – и Василь в хату. Маруся так и не опомнилась, и крикнула не своим голосом:
– Ах, мой Василечку! – да и стала как вкопанная. Старая Настя тоже обрадовалась, как бог знает чему, и кинулась к Василю и похристосовалась. Вот Наум видит, что Василь с Марусею стоят и только поглядывают – он на нее, а она на него, как будто впервые отроду видятся; вот он и говорит им:
– Что же вы не христосуетесь? А Василь и говорит:
– Не смею, пан отче!
– Зачем не сметь? – говорит Наум. – Закон повелевает христосоваться с каждым и хотя бы со смертельным врагом. Похристосуйтесь же по закону трижды, да Боже вас сохрани от всякой нечистой мысли! Тяжкий грех в таком святом деле думать лукавое!
Вот и похристосовались как должно.
Маруся бросилась было к нему с расспросами:
– Где это ты, Василечку, был?..
– Знай же время, – прервал ее Наум, – одно что-нибудь – или разгавливаться, или говорить. Бог дал праздник и паску освященную. Благодаря Бога милосердого, надо разрешать без всяких хлопот и с веселою душою, а говорить будем после. Садитесь-ка, Господи, благослови!
Старая Настя села за столом на лавке, а Маруся подле нее с конца, чтоб ближе подавать. Василь сел на скамье, старик в переднем углу, батраки в конце стола. Вот Наум, перекрестившись и прочитав три раза «Христос воскресе из мертвых», тотчас отрезал освященной паски и перед каждым положил по куску. Вкусив ее осторожно, чтоб не рассыпать крошек под стол, всяк перекрестился и сказал:
– Благодарю Бога милосердого! Дай, Боже, и на тот год дождаться. Тут уже принялися за жареное: ели барашка, поросенка; а костей под стол не кидали, а клали на стол, чтоб после покидать в печь[129]. Потом ели колбасу, сало, нарезанное кусочками, и крашеных яиц, начистив, порезали на тарелке. Кончивши все это, Маруся все прибрала, и со стола тоже все бережно смела, и все крошки, кости и скорлупы бросила в печь, да тогда уже стала подавать блюда на стол.
Старый Наум выпил чарку горелки перед обедом, а Василь не пил, потому что, говорит, не начинал ее еще пить. Вот и подали борщ, и потом говядину из него порезали на деревянной тарелке, посолили, да и ели – уже известно, что не по-господски, потому что вилок не водится, а пальцами. Потом подали уху с рубцами; жаркое было баранина, а там молочная каша, да и полно, – больше и ничего.
Маруся вряд ли что и ела; ей лучше всякого разгавливанья, кроме праздника святого, то, что Василь возвратился, и жив, и здоров. Наклонясь за мать, чтобы не видал отец, как смотрела на своего Василечка, а сама будто ложкою берет из миски, лишь бы показать, что будто ест. Куда уже ей есть! У нее одно на мысли, как и у Василя! Так тот уже через силу ел, потому что подле Наума сидел и не можно ему было схитрить, чтоб хорошенько посмотреть на свою Марусю.
Пообедавши и поблагодаривши Бога и отца с матерью, когда прибрала все Маруся, вот Наум и говорит:
– А у нас новый дьяк сегодня читал Апостол. Настя тотчас и спрашивает:
– А кто такой и откуда?
– Вот он, пан Василь, – сказал Наум да и усмехнулся.
– Разве ж Василь грамотный, чтоб ему Апостол читать? – спросила Настя. А Маруся так уши и приготовила, чтобы слышать все, что будут говорить.
– Был неграмотный, а теперь ему Бог разум послал; а как и что? А и сам не знаю. Расскажи мне, сделай милость, Василь, как это тебе свет открылся? Это мне на удивление! Еще и году нет, как ты пошел от нас, а научился грамоте, и умеешь петь, как и сам дьяк. Где ты побывал?
– Я, дядюшка, не был очень далеко, – начал рассказывать Василь. – Вот как вы мне открыли свет и растолковали мне, что и я пропаду и чужой век заем, когда не сыщу за себя наемщика, то я думал, думал и чуть с ума не сошел. Правду вы говорили, какие деньги – восемьдесят рублей, которые я от хозяина получал! Только что на одежу. Что ж мне тут было делать? Как-то Бог послал на мысль: пойди к купцам, у них хороший заработок. Пришел я к торговцу железным товаром – он меня знал отчасти, – рассказал ему всю свою беду. Он, подумавши, принял меня за пятьдесят рублей на год с тем, что когда буду в своем деле исправен, то он мне и больше прибавит и все будет прибавлять, по мере моего старания. Я обрадовался, узнав, что, дабы выработать, ничего более не нужно, как только быть честным и свое дело исправлять, не ленясь. С товарищами, хоть и все москали были, тотчас поладил. Только вижу, что они все грамотные, и кто больше чего знает, больше получает и жалованья. Вот как сел, как сел – и правду вам, дядюшка, скажу, что ночь и день учился, и Бог послал мне дарование: и то-таки правду сказать, что нашего брата наткни хоть в науку, хоть в какое ремесло, то с него путь будет – не пропадут за него деньги. Вот-то я от Спасовки[130] да до Рождества выучился читать церковное и гражданское: писать мало умею; цифры знаю и на счетах, хоть тысяч десять пудов, враздробь на фунты безошибочно положу; фурщиков рассчитаю, и хозяйского добра берегу, как глаза, чтоб и копейка даром нигде не тратилась. Товарищи, знаете, охотники на клиросе петь вместо певческой; вот и меня, как заметили, что голос есть, то и приучили немного. Пока себя не поставил на путь, не шел к вам, дядюшка; и как ни тяжко мне было, не видевши Маруси, но помня ваше слово, сам себя морил и не ходил сюда. И тоже-таки, что хозяин, узнав мою честность, посылал меня не за великими делами по маленьким ярмаркам; а после Крещения посылал уже и дальше; и я только что перед праздником вот это привез ему большую сумму денег. Как же он меня потешил добрым словом и разбил мою тоску, то я уже смело и пришел сюда на праздник; а чтобы вы уверилися, что я не разбездельничался, вот и стал я на клиросе петь и Апостол прочитал.
Наум, выслушав его, не вытерпел и даже поцеловал его в голову, подумав:









