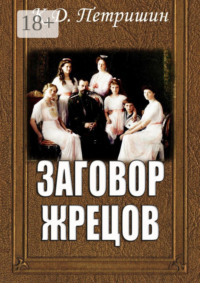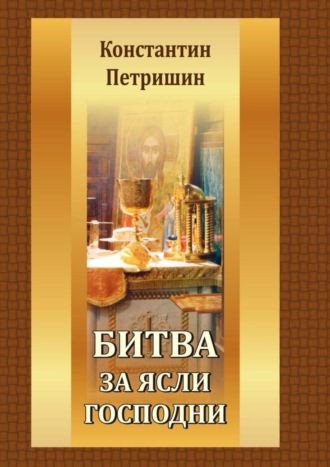
Полная версия
Битва за ясли господни
Поручик Чаплинский наспех посчитал тела убитых и то только тех, которые были видны. Их оказалось около полусотни.
– Ну что, братцы, вперед, – скомандовал он.
Когда они были уже на середине поляны, из леса гурьбой вдруг вышли турки.
Увидев русских, турки остановились и с недоумением стали смотреть на них. Появление русских на острове было для них такой неожиданностью, что они на какое-то время опешили. Затем, что-то выкрикивая, бросились назад.
Времени на размышление у поручика Чаплинского не оставалось.
– Братцы, за мной! – крикнул он и изо всех сил побежал через поляну. Оглянулся только раз, чтобы убедиться – не отстал ли кто.
Охотники настигли турок на краю поляны, в дальнем углу которой виднелись свежевырытые землянки, рядом находилось несколько пеших орудий и десяток прислуги. За прогалиной просматривался противоположный берег Дуная.
Турок, которых настигли на краю прогалины, перекололи в одно мгновение.
Артиллерийская прислуга бросилась бежать к берегу. Из землянок тоже стали выскакивать турки и, не понимая, что происходит, побежали к берегу.
Охотники в запале погнались за ними. На берегу они увидели еще около сотни турок, которые спешно грузились в лодки.
Преследовать дальше убегающих по берегу турок, охотники не стали, чтобы самим не оказаться под огнем крепостной артиллерии Рущука.
К своим лодкам охотники возвращались шумно, возбужденные успешным скоротечным боем.
На поляне кто-то из охотников снял с убитого офицера кожаный подсумок и извлек из него какие-то бумаги, покрутил их в руках и отдал поручику Чаплинскому.
Чаплинский взял бумаги и сунул в карман мундира.
– Посмотрим потом, – сказал он. – А сейчас быстро к лодкам.
…Когда полковник Нефедов доложил генералу Соймонову о результатах рейда охотников, тот, не скрывая радости, поздравил его с успехом и сказал:
– Поручика Чаплинского представьте к награде, рядовых поблагодарите за храбрость и выдайте им по чарке водки. Они здорово напугали турок.
– …Поручик Чаплинский привез с острова интересные бумаги, – продолжил полковник Нефедов и подал генералу Соймонову вчетверо сложенные листки. – Насколько я понял – это донесение английского офицера. Вот только кому, не ясно…
Генерал Соймонов взял бумаги, развернул их. Действительно, текст был написан на английском языке.
Генерал Соймонов, прекрасно владея английским языком, стал внимательно читать и обратил внимание на слова: «…Турки совершенно не способны к аванпостовой службе, равно как боснийцы и албанцы – лучшие из турецких частей. Одни только некрасовцы содержат передовую цепь так зорко, как это делают русские…»
Генерал Соймонов выругался.
– И здесь некрасовцы объявились!.. Христопродавцы чертовы! Расползлись, как слепые котята от матери и шкодят. Чужая сторона не прибавила им ума. Надо отдать приказ войскам – в плен некрасовцев не брать!..– жестоко добавил он.
– Да они и не сдаются, – заметил полковник Нефедов. – Это уже известно давно.
На следующий день генерал Соймонов распорядился усилить артиллерийскую позицию на берегу Дуная, обложив орудия мешками с землей и устроив амбразуры. Однако турки на острове не появлялись ни в этот, ни на другой день.
…5 ноября генерал Соймонов приказал собрать все лодки и переправить на остров Макан саперную роту, чтобы срыть там турецкие землянки, а уцелевшие лафеты под орудия сжечь.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Поездку канцлера графа Нессельроде 6 ноября в Киев на торжества по случаю закрытия Всероссийской ярмарки и конных скачек неожиданно пришлось отменить.
В день отъезда Нессельроде потребовал к себе Николай I. Когда Нессельроде появился в приемной его величества, дежурный флигель-адъютант доложил, что государь ждет его и, что князь Долгоруков уже у государя.
Войдя в кабинет Николая I, Нессельроде сразу обратил внимание на то, что государь чем-то расстроен.
На приветствие Нессельроде Николай I ответил сдержанно и указал на кресло рядом с военным министром.
– Присаживайтесь, Карл Васильевич, – сказал он мрачно. – Мы сейчас заканчиваем разговор с Василием Андреевичем, а вы послушайте. Это касается не только военного министра, но и всего кабинета министров. Продолжайте, Василий Андреевич.
Князь Долгоруков перевел взгляд на государя. По всему было заметно, что разговор с Николаем I у него был не легким.
– …Всего на сегодняшний день, ваше величество, на Кавказе в подчинении князя Воронцова находится 130 батальонов, Нижегородский драгунский полк, состоящий из 11 эскадронов, один казачий полк и один милицейский полк. Дополнительно по вашему указанию в распоряжение князя Воронцова направлены полк князя Аргутинского-Долгорукова, который ранее, как вы знаете, стоял в Закаталах, три пехотных полка с лезгинской оборонительной линии под общим командованием князя Орбелиани и переведена из Севастополя 13-я пехотная дивизия. В ближайшие дни в подчинение князя Воронцова поступят еще два батальона Куринского полка, – и военный министр сделал паузу.
– Все, Василий Андреевич? – нетерпеливо спросил Николай I.
– Да, ваше величество, – ответил князь Долгоруков, но тут же добавил: – Однако для ведения полномасштабных боевых действий этих сил будет не достаточно. Турки уже с конца августа начали собирать сильную армию на территории Анатолийской области с привлечением английских офицеров…
Все, о чем говорил князь Долгоруков, Нессельроде знал. Как и то, что укрепление границы с Турцией военным ведомством до этого времени особо не бралось во внимание. Да и сам наместник князь Воронцов в свои 72 года, хотя и был почитаем государем, однако со временем больше заботился о своих болезнях, чем о военных делах.
– А что у нас с крепостями? – поинтересовался государь.
…Нессельроде успел заметить за время пребывания в кабинете государя, что Николай I недоволен докладом князя Долгорукова.
«Однако, зачем я здесь? – мелькнула в голове Нессельроде тревожная мысль. – К военным делам я не имею прямого отношения…»
Подумал и тут же опроверг свою мысль. Без него не решался ни один военный вопрос.
– С крепостными, ваше величество, как и раньше, – ответил князь Долгоруков и почему-то посмотрел в сторону Нессельроде.
«…Сейчас скажет про деньги, которые я запретил выделять на крепости еще год тому назад», – подумал Нессельроде и почувствовал, как в глубине души его стал появляться противный леденящий холодок.
Однако князь Долгоруков этого не сделал.
– …Алесандрополь, – продолжил он, – остается главной крепостью в силу своего расположения в 68 верстах от турецкой крепости Карса, а Карса, как вы знаете, прямая дорога в Анатолийскую область Турции и далее к Константинополю. Не менее важна в настоящее время и крепость Ахалцых. Она запирает дорогу, идущую со стороны Карса на Ардаган и далее вглубь нашей территории. На южном фланге границу с Турцией и Персией прикрывает крепость Эривань… Она в хорошем состоянии…
– Эривань не просто крепость. Это ворота на пути от Баязета через Ченгильские горы и Аракс, – заметил государь. И добавил: – Я там был…
При этих словах Николай I чему-то улыбнулся.
– Что еще? – спросил он и согнал с лица случайную улыбку.
– Вfit величество, в случае начала боевых действий в Закавказье, – продолжил князь Долгоруков, – крепости Ахалых и Эривань навряд-ли смогут выдержать серьезные осады…
– Почему? – Николай I с удивлением посмотрел на князя Долгорукова, но тот нисколько не смутившись, ответил:
– Ваше величество, что касается Ахалцыха – она построена на хорошем месте, однако в ней нет воды. Эривань недостаточно вооружена. Остается Александрополь. Но и здесь не все в порядке. Турки, когда строили ее, не учли наличие с северо-западной стороны множество мертвых зон: мест легко преодолеваемых, не рискуя быть пораженным огнем из крепости. Вооружение тоже недостаточное. Казематов мало. А это означает, если противник займет соседние высоты и поставит на них мортиры, крепость долго не продержится…
– Да-а-а, – задумчиво произнес государь. – Картину вы мне, Василий Андреевич, нарисовали мрачную… – Он внимательно, даже как-то оценивающе, посмотрел на военного министра. – А почему вы решили, что мы будем обороняться? – вдруг спросил Николай I.
– Ваше величество, впереди зима!.. – слегка растерялся князь Долгоруков. – И дороги в горах будут непроходимы…
– Это верно, – согласился Николай I, перебив военного министра, и обратился к Нессельроде. – Карл Васильевич, надеюсь, не забыли, о чем в августе мы с вами беседовали в присутствии князя Бебутова? Тогда вы предложили мне возложить на него обязанности начальника гражданского управления Закавказского края.
– Помню, ваше величество? – c поспешной готовностью ответил Нессельроде и сделал попытку встать, однако государь жестом показал ему, чтобы он сидел.
– Тогда же у нас с вами шел разговор о назначении князя Бебутова на случай открытия в Закавказье военных действий, командующим корпусом, который должен формироваться в Александрополе…
– Да, ваше величество, – подтвердил Нессельроде.
– Однако прошло уже более двух месяцев, а я не припоминаю, чтобы подписывал Указ о его назначении.
Нессельроде слегка побледнел и на его лбу появились мелкие капли пота.
– Ваше величество, – вступил в разговор князь Долгоруков. – Я прошу прощения, но Бебутов Василий Осипович сразу же после отъезда из Петербурга на Кавказ заболел лихорадкою и, возложенные на его вашим величеством обязанности, все это время выполнял начальник штаба Кавказского корпуса генерал-адъютант Александр Иванович Барятинский.
Нессельроде ожидал неминуемого гнева государя, однако тот отнесся к словам князя Долгорукова спокойно.
– Надеюсь, Бебутов уже здоров? – уточнил государь, снова обращаясь к Нессельроде.
– Да, ваше величество, – все так же торопливо ответил тот. И добавил: – Проект о его назначении уже находится в вашей канцелярии. Если вы соизволите, завтра вам подадут их на подпись…
– Почему завтра? Прикажите принести сегодня, – сказал Николай I. – Время не терпит. И ещё, – государь слегка задумался, потом продолжил: – Насколько мне известно, состояние здоровья самого князя Воронцова желает быть лучшим и ему, по всей видимости, не под силу станет в полной мере командовать войсками, поэтому я предлагаю оставить за князем Воронцовым, как моим наместником и человеком, знающим все тонкости взаимоотношений среди кавказских племен, общее руководство на Кавказе. А князю Бебутову поручить командование действующими войсками на протяжении всей нашей граници с Турцией.
Нессельроде слегка кивнул головой. Он уже понял: гроза над ним пронеслась, а несостоявшийся Указ государя о назначениях князя Бебутова надо полностью переделывать.
– Князь Воронцов не так давно писал мне, – продолжил тем временем Николай I, – что население Кавказа относится к нам по-разному. Живущие в приграничной полосе армяне, по его мнению, будут на нашей стороне. Турки гнетут их безбожно и лишают всяческих прав. Их спасение зависит от нас. Что касается татар – Воронцов утверждает, что они до сих пор помнят Ермолова и Паскевича, и будут бояться выступать против нас. Пишет и о духоборцах. Какими бы они не были, однако к православной вере они ближе, чем мусульманской. Надо исключить всяческие притеснения их со стороны наших властей. Курдские же племена испокон веков жили разбоем и, навряд ли добровольно пойдут к кому-либо на службу. Теперь, что касается возможных военных действий. Надо полагать, они уже начались, – Николай I поочередно посмотрел сначала на Нессельроде, затем на Долгорукова. – Но мне до сих пор толком никто не доложил, каким образом турки захватили наш пост Святого Николая и что там произошло.
Упрек явно относился к князю Долгорукову.
– Ваше величество, я могу доложить, – сказал князь Долгоруков, вставая с места.
– Ну, извольте, Василий Андреевич, – усмехнулся государь…
– Ваше величество, все произошло внезапно. В ночь с 15 на 16 октября турецкий отряд численностью до пяти тысяч человек атаковал наш пост, который был предназначен к ликвидации и охранялся двумя неполными ротами Черноморского линейного батальона и полусотней казаков с милицией. Командовал постом капитан Щербаков…
– Я это знаю, – помрачнев, сказал государь.
– У капитана Щербакова был приказ охранять пост до вывоза из складов продовольственных запасов. Но так как провиант не был вывезен, охрана продолжалась. В ходе боя весь гарнизон был перебит, склады сожжены. Умирающих и раненых турки добивали самыми зверскими способами. Иероманаху Серафиму, который правил службой на посту, отрезали голову…
Николай I сокрушенно вздохнул, однако не проронил ни слова. Так прошло несколько минут. Наконец, он тихо заговорил:
– Прости меня, господи за такие мысли, но неужели я должен терпеть бесчеловечное зло? И, если оно не будет наказуемо, превратится в чудовище, которое не пощадит ни нас, ни наших потомков, Я не сторонник священных походов и тем более войн. Но жизнь показала: есть еще немало людей фанатично настроенных для того, чтобы истребить всех в угоду своему, как они думают, богу. Их можно сравнить с дикарями, которые приносили в жертву себе подобных. Это даже не люди. Они хуже зверей. Если все в мире творится не нашим умом, а твоим судом, накажи их. Заставь испытать их тоже самое, что испытали их жертвы в последние мгновения своей жизни… – горькие слова государя звучали с надрывом, как молитва, и Нессельроде, и Долгоруков вдруг услышали в них решимость Николая I пройти начатый им путь до конца.
2
…Князь Воронцов никак не мог привыкнуть к мысли, что мир и спокойствие на Кавказе снова нарушены. И хотя в Тифлисе стояла удивительно тихая осень, и все здесь дышало успокоительной негой и целомудрием, а яркие краски уходящей осени по-прежнему отсвечивались в лучах еще ласкового солнца сказочной красотой.
Известие о нападении турок на пост Святого Николая потрясло князя Воронцова до глубины души. Он не мог допустить и мысли о таком.
Спустя неделю после резни на посту Святого Николая ему сообщили, что под Карсом турки сосредотачивают армию численностью до 40 тысяч человек во главе с Абди-пашой и, что часть войск со дня на день выступит к Ардагану, другая – к Александрополю.
Надо было что-то срочно предпринимать.
Князь Воронцов почувствовал облегчение на душе, когда получил из Петербурга Указ его величества о назначении генерал-лейтенанта Бебутова командующим действующими войсками на кавказско-турецкой границе. Он тут же распорядился ординарцу ехать к князю Бебутову и сообщить ему, чтобы тот немедля прибыл во дворец.
Князя Бебутова Воронцов уважал, чего нельзя было сказать по отношению к другим подчиненным, по мнению самого Воронцова, льстецов и казнокрадов.
Князь Бебутов принадлежал к почетному армянскому роду. Он был один из немногих горцев, кто получил образование в России и был взят на службу к себе тогдашним наместником на Кавказе маркизом Паулуччи.
Затем верой и правдой служил у Ермолова и Паскевича. Участвовал в войне с турками в 1828 году. Уже при Воронцове князь Бебутов командовал войсками, которые разбили в 1846 году отряды Шамиля на Кутишинских позициях, за что Воронцов представил князя Бебутова к награде орденом Святого Георгия.
…Князь Бебутов прибыл так скоро, что Воронцов не успел даже переодеться и принял его в домашнем халате и легких туфлях на босую ногу.
– Вы уж меня, Василий Осипович, извините, – сказал Воронцов, провожая Бебутова в гостиную. – Ну что… поздравляю вас. Указом его величества государя Николая Павловича вы назначены командующим действующими войсками на всей кавказской границе.
И показал Бебутову Указ Николая I. Дождавшись, когда тот прочитал Указ, спросил:
– Ну, что сударь? Довольны?
Князь Бебутов, подавив в себе вспыхнувшее чувство радости и удовлетворения, спокойно ответил.
– Клянусь вам, я оправдаю высокую милость его величества и то доверие, которое вы мне оказали.
Ответ Бебутова пришелся по душе Воронцову.
– Ну, будет вам льстить мне. Я здесь не причем, – сказал он. – Благодарите государя и самого себя. – Усадив гостя в кресло, продолжил: – Я буду вам, Василий Осипович, благодарен, если вы, не теряя времени, отправитесь в Александрополь и на месте примете все необходимые решения. Что касается Тифлисского военного губернатора князя Андроникова, о котором мы с вами говорили не так давно, нынче же отправлю его в Ахалцых начальником тамошнего отряда. Время не терпит. Турки, по всей видимости, загорелись войной. Ну что ж… Будет им война. А вам я пожелаю успеха. Да хранит вас бог… И помните, перед ним и государем нам ответ держать.
И старый князь Воронцов сначала перекрестил Бебутова, затем обнял.
…В Александрополь князь Бебутов прибыл через три дня. К этому времени гарнизон крепости состоял из Нижегородского драгунского полка, 7-ми казачьих сотен, 5-и сотен коней милиции из горцев и грузинского пехотного полка. Всего около 12-ти тысяч человек с 43 пешими и 14 конными орудиями.
На первом же военном Совете командир грузинского полка генерал князь Орбелиани (он же и начальник гарнизона), доложил Бебутову о замеченных движениях на дорогах по направлению к Александрополю нескольких небольших отрядов турецких войск.
– …Главные силы турок расположились в селении Баш-Шурагели и занимают правый берег реки Арпачая. Это в 20-и верстах от нас, – пояснил генерал Орбелиани.
Князь Бебутов обвел взглядом присутствующих на Совете командиров.
– Что, господа, будем делать? – задал он всем вопрос. – Ждать, когда турки нападут на нас, или упредим их нападение, которое Абди-паша навряд-ли ждет. – И по лицам, и по глазам командиров понял: отсиживаться в крепости никто не собирается.
…На рассвете следующего дня, когда еще ночные тени только начали таять, а над горным хребтом появились чуть заметные проталины рождающейся утренней зари, из города вышел отряд под командованием генерала Орбелиани в составе 3-х батальонов пехоты, 4-х эскадронов Нижегородского драгунского полка, 3-х казачьих и 2-х сотен местной милиции. Два десятка орудий прогромыхали по каменной дороге, позади колонны, всполошив жителей Александрополя.
И сразу же по городу полетел слух «Турки напали!..»
По выходу отряда из города к князю Орбелиани подъехал на красавце-алхитинце командир второго батальона полковник Тихотский.
– Ваша светлость, неприятель не так уж и далеко, – сказал он. – Не мешало бы выслать авангард…
Князь Орбелиани усмехнулся.
– Зачем? Мы и так знаем, где они стоят.
Солнце уже поднялось высоко над головой, когда отряд прошел селение Караклис. Отсюда до Баш-Шурагеля, где должны находиться основные турецкие силы, было не более полутора часов движения.
Полковник Тихотский, озабоченный тем, что в селении Караклис не оказалось ни одной живой души, снова подъехал к князю Орбелиани.
– Ваша светлость, не нравится мне все это… – сказал он. – Если людей в селении нет, значит, турки знают о нашем выходе из города.
Князь Орбелиани и сам уже встревоженный отсутствием жителей в селении, приказал выслать впереди отряда авангард в составе двух сотен казаков и сотни местной милиции.
…Как только авангард миновал Караклис и начал спускаться в низину, по дну которой протекала небольшая, но шумная речка, со стороны ближайшей высоты по авангарду ударили орудия.
Сотня конной милиции тут же повернулась назад и, нахлестывая коней, через несколько минут скрылась из вида.
Увидев эту картину, подъехавший с отрядом князь Орбелиани выругался.
– Трусливые шакалы! Нет у них ни совести, ни чести! – выругался он.
– Ваша светлость, – обратился к нему полковник Тихотский, – нам следует как можно быстрее преодолеть низину, пока они ещё не пристрелялись.
Князь Орбелиани согласился с мнением полковника Тихотского и отдал приказ отряду ускоренным маршем двигаться вперед и сходу занять рубежи на выходе из низины на случай атаки неприятеля.
Пока отряд занимал выбранную князем Орбелиани позицию, на правом фланге невесть откуда появилась турецкая конница и с криком бросилась к обозу, который оказался на виду. Однако, поблизости оказались нижегородские драгуны. Они выждали, когда турецкая конница преодолеет неглубокий овраг, проходящий вдоль дороги, и сами ринулись в атаку. После короткой, но жаркой схватки опрокинули турок в овраг и заставили их спасаться бегством.
Пока шла схватка с турецкой конницей на правом фланге, оставшаяся сотня милиции снялась без приказа с позиции и ускакала по дороге на Караклис.
Князь Орбелиани в припадке гнева приказал стрелять им вслед, но в это время услышал за своей спиной чей-то голос.
– Ваша светлость! Смотрите!.. Баши-бузуки!..
Конница баши-бузуков появилась на левом фланге и стремительно приближалась к позициям пехотных батальонов, которые уже встраивались в каре для обороны.
– Ну, вот теперь и они попались… – медленно, почти по слогам произнес князь Орбелиани.
Когда турецкая конница оказалась на расстоянии пушечного выстрела, батальоны разомкнулись и баши-бузуки оказались против орудий. Торопливые залпы загремели один за другим. Затем началась беспорядочная стрельба. Ядра прошивали турецкую конницу, нанося ей тяжелый урон.
Часть баши-бузуков бросилась влево, другие, пытаясь повернуть назад, создавая толчею, в которой гибли и люди, и кони. Наиболее отчаянные все же прорвались к передней линии обороны батальонов, но и здесь их встретили плотным ружейным огнем, уцелевшие повернули назад.
…Артиллерийский гул от непрерывной канонады со стороны селения Караклис был слышен даже в Александрополе.
Князь Бебутов тут же приказал собрать оставшиеся войска и выстроить их на выходе из города.
Вскоре князю Бебутову доложили о готовности отряда к выступлению. Он поехал в голову колонны и тут увидел группу женщин, которые стояли у обочины дороги. Многие держали на руках детей.
Женщины безмолвно наблюдали за тем, что происходит.
– Почему они здесь? – спросил князь Бебутов у командира нижегородского полка полковника Хромова.
– Женщины пришли просить вас не пускать турок в город. Иначе всех жителей вырежут, – пояснил тот.
Князь Бебутов был немало удивлен такому ответу. Он подъехал к женщинам. При его приближении те опустились на колени и склонили головы.
У Бебутова мурашки побежали по коже. Он вдруг почувствовал, что у него вот-вот перехватит дыхание от охватившего его волнения и стыда.
– Встаньте, – сказал он.– Я вас прошу, вставайте! И никогда не опускайтесь на колени перед человеком в погонах. Это его обязанность защитить вас. Турок в городе не будет! Даю вам слово. Расходитесь по домам с миром!..
Бебутов крутнул коня и поскакал в голову колонны. За ним последовали штабные офицеры.
Впереди отряда сразу же был выслан усиленный авангард из двух эскадронов драгун с четырьмя конными орудиями.
Солнце уже клонилось к закату, где величественно возвышались остроконечные выступы горного хребта, а гром артиллерийской канонады со стороны Караклиса то стихал, то усиливался.
Бебутов приказал ускорить движение колонны.
До селения Караклиса оставалось не более двух верст, когда от авангарда прискакал связной и доложил, что турки спешно снимают с позиций орудия и уходят по дороге в сторону Баш-Шурагеля.
Бебутов мысленно перекрестился. «Вот и хорошо, – подумал он. – Святым делом сам бог правит…»
…Князь Воронцов неделю не покидал свой дворец. И годы давали о себе знать, а тут еще и беда приключилась: оступился на ровном месте и растянул мышцу голени.
Когда ему доложили, что со срочным докладом прибыл начальник штаба экспедиционного корпуса генерал-адъютант Барятинский с депешей от князя Бебутова, Воронцов сразу забыл о своих болячках. Размашисто перекрестился и произнес:
– Слава тебе, господи!.. Наконец-то!..
Князь Бебутов в своей депеше докладывал об итогах боя под селением Караклис.
Депеша заканчивалась словами: «…На рассвете 14 ноября я переправился через речку Арапчой, выслав вперед авангард из конницы в сторону селения Баш-Шурагель. Однако, вскоре авангард вернулся назад. Селение Баш-Шурагель оказалось пустым. Местные жители рассказали, что турецкие войска еще ночью отступили по дороге к Карсу.»
Прочитав депешу, князь Воронцов прищелкнул языком.
– Ну и шельма этот Абди-паша, – задумчиво произнес он. И тут же обратился к Баратинскому. – Александр Иванович, вы догадываетесь, на что он рассчитывал?
– Догадываюсь, – ответил тот. – Между Баш-Шургалем и крепостью Карсом под селением Баш-Кадыкларом у турок подготовлены выгодные во всех отношениях оборонительные позиции. Надо полагать, Абди-паша надеятся, заняв эту позицию и имея в тылу крепость Карс с её резервами, разбить Александропольский отряд и, таким образом, открыть себе дорогу на нашу территорию.
Князь Воронцов утвердительно кивнул головой.