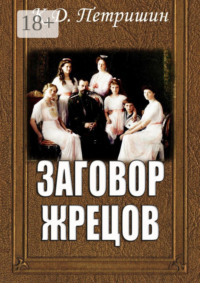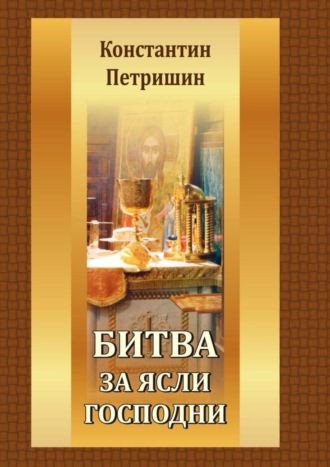
Полная версия
Битва за ясли господни
5
…Князь Воронцов дважды перечитывал Указ его императорского величества государя Николая I, полученный телеграфом, о награждении ахалцыхских героев и смахнул с глаз невольно набежавшую слезу благодарности. Милость его величества было щедрой.
Государь наградил князя Андроникова орденом святого Георгия 3-й степени, генералов Бруннера и Фрейтага орденами святого Станислава 1-й степени, подполковника Циммермана и штаб-капитана Пасальского орденами святого Георгия 4-й степени.
Нижним чинам государь соизволил выдать по десять военных Орденов на роту, батарею, эскадрон и сотню. И всем по рублю серебром.
Этим же Указом его величество пожаловал батальонам Брестского и Белостокского пехотных и Виленского егерского полков Георгиевские знамена.
В честь победы при Ахалцыхе в Тифлисе во дворце наместника был дан праздничный обед для местной знати.
За минуту до начала обеда князь Воронцов подозвал к себе генерал-адъютанта Барятинского и, глядя куда-то выше его головы, спросил:
– Скажите мне, милостивый сударь Александр Иванович, как получилось, что имя генерала Ковалевского не попало в наше донесение его величеству?
Генерал-адъютант Барятинский, нисколько не смутившись, ответил:
– Ваша святость, оплошность произошла. В первом тексте, который я вам дал на прочтение, имя генерала Ковалевского было вписано. Затем, после вашей правки текста, штабной писарь, переписывая текст, ненароком пропустил имя Ковалевского…
Князь Воронцов недовольно поморщился.
– Ну и что мне теперь прикажете делать? Извиняться перед генералом Ковалевским или как? Я не хочу, чтобы у меня над головой подушка вертелась!..
Барятинский промолчал. Он и сам понимал, что произошло непоправимое недоразумение.
– Ну, хорошо, – подумав, продолжил князь Воронцов. – Я знаю, как его отблагодарить. А вашего писаря за такую непростительную оплошность отправьте служить в Ахалцыхскую крепость. И не писарем, а в пехоту! – строго приказал он. И добавил: – Бог не Никитка, повыламывает ему лытки. Будет знать, как службу блюсти!..
…Князь Бебутов узнал о разгроме турок под Ахалцыхом через три дня и сразу загорелся желанием не отстать от ахалцыховцев. И такой случай ему скоро представился.
16 ноября утром из Александрополя вышел рабочий отряд под охраной полусотни казаков к селению Ак-Узюм на заготовку фуража и неожиданно столкнулся там с турецким разъездом. Селение Ак-Узюм находилось в 5 верстах от Баш-Шурагеля, и появления здесь турок никто не предполагал. В Александрополе были уверены, что все турецкие войска ушли в Карс.
Князь Бебутов тут же отдал приказ на выступление из крепости.
Александропольский отряд к этому времени состоял из десяти батальонов, двенадцати эскадронов, шести сотен казаков и одной сотни милиции. В распоряжении Бебутова было две конны и три пеших батареи. Всего 32 орудия. Зато все десятитысячное войско его состояло в основном из старых и опытных кавказских служивых, на которых он надеялся, как на самого себя.
В ночь на 17 ноября Александропольский отряд занял селение Баш-Шурагель, а на рассвете двинулся по Карской дороге по направлению к селению Пирвали.
В Баш-Шурагеле князь Бебутов узнал от местных жителей, что турецкая армия стоит не в Карсе, а в Суботане лагерем и со дня на день готовится на зиму уйти в Карс.
…Мглистое неприветливое солнце уже появилось из-за горного хребта, когда Александропольский головной отряд подошел к Пирвали.
Две казачьи сотни, идущие в авангарде головного отряда, захватили в Пирвали врасплох турецкий пост в составе сорока человек. Допросили. Выяснилось, что пост состоял из шестидесяти турок. На вопрос: «Где остальные?» турки отвечали одно и тоже. «Один Аллах знает…»
Стало ясно – успели ускакать.
Когда доложили об этом князю Бебутову, тот сразу помрачнел.
– Надо торопиться, – сказал он. – Через час в Суботане уже будут знать о нашем приближении.
От пленных турок удалось узнать, что в окрестностях Суботана находится 36 тысячный корпус под командованием Ади-паши.
Сам Ади-паша полагая, что боевые действия в связи с наступлением холодов уже окончены и русские не осмелятся вести в такое время года наступление в горах, 17 ноября выехал в Карс, чтобы на месте позаботиться о расквартировании своего корпуса в городе.
Начальнику штаба корпуса Ахмет-паши он приказал в 10 часов начать вывод войск из лагеря двумя переходами: сначала до селения Хадживали, что в 12 верстах от Суботана, затем в Карс.
Однако в 9 часов утра Ахмет-паше сообщили, что на пост в Пирвали напали русские и что их отряд движется по дороге к Суботану.
– Русские либо с ума сошли, либо упились своею поганою водкой! – раздраженно ответил Ахмет-паша. – Если это так, слава Аллаху! Приготовьте побольше веревок, чтобы я мог связать всех русских генералов. Я отправлю их в Константинополь, чтобы показать Сутану!
Через полчаса Ахмет-паше снова доложили, что русские уже переправились через Карс-чай!
Ахмет—паша, не сдерживая восторга, приказал поднять войска по тревоге и немедленно выступить с развернутыми знаменами, барабанами и музыкой.
…Этот день выдался на редкость солнечным. И хотя с раннего утра подмораживало, к 10 часам потеплело и вскоре все засияло в лучах яркого солнца ослепительным блеском.
Князь Бебутов в сопровождении своего заместителя генерала Индрениуса и командиров частей генералов Кашинского, Багратиона, Чавчевадзе и Багтовута под охраной казачьей сотни следом за авангардом переправился через неглубокую хрустальной чистоты речку Карс-чай и выехал на одну из высот, которые тянулись вдоль берега, и сразу перед ним открылась небольшая долина. Она еще сохранила местами яркий зеленый цвет и радовала глаз своей первозданной красотой.
Справа долина упиралась в подножье горы с пологим спуском и вершиной похожей на верблюжьи горбы, слева просматривался крутой спуск к реке.
С высоты как на ладони была видна Карская дорога с расположенным рядом селением, в центре которого стояла армянская церковь.
– Как называется это селение? – поинтересовался князь Бебутов.
– Угузлы, – ответил генерал Индрениус. И добавил: – В основном живут в нем армяне…
– Господа, турки! – прервал рассказ Индрениуса генерал Кашинский.
Все разом повернулись в ту сторону, куда указал генерал Кашинский и увидели, как со стороны дороги в долину входит колонна турецких войск.
Решение князю Бебутову пришло мгновенно.
– Господа, – обратился он к сопровождающим его командирам, – по-моему, втянувшись в эту долину, турецкие войска лишают себя простора для маневра. И этим грешно не воспользоваться!
Князь Бебутов распорядился построить войска в две линии. Генерал Кашинский возглавил первую основную линию. В центре приказал поставить две батареи. Для прикрытия батарей были выделены батальон Куринского и два батальона Ширванского полков и сводный отряд стрелков. На правом фланге линии посоветовал генералу Кашинскому поставить три дивизиона Нижегородских драгун с четырьмя конными орудиями. Подводы после того как будут разгружены ящики с боеприпасами вернуть к переправе. На левом фланге поставить два дивизиона Нижегородских драгун, батарею конных орудий и три сотни казаков.
– Если нет вопросов, действуйте. Не теряйте времени! – сказал князь Бебутов, обращаясь к генералу Кашинскому.
Кушинский сразу же поскакал к батальонам, которые уже выстроились на равнине.
– Вторая линия, – князь Бебутов обернулся к генерал-майору князю Багратиону. – Иван Константинович, возглавите ее вы. В ваше распоряжение поступают 3 батальона Эриванского полка, батальон Грузинского гренадерского полка, батарея из 6 орудий. Выстроите свои войска за первой линией на удалении не более трехсот саженей в готовности не допустить прорыва турок в тылы. Все, Иван Константинович. С богом. Теперь ваша задача, господа, – обратился Бебутов к генералам Чавчевадзе и Багтовуту. – Быть в готовности при первой же возможности нанести удары во фланг неприятеля. Генерал Чавчевадзе – на правом фланге, генерал Багтовут – на левом.
Князь Бебутов перекрестил Чавчевадзе и Багтовута.
– Все, господа. За дело.
Не прошло и получаса, как войска заняли свои позиции. А турецкие колонны все подходили и подходили, разворачиваясь в тесной долине в плотные боевые порядки на расстоянии пушечного выстрела от передовой линии русских войск.
Генерал Кашинский тут же решил воспользоваться оплошностью турок и распорядился всем орудиям первой линии открыть шрапнельный огонь по противнику, не успевшему закончить построение.
В ответ со стороны подножья горы с двумя округлыми вершинами загремела турецкая артиллерия, но сразу же смолкла после сильнейшего взрыва на позиции батареи, с которой к небу поднялся огромный черный столб дыма. По всей видимости, там взорвался пороховой склад.
«…Для начала неплохо, – отметил про себя князь Бебутов, наблюдая в подзорную трубу за происходящим».
С высоты хорошо было видно, как турки расположили свои войска, выдвинув правый фланг вперед и выставив там около двух десятков пушек. В центре выстраивались, невзирая на сильный огонь русских батарей, несколько пехотных батальонов и не менее полка кавалерии. На левом фланге просматривался овраг. Он был естественной защитой и не позволял неприятелю провести здесь быстрое наступление.
Мысль нанести удар по неприятелю в центре и по правому флангу и, таким образом еще больше стеснить его действия пришла в голову князя Бебутова сразу, как только он увидел построение турецких войск.
Князь Бебутов подозвал к себе генерала Индрениуса и поделился с ним своими соображениями. Тот согласился, однако добавил:
– У меня есть предложение, Василий Осипович. Для надежности дела поставить в центре ещё и гренадеров князя Орбелиани. Они и начнут атаку.
…Получив приказ атаковать неприятеля, князь Орбелиани вывел свой полк на исходную позицию. Впереди была неглубокая ложбина с пологими склонами и местами заросшая низким кустарником. На какое-то время она могла скрыть из поля зрения неприятеля наступающие батальоны гренадеров. Этим и решил воспользоваться Орбелиани.
Командирам 1-го и 2-го батальонов майору Турчановскому и майору барону Врангелю князь Орбелиани сказал:
– Господа, вы начинаете первыми. От того, как вы начнете, зависит успех не только нашего полка, но всего дела. Поэтому я прошу вас быстро сблизиться с неприятелем и атаковать его так, чтобы у него не оставалось даже малейшей надежды, что он уйдет отсюда победителем. За вами пойдут остальные батальоны. Я пойду с батальоном майора Турчановского.
Последние слова князя Орбелиани слегка смутили майора Турчановского.
– Ваша светлость, извините меня, однако первая линия несамое удобное место для командования полком, – сказал он.
Князь Орбелиани усмехнулся.
– Спасибо за совет, однако, со мной ничего не случится. А иду я вместе с вами для того, чтобы у солдат не было сомнения в успехе.
…Было около двух часов дня, когда батальоны егерей майора Турчановского и майора барона Врангеля ускоренным шагом спустились в ложбину.
Турки обнаружили движение русских егерей уже на выходе их из ложбины и открыли огонь из пушек. Однако снаряды их ложились на середине между егерями и первой линией турецких батальонов, до которых было саженей триста.
После нескольких залпов турки прекратили огонь, видимо опасаясь попасть по своим войскам. Зато по егерям открыли огонь штуцерные.
Князь Орбелиани выхватил из ножен саблю и, не оборачиваясь, крикнул:
– Братцы, за мной!..Ура!..
Сначала, грозное «Ура!» подхватили гренадеры. Затем оно загремело слева и справа, и позади тысячекратным разноголосием, идущих навстречу смерти людей.
Невзирая на убийственный огонь турецких стрелков, гренадеры, неся потери, сблизились с неприятелем и коротким штыковым боем заставили турок попятиться.
– Ай да молодцы! – в запальчивости повторил князь Орбелиани, пробивая саблей себе дорогу. Он только один раз оглянулся, чтобы увидеть майора Турчановского.
– Где командир батальона? – спросил он у пробегающего мимо него рослого гренадера.
– Убит, ваша светлость, – на ходу ответил тот.
Турки, опешив в первые минуты от яростной атаки гренадеров, вскоре опомнились и, подтянув резервные батальоны, оказали гренадерам ожесточенное сопротивление.
Подход еще двух батальонов, следовавших за гренадерами, тоже не принес успеха. Турки вводили в бой все новые и новые войска.
К князю Орбелиани пробился командир первой роты, взявший на себя командование батальоном вместо майора Турчановского. Он подтвердил, что Турчановский действительно убит и сообщил, что тяжело ранен и майор Врангель.
– Что делать? – обратился командир роты к князю Орбелиани.
– Атаковать! – ответил тот. Он хотел еще что-то сказать, но не успел. Совсем рядом разорвался снаряд, выпущенный из батареи, стоящей в глубине турецкой обороны.
Князь Орбелиани почувствовал сильный толчок в грудь и упал навзничь. Попытался подняться, но не смог…
…Бебутов, наблюдая с высоты за атакой гренадерского полка, заметил, что на какое-то время среди атакующих появилось замешательство.
Взяв из резерва 2 роты Эриванского полка и 4 пеших орудия, князь Бебутов сам повел их на помощь гренадерам.
Весть о том, что князь Бебутов в рядах сражающихся, мгновенно облетела полк. Гренадеры усилили натиск на неприятеля.
Одновременно князь Багратион с двумя полными и одним неполным батальонами Эриванского полка второй линии скрытно прошел по дну оврага и ударили туркам по левому флангу. Не выдержав яростного натиска русских, турки стали отходить в глубину своей обороны. Однако их отход был прерван атакой линейцев и драгун генерала Багтовута. Воспользовавшись замешательством турок, линейцы и драгуны зашли им в тыл и, установив сходу конную батарею, открыли огонь картечью с близкого расстояния.
Стремительная атака гренадерских батальонов и кавалерии генерала Багтовута принудила турок смешать свои боевые порядки и начать беспорядочный отход.
Тем временем и войска генерала Кашинского, потеснив турок в центре, стали охватывать их правый фланг.
Генерал Кашинский приказал развернуть знамена и ударить в барабаны.
– Вперед! – крикнул он. – За царя и за Россию! За мной!
Ощерившись штыками, батальоны егерей бросились вперед, увлекая за собой все наступающие войска.
После яростного штыкового боя турки не выдержали натиска русских батальонов и, опасаясь за свой правый фланг, отступили частью войск к селению Угузлы, частью по Карской дороге в сторону Суботана.
…Было уже около трех часов пополудни, когда турки полностью оставили долину с дымящимися рваными ранами, изуродованными телами убитых и ошалело мечущихся по ней лошадей.
Спустя полчаса войска Александропольского отряда подошли к селению Угузлы и взяли его в кольцо.
К генералу Бриммеру подъехал князь Бебутов.
– Ну что, приказывайте батареям открыть огонь.
– С удовольствием, – ответил тот и поскакал на позицию батарей, установленных на дороге.
После нескольких залпов картечью из селения показалась группа всадников с белым флагом.
Князь Бебутов, уже давший приказ генералу Кашинскому на атаку, остановил его.
– Ну-ка, ну-ка. Подождите! – сказал он. – Что это за гости?
– Ясное дело, – ответил генерал Кашинский. – Парламентеры…
– Переговорщиков встречаете вы. Условие одно – сдача в плен. Других условий не будет, – заявил князь Бебутов и, крутнув коня, ускакал к расположению войск князя Багратиона.
Переговоры длились не долго. Генерал Кашинский предъявил парламентерам ультиматум: или в течение часа турецкие войска складывают оружие и выходят на дорогу, или начнется штурм.
Через час из селения начали выходить толпами турки, складывать оружие на обочине дороги и строиться в колонну под руководством своих офицеров.
Князь Бебутов со стороны наблюдал за происходящим.
Поручив прием пленных генералу Индрениусу, он оставил ему три сотни казаков, а сам с отрядом двинулся по дороге в сторону Суботана, где находился лагерь турецкого корпуса, выслав вперед авангард под командой князя Багратиона.
…Когда авангард подошел к лагерю, его встретила настороженная тишина. В лагере не было ни одной живой души. По всей видимости, турецкие войска, не заходя в лагерь, направились в Карс.
6
Известие о поражении турок под Суботаном и бегство корпуса Абди-паши в Карс долетело до Тифлиса быстрее, чем пришло донесение от Бебутова.
Князь Воронов ликовал.
С получением же донесения от Бебутова Воронцов облачился в парадный мундир, вызвал к себе начальника штаба генерала Барятинского и приказал:
– Садись, Александр Иванович, на мое место и пиши!
– Ваша светлость, я могу и рядом сесть, – смутился тот.
– Садись и пиши! – повторил князь Воронцов. – Готов? Вот и хорошо. Заглавие сам составишь на имя государя… Значит так – князю Бебутову Орден Святого Георгия 2-й степени, генералам Багтовуту, Багратиону, Чавчавадзе – тоже по Ордену святого Георгия 3-й степени и ходатайство о производстве их в генерал-лейтенанты. Генералу Кашинскому и Индерениусу по Ордену Святого Станислава первой степени. Нижним чинам по 10 военных орденов на роту, батарею, эскадрон, сотню. И просьбу выделить из казны серебром по 2 рубля на каждого человека. Ничего не пропустил? Чтобы не вышло как в прошлый раз! Теперь вставай с моего мета, а то еще понравится кресло наместника, – пошутил князь Воронцов. – Ну что, Александр Иванович? Разве не молодец Бебутов? – и он указал на донесение Бебутова, которое лежало у него на столе. – Взял лагерь Абди-паши, обозы, артиллерию! Шесть тысяч убитых, раненых и пленных! После такого поражения Абди-паша не скоро оправится. Мне думается, предстоящая зима доведет армию Абди-паши до полного развала. И что не менее важно: теперь ждать выступления против нас курдов, аджарцев и прочих туземцев нам не придется. Вот так, Александр Иванович. Одним махом двух зайцев ухлопали!..
Генерал Барятинский сдержанно кивнул головой.
– Я согласен с вами, Михаил Семенович, – ответил он и тут же добавил: – Однако с началом лета все может измениться…
Князь Воронцов вяло махнул рукой.
– До лета, может, и война кончится, друг мой!.. – сказал и тяжко вздохнул. – А, впрочем, ты прав. Такие войны скоро не кончаются. Не за земли. За веру. Тут никто и никому не уступит… Грозную тучу Бог пронес. Теперь нам остается молиться и молиться, – князь Воронцов вдруг как-то странно посмотрел на Барятинского, словно, намеревался выведать у него что-то потаенное. Немного подумал и неожиданно спросил: – Александр Иванович, скажи мне только честно, мог бы Бебутов еще решительнее действовать против Абди-паши?
Генерал Барятинский даже растерялся от такого вопроса.
– Ваша светлость, Бебутова трудно упрекнуть в чем-либо. Вступить в бой с 36-и тысячным корпусом, имея у себя всего 10-ть тысяч и заставить неприятеля обратиться в бегство…
Князь Воронцов часто закивал головой.
– Да… да… Это верно, – согласился он. – Я имел в виду преследование турок до Карса.
Генерал Барятинский с легким недоумением посмотрел на князя Воронцова. Тот не мог не знать, что несмотря на большие потери у Абди-паши оставалось еще сильное войско. К тому же отряд Бебутова шел перед этим ночь и почти целый день, вел бой. Преследовать турок 40 верст до Карса было бы неблагоразумно.
– Михаил Семенович, я полагаю, князь Бебутов поступил правильно, – повторил Барятинский. – А если учесть, что у него было около пятисот человек раненых и столько же убитых…
Князь Воронцов сокрушенно вздохнул.
– Все верно, Александр Иванович… Это я размечтался по-стариковски, – признался он. И, словно, оправдываясь, продолжил: – Человек так устроен: если хорошо, то побольше. Ты не задерживай с донесением его величеству. Железо куй – пока горячо. Ну, ступай с богом, мне еще туземную делегацию принимать надо.
Воронцов посмотрел в спину удаляющемуся генералу Барятинскому и, вдруг, усмехнулся. На ум ему пришли его же собственные слова, которые он произнес только что в качестве шутки. «Теперь вставай с моего места, а то еще понравится кресло наместника…»
«…А что?.. Тоже князь… – подумал он. – И не известно усидел бы я в этом кресле, если бы великая княжна Ольга Николаевна вышла замуж за Барятинского…»
О влюбленности Ольги Николаевны в князя Барятинского, когда он еще служил в Петербурге, ходили легенды. Однако Николай I решил по-своему: выдал свою дочь Ольгу за наследника вертембергского престола, а князь Барятинский получил назначение на Кавказ под негласный надзор самого Воронцова. И, насколько было известно Воронцову, ни Барятинский, ни великая княжна Ольга Николаевна, не нашли свое счастье.
Став уже королевой, Ольга Николаевна так и не полюбила своего супруга, ибо король был падок на садомский грех. А князь Барятинский, женившись потом, так и не переставал любить Ольгу Николаевну…
Вспомнив сейчас об этом, Воронцов на какое-то время погрузился в невольное уныние. Что-то не то происходило вокруг…
«…Долго мы покоились в самодовольном упоении нашими прежними победами, славой и могуществом, – подумал он с тихой грустью. – И не увидели как Европа отвернулась от нас… и все потому, что мы сеяли добро силой… Но как поступить по-другому, ежели по Европе уже какой год летает дух бунтарства, непредсказуемого своеволия и революций?..»
Князь Воронцов был далек от мысли винить в случившемся государя Николая I. Он не просто уважал, он любил его.
Еще до восшествия на престол, Николай Павлович, будучи командиром гвардейской дивизии и исполняя обязанности инспектора по военно-инженерной части, успел много сделать для армии. Это при нем открылись военно-учебные заведения: ротные и батальонные школы, главное инженерное училище и высшая школа гвардейских подпрапорщиков.
В тоже время Воронцов не мог понять, как случилось, что войска по-прежнему были вооружены устаревшими ружьями и орудиями. Не хватало даже пороха, не то что снарядов…
И все победы добывались русским штыком, безудержной храбростью солдат и офицеров и их кровью.
Воронцов прошел в угол, где стояла на столике икона Божьей Матери в золотом обрамлении, подаренная ему на 70-летие офицерами Кавказского корпуса, с трудом опустился перед ней на колени и еле слышно прошептал.
– Святая Матерь-божья, дай мне силы с достоинством пройти до конца свой путь, не пасть духом и не убояться невзгод, кои еще предстоит пережить не мне одному, а всему русскому народу. И не взыщи строго с меня, твоего раба божьего, за то, что я проливаю людскую кровь не по своей воле, а во славу земли русской и ее веры вечной и нерушимой…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Императрица Александра Федоровна не на шутку встревожилась, когда к завтраку Николай Павлович вышел бледный и в подавленном настроении.
Александра Федоровна знала: расспрашивать сейчас о причине подавленного настроения не было смысла. Все равно не скажет. И оставлять супруга в таком состоянии она не могла.
– А можно я сегодня за вами, сударь, поухаживаю? – спросила Александра Федоровна и сама разлила чай по чашкам.
Николай Павлович улыбнулся одними губами.
– Что у нас прислуги не хватает? – Поинтересовался он.
– Хватает – ответила Александра Федоровна – Однако мне приятно поухаживать за вами, сударь. – И тут же продолжила. – На днях мне принесли шкатулку с письмами твоей покойной сестрицы. Письма как письма, а вот одно, адресованное Гримеру, меня просто поразило. Оно небольшое, и я его запомнила почти дословно: «…Сегодня в три часа утра мамаша родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него – бас, длиною он аршин без двух вершков, а руки немного меньше моих. В жизни моей впервые вижу такого рыцаря…» Это она о вас, сударь, писала.
Николай Павлович с усмешкой посмотрел на супругу, затем отхлебнул из чашки чай и только после этого произнес.
– И охота, вам сударыня, в чужих письмах рыться…
– А от чего она умерла? Сестрица-то молодая была… – спросила Александра Федоровна и выжидающе посмотрела на супруга.
– Не знаю, – ответил Николай Павлович. – Говорили только, что отошла она через полтора года после моего рождения. И матушка, царствие ей небесное, тут же поручила мое воспитание англичанке Евгении Лайон. Чудная была женщина. Мы с братом Михаилом души в ней не чаяли…
– Я слышала о ней и от твоей матушки, – сказала Александра Федоровна. – А правда, что она была протестантка?
– Говорили… Однако для нас это ничего не значило. Она исправно учила нас креститься и читать «Богородицу»…Вот только старый пес граф Ламздорф не давал ей покоя со своей прихотью. Однажды я даже хотел ударить его ружьем. Он начал при нас приставать к ней!..
Императрица Александра Федоровна не сдержалась.
– Боже мой!.. Не из ума ли выжил этот Ламсдорф?
Николай Павлович слегка пожал плечами.