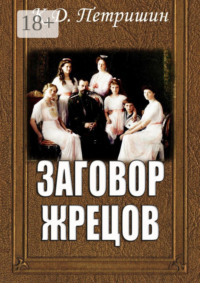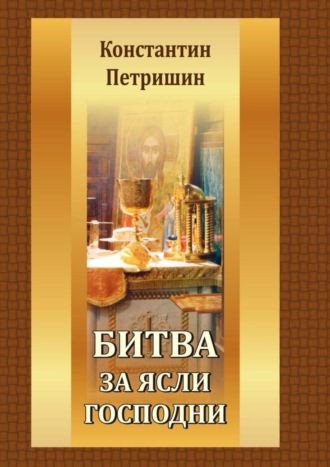
Полная версия
Битва за ясли господни
После этих слов Франца-Иосифа все поднялись с мест, кроме Николая I. Перед ним стоял бокал с водой, подкрашенной по его просьбе вишневым соком…
На следующий день Николай I отъехал в Варшаву. В Ольмюце он получил через посольство в Вене телеграфированную депешу от князя Паскевича, в которой выразилась просьба, по возможности, не обратном пути заехать в Варшаву.
…Был теплый воскресный день, когда Николай I въехал в Варшаву в сопровождении сотни улан. У старинных крепостных ворот с хлебом и солью его встретили представители польских магнатов, сенаторы и депутаты. До Бельведерского замка, на всем протяжении дороги, стояли поляки, однако на их лицах не было видно радости. Скорее они выражали покорность, как и те, кто встречал у крепостных ворот.
Николай I это заметил и сказал сидевшему рядом с ним графу Нессельроде:
– Покорность – это тоже положительное качество народа…
Граф Нессельроде догадался, о чём говорил государь. Он промолчал, хотя и не был согласен с Николаем I, зная на многих примерах, чем оборачивается покорность народов, достигнутая насильственным путем.
Для Нессельроде сказанное государем казалось не столь важным. Его мысли были поглощены другим. Перед отъездом через венское посольство он договорился от имени государя о приезде в Варшаву прусского короля Фридриха-Вильгельма, отношения которого с Николаем I были не столь безоблачными.
Николай I всегда отдавал предпочтение в спорных делах Австрии в ущерб Пруссии, несмотря на то, что русский посол в Берлине пользовался такими правами, каких не было ни у одного посла в других европейских государствах. Ему даже позволялось вести надзор над немецкими газетами.
…Старый фельдмаршал князь Паскевич был искренне рад приезду государя. Сначала в церкви замка прошел молебен во здравие государя и уже после этого они уединились в кабинете фельдмаршала.
– Ваше величество, – начал разговор князь Паскевич, как только увидел, что государь готов его слушать. – По сведениям, которые, я имею от Горчакова и из других источников на сегодняшний день, обстановка складывается таким образом: английские и французские флоты стоят в Босфоре в полной боевой готовности. Турецкий же флот курсирует к восточным берегам Черного моря и снабжает оружием кавказские племена и народности. Основным местом стоянки турецкого флота является Синопская бухта, которая надежно охраняется артиллерией береговых крепостных сооружений…
Государь побарабанил пальцами по подлокотнику кресла.
– Значит, они имеют намерения начать боевые действия и в Закавказье, – произнес он.
– Да, ваше величество, – подтвердил фельдмаршал. – Надо полагать, князь Воронцов уже знает об этом.
– Знать то знает… Только дело идет к зиме, да и войск у него недостаточно… Ну, хорошо. Это мы как-нибудь уладим. А что у самого Горчакова? – поинтересовался Николай I.
– Срок турецкого ультиматума, как вы знаете, истек, – ответил князь Паскевич. – Горчаков сосредоточил в основном войска в окрестностях Бухареста. Это около 47 тысяч. Одна пехотная и одна кавалерийская бригады находятся в Кишеневе. Всего в распоряжении Горчакова 60 тысяч человек. Что касается турецкой армии Омер-паши, она по разным сведениям насчитывает около 130 тысяч человек. В районе Шумлы – 30 тысяч. Здесь же находится и сам Омер-паша со штабом. В районе Андрианополя – тоже до 30 тысяч. Остальные войска занимают правобережье Дуная от устья до Видино. Как видите численное преимущество на их стороне значительно…
Николай I встал, сделав рукой легкий знак рукой, чтобы фельдмаршал не поднимался с места, и прошелся по кабинету раз, другой, третий. Прошло так несколько напряженных минут. Наконец он спросил:
– Ну и что нам делать дальше, Иван Федорович?
– Ждать, ваше величество, – неожиданно ответил фельдмаршал Паскевич. – Время работает на нас.
– Вы уверены?
– Да, ваше величество. Союз Турции, Англии и Франции непрочен. У каждого из них свои цели и планы. Людовиком Наполеоном движет чувство мести России и желание добиться успеха в войне, утвердив, таким образом, себя как правителя Франции. Англичане ненавидят французов и, если примут участие в компании против нас, то разве что на море или ограниченным десантом на побережье. У них главная цель не допустить Россию в Закавказье и сохранить за собой торговые пути в Индию и в среднюю Азию. Что касается турок – они боятся и французов, и англичан. Какой же это Союз, ваше величество?
Николай I ничего не ответил. Он подошел к окну. Некоторое время молча стоял, наблюдая, как во внутреннем дворе замка идет смена караула, и только потом произнес:
– И все же, дорогой князь Иван Федорович, мы стоим пред фактом такого Союза. Когда Фридрих-Вильгельм прибывает в Варшаву?
– Если не сегодня вечером, то завтра утром, – ответил фельдмаршал. – Распоряжения какие-нибудь будут?
– Нет, Иван Федорович, – ответил Николай I. И добавил: – Если приедет утром – это даже лучше. Ибо утро вечера мудренее.
…Худшие опасения канцлера Нессельроде сбылись. Фридрих-Вильгельм по прибытию в Варшаву заявил Николаю I, что Пруссия намерена держать нейтралитет в споре между Россией и Турцией. Что касается содержания венской конвенции в ней правительство Пруссии не находит ничего, что бы могло нанести ущерб интересам России.
В Варшаве Фридрих-Вильгельм не стал задерживаться. На следующий день он уехал в Берлин.
Часом позже Николай I покинул Бельведерский замок.
…Всю дорогу до Петербурга канцлера Нессельроде не покидала мысль: когда была совершена роковая ошибка, которая привела Россию к изоляции со стороны многих европейских держав?
Нессельроде в душе был против «Европейского романтического Союза», созданного по воле императора Александра. В нем все казалось несерьезным и надуманным. С восшествием на престол Николая I начал складываться новый Союз.
В 1833 году был заключен договор с Австрией и Пруссией о взаимной помощи и поддержке. Этот договор предусматривал взаимную помощь на случай внутренних беспорядков, однако вызвал почему-то у многих европейских держав опасение. А появление в дальнейшем русских войск в Европе – чувство страха.
«…Господи, – взмолился про себя Нессельроде, отчаявшись найти оправдание тому, что произошло и, которому он был не просто свидетелем, но и активным соучастником, – подскажи, где найти спасение душе в страхе и подозрениях? Неужели выход только в войне? Но не может даже священная война быть успокоением и оправданием грехов, творимых нами на земле. Ибо сама война – величайший грех, который нельзя искупить ни чем…»
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Сентябрь 1853 года был на исходе. Необыкновенно солнечная и красочная осень пришла в Валахию одновременно от Орсы до Галаца и уже подбиралась к Трансильванскому хребту, величественно возвышающемуся над всей окрестностью.
Весь месяц князь Горчаков почти не выезжал из Бухареста. Своей главной задачей он считал благоустройство войск до наступления холодов. В городе не хватало казарм, и он приказал строить землянки из материалов, купленных у местных жителей в селениях, окружающих Бухарест.
По сведениям, постоянно поступающим из разных источников в главный штаб, князь Горчаков знал, что турецкие войска по-прежнему основными силами стоят в Шумле, Андрианополе и по течению Дуная от Видино до Измаила. Из общего числа войск Омер-Паши только половина была регулярных. Остальные войска состояли из необученных ополченцев, наскоро собранных в подвластных Турции территориях. По одной дивизии прибыло из Египта и Туниса. Что касалось множества волонтеров – баши-бузуков, то они, по мнению лазутчиков, только разлагали войска своей недисциплинированностью. Слабостью Омер-паши было и то, что в его войсках состояло на службе много иностранных офицеров, которые не пользовались уважением среди солдат. Их презрительно называли гяурами, то есть неверными.
…29 числа князь Горчаков пригласил к себе исполняющего должность начальника главного штаба подполковника Эриропа, командующего 4-м корпусом генерала Данненберга и командира авангарда генерал-адъютанта Анрепа.
– Господа, – обратился князь Горчаков к ним, – я только что получил еще одно письмо от командующего турецкими войсками Омер-паши. Он снова требует в течение двух недель вывести наши войска из Дунайских княжеств…
Князь Горчаков умолк и выжидающе посмотрел сначала на генерала Данненберга, затем на Анрепа и Эриропа.
– Михаил Дмитриевич, было бы странным, если он бы он не добивался этого, – заметил генерал Данненберг.
– В противном случае, – продолжил князь Горчаков, – он начнет боевые действия.
– Значит, все станет на свои места, – снова заговорил генерал Данненберг.
Князь Горчаков усмехнулся.
– За исключением одного обстоятельства, – отреагировал он на слова командующего 4-м корпусом. – Мы до сих пор не объявили туркам войны.
– Михаил Дмитриевич, но это не столь важно, – вступил в разговор генерал-адъютант Анреп. – Мы же не будем сидеть, сложа руки?
Князь Горчаков снова усмехнулся. Но на этот раз его усмешка получилась какой-то вымученной.
– Вы правы, – согласился он и добавил: – Добрыми делами сам Бог правит. А посему нам необходимо срочно выработать план ответных действий на тот случай, если придется вступить в дело, – и обратился к генералу Анрепу: – Насколько я осведомлен, вы уже провели рекогносцировку на местах возможных переправ противника через Дунай. Можете не вставать, – разрешил князь Горчаков, заметив, что генерал Анреп собирается подняться с места.
– Благодарю вас, Михаил Дмитриевич, – ответил Анреп, но все же встал. – Так привычнее, – пояснил он. И продолжил: – По выезду на места мною установлено, что возможных переправ у турок в осенний период, когда можно использовать лодки, плоты и паромы, несколько. Но наиболее удобной является переправа у Видино. Здесь и крепость у них содержится в порядке при достаточном количестве артиллерии, и имеются переправочные средства. К тому же лесистый остров, лежащий между Видино и Калафатом может в значительной мере облегчить переправу на левый берег. Далее от Калафата до устья реки Жио, впадающей в Дунай, по всему левому берегу находится обширная равнина, позволяющая после переправы развернуть войска в боевые порядки…
Генерал Анреп сделал паузу и ею воспользовался князь Горчаков.
– Вы назвали наиболее удобную переправу, – сказал он, – но это не означает, что противник не воспользуется и менее удобными.
– Абсолютно верно, Михаил Дмитриевич, – согласился с князем Горчаковым генерал Анреп.– Такие переправы возможны в районе селений Систов, Туртукай, Гирсово, Исакчи, Тульчи, а также там, где у них стоят крепости Рахово, Никополь и Рущук.
Князь Горчаков сокрушенно качнул головой.
– Да-а-а… – протянул он. – Обрадовали вы нас. Это уже не менее полутора десятка переправ…
– Михаил Дмитриевич, и это возможно, не все, – заметил генерал Данненберг. – При достаточном количестве переправочных средств через Дунай можно переправиться во многих местах.
Заключение генерала Данненберга окончательно расстроило князя Горчакова. К тому же правый берег Дуная значительно возвышался над левым и служил хорошим плацдармом для скопления турецких войск и обстрела левой низменной стороны.
Все это давало Омер-паше преимущество в наступательных действиях, а превосходство в численности еще и возможность переправляться сразу в нескольких местах.
Генерал Анреп сел, а князь Горчаков, подперев кулаками подбородок, некоторое время мрачно молчал, затем спросил:
– И что мы можем сделать при таком раскладе?
– Разрешите мне, Михаил Дмитриевич, высказать свое мнение, – попросил слово подполковник Эрироп.
– Пожалуйста, Александр Григорьевич, – ответил князь Горчаков. – Может и у вас найдется что-нибудь утешительное.
Сказав это чуть насмешливым тоном, Горчаков все же надеялся, что должен быть выход из складывающейся непростой обстановки.
– По мнению штаба, было бы выгоднее в таких условиях сосредоточить наши основные войска в двух-трех местах, тем более, что время идет к зиме. И организовать постоянное наблюдение за турками с помощью подвижных кавалерийских отрядов. В случае переправы турок, допускать их на значительное удаление от Дуная, лишая их тем самым поддержки артиллерии с высокого правого берега, и затем решительной атакой уничтожать. Тактика это не новая. Она успешно применялась Суворовым при Фокшанах и Рымнике… – доложил подполковник Эрироп.
– Но я не Суворов, Александр Григорьевич, – усмехнулся князь Горчаков и обратился к генералу Анрепу. – Вы подумайте над этим предложением, потому как подвижные отряды, в случае принятия предложения Александра Григорьевича, будут сформированы из состава вашего авангарда, тем более, что местность вами уже изучена. А теперь, – продолжил он, – давайте обговорим задачи, которые предстоит нам решать, если не сегодня, то уже завтра. Итак, в первую очередь, нам необходимо, я полагаю, организовать охранение основных расположений наших войск. Это я поручаю сделать вам, – обратился князь Горчаков к генералу Данненбергу. – Во-вторых, местом дислокации войск авангарда остается по-прежнему лагерь в районе Нижнего Арджика. Дополнительные подразделения, прикомандированные к авангарду, необходимо расположить в ближайших селениях Колибаш и Гостиноди. Что касается охранения береговой линии Дуная до крепости Силистрия, здесь я попрошу начальника штаба подготовить приказ о формировании отряда из Ольвиапольского, Вознесенского уланских полков 34-го и Донского полка с местом нахождения отряда в Обилешти. Командовать отрядом я назначаю генерал-майора Богушевского.
В Малой Валахии в районе города Руссе-де-Веде, нам необходимо будет расположить еще один отряд в составе Ахтырского гусарского полка, трех батальонов Екатеринбургского полка, и двух-трех сотен казаков от 37-го Донского полка. Ну вот, в основном и все, господа, – сделал заключение князь Горчаков.
Кто будет командовать Маловалахским отрядом, князь Горчаков не назвал. По всей вероятности он не определил и сам и потому ни генерал Данненберг, ни генерал Анреп уточнять не стали.
– Да, и ещё, – словно спохватившись, добавил князь Горчаков. – Что касается тактики встречи противника и ведения боя в случае его переправы на левый берег, я считаю, лучшим способом будет уничтожить противника на переправе, не давая ему возможности высадиться на берег, где он сможет, пользуясь численным преимуществом, развернуть против нас крупномасштабные действия, лучший способ – отступить и уже потом, при подходе резерва, уничтожать, по-Суворовски.
При этих словах князь Горчаков посмотрел на подполковника Эриропа и чему-то улыбнулся.
2
В начале октября князь Горчаков подписал еще один приказ о формировании нескольких передовых отрядов из состава войск 4-го корпуса, определив им охрану левого берега Дуная от устья реки Веде, впадающей в Дунай, до озера Мостище и Карницелевского монастыря. Один отряд в составе Томского полка, трех батальонов Колыванского егерского полка с двумя пешими батареями и 40-м казачьим полком под общим командованием генерал-лейтенанта Соймонова должен был расположиться напротив турецкой крепости Журжи в селении Одая.
В Малой Валахии у Руссе-де-Веде расположился небольшой отряд под командованием генерал-лейтенанта Фишбаха. Однако вскоре отряд был усилен двумя батальонами Тобольского пехотного полка и 88-м Донским казачьим полками.
На левом фланге под командованием генерал-майора Павлова расположился еще один отряд. В него вошли Селингинский и Ольвиопольский уланские полки. Местом расположения отряда стал Будешти. И Якутский полк с артиллерией был расположен в селе Добрени, в 20-ти верстах от Будешти.
3 сотни 34-го Донского полка под командованием подполковника Власова разместились в Ольтенице с задачей вести наблюдение за левым берегом Дуная от озера Гряка до монастыря в Карницели.
Этим же приказом штаб 4-го пехотного корпуса был переведен в селение Добрени.
Перед отъездом в Добрени генерал Данненберг, прощаясь с князем Горчаковым, сказал:
– Михаил Дмитриевич, я понимаю ваше желание не допустить Омер-пашу на левый берег и ценю ваше слово, данное его величеству, избегать открытых столкновений с турками. Однако с того времени многое изменилось. Турция объявила нам войну и, таким образом, развязала руки государю, а вас избавила от данного ему слова. Почему же мы и далее должны придерживаться прежней тактике недопущения турецких войск на левый берег Дуная, а не вырабатываем новую тактику по уничтожению неприятеля повсеместно, где бы он не находился?
Князь Горчаков был слегка смущен прямотой вопроса, однако ответил без обиды.
– Потому, что Россия еще не объявляла войну Турции, и на царе лежит ответственность за все, что происходит в Дунайских княжествах.
Генерал Данненберг укоризненно качнул головой.
– Михаил Дмитриевич, не сегодня, так завтра мы будем вынуждены ответить на объявление нам войны тем же! – сказал он. – И что тогда? Мы снова начнем менять дислокацию войск?
– Бог подскажет, что делать дальше, – уклончиво ответил князь Горчаков. – Я не могу нарушить данные мне предписания. Вы же сами знаете – в Петербурге этого не любят. Прощайте и да благословит вас Бог.
И князь Горчаков обнял генерала Данненберга за плечи.
…5 октября генерал Анреп доложил в Бухарест, что накануне несколько его пикетов были обстреляны с правого берега Дуная из стрелкового оружия. Почти одновременно пришло донесение и от генерала Фишбаха о скоплении турецких войск у Видино и подвозе в крепость большого количества снарядов, а также о передвижении турецкой колонны по направлению к Верхнему Дунаю.
Князь Горчаков тут же отправил Фишбаху приказ вести круглосуточное наблюдение за турецким берегом и пресекать любые попытки турок переправиться через Дунай.
…6 октября погода резко ухудшилась. Мелкий холодный дождь, начавшийся с раннего утра, перешел в ливень. Резко похолодало.
– Я не думаю, чтобы такая погода была по душе туркам, – сказал князь Горчаков за обеденным столом подполковнику Эрнропу. – Однако на всякий случай, отдайте распоряжение подтянуть часть войск к Браилову и Галацу и отправьте в Измаил депешу контр-адмиралу Мессеру, чтобы он, не мешкая, снарядил к Галацу два парохода и несколько канонерских лодок. И обязательно, Александр Григорьевич, поставьте об этом в известность генерала Лидерса. Чтобы не было лишних разговоров, – добавил он.
9 октября от генерала Лидерса пришел ответ, в котором сообщалось, что к Галацу вышли два парохода «Прут» и «Ординарец» с 8 канонерскими лодками под командованием капитана 2-го ранга Варпаховского. Генерал Лидерс доводил также до сведения князя Горчакова желание моряков пройти по Дунаю не ночью, как было предписано в целях безопасности, а днем, чтобы никто не мог сказать дурного слова в адрес Дунайской флотилии.
…Первой преградой на пути следования русской флотилии была турецкая крепость Исакчи.
11 октября в половине девятого утра флотилия показалась на виду у турок. По всей видимости, они не знали о выходе из Измаила русской флотилии, и ее появление перед крепостью стало для них полной неожиданностью. Турецкие орудия открыли огонь по реке.
Пароходы «Прут» и «Ординарец» с первых залпов из 36-и фунтовых пушек заставили турок прийти в смятение.
Канонерские лодки, став у бортов пароходов и, прикрывая собой их машинные отделения, из своих 24-х фунтовых орудий повели обстрел города и военного лагеря, расположенного на склоне к Дунаю.
В городе сразу в нескольких местах начались пожары. Одновременно генерал Лидерс, прибывший еще утром к селению Сатунов, где стоял Житомирский егерской полк, приказал для отвлечения внимания турок выдвинуть скрытно в камышовые заросли, которыми был покрыт весь левый берег, четыре пеших орудия, и под прикрытием двух взводов штуцерных стрелков ударить по крепости.
Бой длился немногим более часа. В начале одиннадцатого орудия в крепости смолкли, город горел, и турки спешно стали покидать свои укрепления в нижней части города.
Флотилия не спеша прошла Исакчи и стала подниматься вверх по Дунаю.
В этом первом бою было убито 14 моряков и среди них капитан 2-го ранга Варпаховский.
Об этом князь Горчаков узнал по прибытию флотилии в Галац и испытал двоякое чувство: гордость за первый успех, что было немаловажно для войск и одновременно тревогу. Он не мог себе предположить, как отнесется к случившемуся государь…
К этой тревоге прибавилось и еще одна: начальник штаба подполковник Эрнроп доложил, что прошедшей ночью на своей квартире был убит австрийский наблюдатель при штабе майор Том.
– …Странно, кто это мог сделать? – задумчиво произнес князь Горчаков, вдруг вспомнил свой разговор с консулом о майоре Томе.
«Нет, нет… Они этого не могли сделать… А впрочем… Чем чёрт не шутит…», – решил про себя Горчаков.
– В Петербург докладывать будем? – задал вопрос подполковник Эрироп.
Князь Горчаков побарабанил пальцами по столу.
– В Петербург не будем, а фельдмаршалу князю Паскевичу придется доложить, – решил он. – А каким образом он был убит? – поинтересовался Горчаков.
– Задушен веревкой, – пояснил подполковник Эрироп. – Следов борьбы не обнаружено. Надо полагать, он был знаком с тем, кто это сделал. Веревка была накинута сзади…
– Вы знаете, чем он занимался? – снова спросил Горчаков.
Подполковник Эрироп слегка пожал плечами.
– Он никогда не докладывал…
– Вот и я не знаю… Однако бог шельму метит, – добавил, перехватив на себе недоуменный взгляд подполковника Эриропа. И сменил тему разговора. – А генерал-то Лидерс молодец! Проследите, чтобы всех моряков поставили на довольствие и представьте к наградам особо отличившихся, – распорядился он. – Я полагаю, капитана 2-го ранга Варпаховского надо тоже представить к высочайшей награде. Но об этом я сам буду ходатайствовать перед государем. И похоронить его надо со всеми почестями… Как и всех остальных.
Приказав подполковнику Эриропу усилить охрану частных квартир, где проживали офицеры и генералы штаба, князь Горчаков в это же день выехал в Галац.
3
С приходом октября погода все чаще становилась унылой и зябкой. Низкие пепельного цвета облака и холодные сырые туманы сутками нависали над долиной Нижнего Дуная.
Проливные дожди лили чуть ли не каждый день.
Несмотря на такую погоду, турки ночами переправлялись небольшими отрядами на левобережье Дуная и из засад нападали на аванпосты, состоявшие в основном из Донских казаков и каждый раз получая отпор, в спешке ретировались на правый берег.
…19 октября князь Горчаков получил срочную депешу из Варшавы от фельдмаршала Паскевича, который ставил его в известность, что 14 октября правительство России, наконец, объявило войну Турции.
– Слава богу! – выдохнул с облегчением князь Горчаков и перекрестился. Он тут же приказал дежурному офицеру вызвать начальника штаба подполковника Эриропа и довел до него содержание депеши.
– У меня тоже, Михаил Дмитриевич, новость, – в ответ сказал подполковник Эрироп. – Однако не из приятных. Я только что получил донесение от генерала Фишбаха. Он сообщает, что этой ночью многочисленный отряд турок, занимавших до этого остров Видино, переправился на нашу сторону и захватил Калафат…
– О, господи! – воскликнул князь Горчаков. – Что же все это в один день навалилось на нас!.. – Но, устыдившись своих невольных эмоций, тут же взял себя в руки и решительно продолжил. – Александр Григорьевич, прикажите немедленно генералу Фишбаху перекрыть дорогу на Крайово. Иначе беды не миновать. И очистить Калафат от турок.
…20 октября в полдень такое же тревожное донесение пришло и от генерала Соймонова, который занимал своим отрядом селение Журжу. Его разъезды доложили, что вниз по Дунаю от Рущука идет турецкая флотилия с войсками.
Князь Горчаков собственноручно написал Соймонову: «Война объявлена. Приказываю действовать в соответствии с поставленной задачей».
Получив такое указание, генерал Соймонов распорядился скрытно установить в прибрежных зарослях кустарника две пешие артиллерийские батареи и стал ждать подхода неприятеля.
…Турецкая флотилия перед Журжи появилась утром следующего дня. Она состояла из пяти канонерских лодок и парохода, который вел на буксире галиот с пехотой.
Батареи тут же открыли огонь.
Одно из ядер ударило в борт парохода, затем второе. Пароход прибавил ход. Еще немного и он бы вместе с галиотом скрылся за длинным лесистым островом, но в это время от попадания очередного ядра на пароходе раздался взрыв и клубы густого пара и дыма окутали всю палубу.
Батарейцы перенесли огонь на галиот, который на веслах пытался обойти пароход, и через несколько минут он бы скрылся за островом, однако от попадания нескольких ядер потерял управление. Его развернуло течением и стало сносить на мель перед островом.
На берегу грянуло «Ура!». Батарейцы на радостях обнимали друг друга. К ним подошел генерал Соймонов, поблагодарил за хорошую стрельбу и приказал адъютанту выдать из казны по рублю каждому батарейцу.