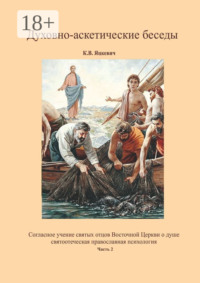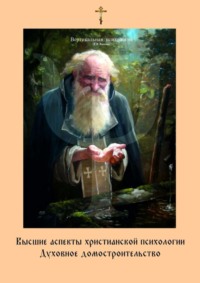Полная версия
Заметки о христианской психологии. Дополнение к курсу
(Преп. Иоанн Кассиан, О постановлениях киновитян. 2. 13.) «Диавол, ненавидящий чистоту… силится осквернить нас во время покоя и повергнуть в отчаяние особенно после того, как мы принесли Богу покаяние… и ему удается иногда и в краткое время этого часа сна уязвить того, кого он не мог уязвить в продолжение всей ночи. Во-вторых… и чистый сон без опасных грез может расслабить монаха, которому нужно скоро встать, производит в духе ленивую вялость, ослабляет его бодрость на целый день, иссушает сердце, притупляет зоркость разума, которые на весь день могли бы сделать нас более осторожными и более сильными против всех наветов врага»
(Евагрий авва. О сновидениях, Добротолюбие. Т. 1. с. 619—620) «Достойно изыскания, как бесы в сонных мечтаниях напечатлевают и воспроизводят образы во владычественном нашем (уме). Подобное сему обыкновенно бывает с умом (и на яву), когда он или видит глазами, или слышит ушами, или другим каким чувством восприемлет что со вне, и удерживает то в памяти; память же, приводя в движение то, что получила чрез тело, вносит образы во владычественный ум. Итак, мне думается, что демоны (в сновидениях), вносят образы в ум, приводя в движение память, потому что органы чувств в то время держатся сном в бездействии. Но спрашивается опять, как память приводят они в движение? Посредством ли страстей? Да, (если иметь во внимании страстные сны), и это явствует из того, что чистые и бесстрастные не терпят ничего подобного. Но бывает и простое (бесстрастное) движение памяти»
(Преп. Нил Сорский, О спасении души.) «Наипаче должно соблюдать себя во время сна, благоговейно, с помышлениями, внутрь себя собранными, и с благочинием в самом положении наших членов; ибо сон сей маловременный есть образ вечного сна, т.е. смерти, и возлежание наше на одре должно напоминать нам положение наше во гроб. И при всем этом всегда должно иметь пред очами своими Бога… Поступающий так всегда в молитве пребывает»
«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут».
(Преп. Никита Стифат, Добротолюбие, Т. 5. Вторая сотница естественных психологических глав об очищении ума, 54) «Тщательный может и по сновидениям угадывать движения и расположения души, и соответственно тому направлять попечение об устроении своего духовного состояния»
«Из того, что представляется во время сна, иное есть мечтание, иное видение, иное откровение.
суть такие сновидения, которые не стоят неизменными в воображении ума, но которым предметы перемешиваются, одни вытесняют другие, или изменяются в другие; от них никакой не бывает пользы, и самое мечтание их исчезает вместе с пробуждением… Мечтания
суть такие сновидения, которые во все время стоят неизменными, не преобразуются из одного в другое и так напечатлеваются в уме, что остаются на многие лета незабвенными: они показывают сбытие будущих вещей, доставляют душе пользу, приводя ее в умиление… Видения
(Преп. Никита Стифат, Добротолюбие, Т. 5. Вторая сотница естественных психологических глав об очищении ума, 55) суть сущие выше всякого чувства созерцания чистейшей и просвещенной души, представляющие дивные некие божественные дела и разумения, тайноводство сокровенных Божиих тайн, сбытие наиважнейших для нас вещей…» Откровения
(Св. Феофан Затворник, Воплощённое домостроительство, О сне, с. 361) «Во сне проходит третья часть жизни. Быть не может, чтоб он не имел глубокого для нее значения. В естественном порядке им возобновляются силы и образуется существо человека – душевно-телесное.»
(Св. Феофан Затворник, Воплощённое домостроительство, О сне, с. 362) «В ходе сновидений различают три степени: бред, при дремании, собственно сновидение или сонное мечтание, при совершенном сне тела, и сон сокровенный, непомнимый, при мертвом сне тела.»
«Между сими сновидениями различают три рода:
одни , о которых пишет Сирах: якоже емляйся за стенъ, или гоняй ветры, тако емляй веру сном (ср.: Сир. 34, 2). беспорядочные
(Св. Феофан Затворник, Воплощённое домостроительство, О сне, с. 362) Другие , кои в человеке, начинающем приходить в сознание, влагаются Богом или Ангелом Хранителем. О них Иов говорит, что, во время сна и в ночных видениях, когда объемлет человека сон, когда он спит на постели, Бог открывает ухо его и, научив его, запечатлевает для того, чтоб отвесть человека от дела худого, чтоб удалить от него гордость и чтоб удержать душу его от могилы (см.: Иов. 33, 15— 18). Третьи, наконец, бывают особенные сны – . Об них говорит Сам Бог: аще будет в вас пророк, в видении познаюся ему, и во сне возглаголю ему (ср.: Чис. 12, 6).» вразумительные Божественные, пророческие
«Сновидения бывают таковы, . Их можно большею частию считать свидетелями о нравственном нашем состоянии, которое в бодрственном состоянии не всегда видится. У человека беспечного, преданного страстям, они всегда нечисты, страстны: душа там бывает игралищем греха. каково сердце
(Св. Феофан Затворник, Воплощённое домостроительство, О сне, с. 364) У человека, обратившегося и ревнующего об очищении сердца, они бывают то хороши, то худы, смотря по тому, что возьмет перевес, а иногда, – каким заснет. Он же подвергается здесь частым нападениям бесов, которые иногда сильно соблазняют малоопытных, как замечает святой Лествичник.»
(Никон (Воробьев), Письма) «Сны, которые возбуждают уныние и отчаяние – от врага. Сны от Бога умиляют сердце, смиряют, укрепляют надежду на Спасителя, пришедшего на землю и понесшего Крест ради спасения погибающих, а не праведников, считающих себя (ложно) достойными царствия Божия»
(Преп. Иоанн Лествичник, Лествица, Слово 3. О сновидениях, бывающих новоначальным. 27) «Бесы тщеславия – пророки в снах; будучи пронырливы, они заключают о будущем из обстоятельств и возвещают нам оное, чтобы мы, по исполнении сих видений, удивились и, как будто уже близкие к дарованию прозрения, вознеслись мыслию. Кто верит бесу, для тех он часто бывает пророком; а кто презирает его, пред теми всегда оказывается лжецом. Как дух, он видит случающееся в воздушном пространстве и, заметив например, что кто-нибудь умирает, он предсказывает это легковерным через сновидение»
(Преп. Иоанн Лествичник, Лествица, Слово 3. О сновидениях, бывающих новоначальным. 28) «Бесы многократно преобразуются в ангелов света и в образ мучеников и представляют нам в сновидении, будто мы к ним приходим; а когда пробуждаемся, то исполняют нас радостию и возношением… Кто верит снам, тот вовсе не искусен; а кто не имеет к ним никакой веры, тот любомудр»
(Св. Феофан Затворник, Воплощённое домостроительство, О сне, с. 364) «У человека, живущего по духу Христову, всё иначе: низшие способности, особенно воображение, укрощены и обращаются в орудные, не властвующие уже силы, как и должно; напротив, способности высшие действуют во всей силе. Разум его есть сокровище тайн Божиих, ибо непосредственно входит в общение с невидимым миром и непосредственно испытывает его своим духом.»
(Добротолюбие, Т. 1, О доброй нравственности и святой жизни, преп. Антоний Великий) «Как телу, когда совершенно разовьется во чреве, необходимо родиться, так душе, когда она достигнет положенного Богом предела ее жизни в теле, необходимо выйти из тела.»
(Карлос Кастанеда, Искусство сновидения) «Сновидение раскрывает перед нами возможность восприятия других миров. Мы можем описывать эти миры, но не способны описать то, что позволяет нам их воспринимать. И в то же время нам дано ощутить, каким образом сновидение открывает перед нами вход в иные сферы бытия. Я бы сказал, что сновидение – это ощущение, процесс, протекающий в теле, и осознание, возникающее в уме.»
(Св. Феофан Затворник, Воплощённое домостроительство, О сне, с. 364) «Заботливого человека это и заставляет, отходя ко сну, по наставлению Церкви, вопиять к Богу и Ангелу Хранителю, чтоб сон его сохранен был свободным от всякого диаволя мечтания и – ему самому чрез сон еще более укрепиться в добре. По мере очищения сердца очищаются и сновидения, так что у святых и совершенных они бывают как бы продолжением их бодрственной деятельности. Не простирается ли она даже до сохранения ?» самодеятельности и самоуправления
(Преп. Ефрем Сирин, Слово на Еккл. 1: 14.) «Как сон обольщает душу призраками и видениями, так мир обольщает своими удовольствиями и благами. Обманчив бывает ночной сон; он обогащает тебя найденными сокровищами, делает властелином, дает тебе высокие чины, облекает в пышные одежды, надмевает гордостью и в мечтательных призраках представляет, как приходят и чествуют тебя люди. Но миновала ночь, сон рассеялся и исчез: ты опять бодрствуешь, и все те видения, какие представлялись тебе во сне, стали чистой ложью. Так и мир обманывает своими благами и богатствами; они проходят, как ночное сновидение, и обращаются в ничто. Тело засыпает в смерти, а душа пробуждается, припоминает свои сновидения в этом мире, стыдится их и краснеет»
(Преп. Максим Исповедник, Добротолюбие, Т. 3, Первая сотница глав о любви, 89) «Когда душа начнет чувствовать себя здравою [от страстей] тогда начнет и сновидения иметь чистые и безмятежные»


О сердце и совести
(Св. Феофан Затворник, Воплощенное домостроительство. Опыт христианской психологии) «Кто хочет знать душу, – обратись к святым Отцам, особенно подвижникам, и черпай из сего источника обильно психологическую мудрость»
Одной из основных заслуг святителя Феофана Затворника, как основоположника направления христианской психологии, можно считать создание им базиса парадигмы христианской психологии в конце 19-го века, который был рассредоточен в многочисленных письмах и статьях.
К большому сожалению святитель не успел оформить его в виде пособия или учебника, уйдя из жизни, о чём в своё время сокрушённо писал архиепископ Никон (Рождественский):
Вместе с тем, святитель Феофан решил практически основополагающие задачи направления христианской психологии, дав определение христианской психологии, обозначив цели христианской психологии, указав основополагающие принципы устройства человеческой души через призму трёх основополагающих сил – , и их преломления через три базовых состояния человека – и сформулировав т.н. «девятерную» схему иерархии душевных состояний. ума чувства и воли телесное, душевное, духовное
Принцип девятеричности сил и состояний человеческой души, открытый святителем Феофаном, можно считать хрестоматийным и имеющим отношение ко всей духовной психологи, включая не только христианскую, но и ведическую систему.
Тем не менее, наиболее полно данный принцип девятеричности был обозначен святыми отцами Восточной Церкви, а сформулирован святителем Феофаном Затворником в его труде «Воплощённое домостроительство, опыт христианской психологии».
Девятеричная схема иерархии сил души
Как видно из схемы, три силы души () на трёх уровнях человеческого естества (), преломляются девятью различными состояниями ума, чувства и воли. ум, чувство, воля телесное, душевное, духовное
В низшем (эго) состоянии: телесном
– Ум в телесном состоянии – эго рассудок
– Чувство в телесном состоянии – эго эмоции
– Воля в телесном состоянии – эго желания
В среднем (нравственном) состоянии: душевном
– Ум в душевном состоянии – нравственный разум
– Чувство в душевном состоянии – нравственные чувства
– Воля в душевном состоянии – нравственная воля
В высшем (сущностном) состоянии: духовном
– Ум в духовном состоянии – духовный ум
– Чувство в духовном состоянии – духовные переживания
– Воля в духовном состоянии – духовное намерение (решимость)
Глядя на эту схему становится не сложно понять, что душевное состояние человека, соответствующее нравственному и жертвенному состоянию мышления, является как бы переходным и промежуточным между телесным и духовным. При этом данное состояние, несмотря на нравственную и моральную доминанту, является ещё глубоко несовершенным и практически бездуховным. Об этом прямым текстом пишет святитель Феофан в книге «Воплощённое домостроительство, опыт христианской психологии».
Девятеричная схема интересна тем, что показывает соотношение страстности телесного эго состояния и бесстрастности духовного состояния святости. Отсюда и вытекает понимание того, что душевное состояние, как переходное (страстно-бесстрастное), является наиболее неустойчивым когнитивно. Именно этой нестабильностью соотношения страстей и добродетелей в душевном состоянии и объясняется феномен прелести, радикальности и перепадов настроения, свойственных новоначалию.
Важнейшей заслугой святителя Феофана применительно к христианской психологи, можно считать определение им такой важной категории, как в духовном понимании, а также его устройства и механизма работы посредством инструмента совести. «сердце»
Говоря о «сердце», как центре сосредоточения всех сил души, святитель Феофан писал:
Говоря о «сердце», как центре или оси «сборки» всех сил души, святитель использует очень точную метафору «оси часового механизма» души:
Категория «сердца» в святоотеческой традиции и психологии носит нематериальный характер, а душевно-духовный (энергийно-информационный), а потому не связана напрямую с сердцем физическим, как органом кровеносной системы. Очень не плохо категория сердца была исследована Вышеславцевым Б. П.
Сердце – это своего рода энергийный центр души в котором происходит соединение всех трёх души (ума, чувства, воли) в единую картину бытия. Духовное сердце по своему расположению примерно совпадает с сердцем телесным, как главным органом кровеносной системы, но находится не в физическом теле, а в теле душевно-духовном.
Визуализация духовного сердца
В своём главном труде по христианской психологии «Воплощённое домостроительство, опыт христианской психологии» святитель Феофан выражает ключевой принцип работы всех трёх сил души (ума, чувства и воли) через призму «сердца», как центра, удерживающего по «горизонтали» баланс между умом и волей или усвоением и практической реализацией:
Далее он формулирует иерархический или «вертикальный» принцип «вместительности сердца», как ёмкости, вмещающей все типы чувств по «вертикали»:
Представленная ниже схема является детализацией «девятерной» схемы иерархии через призму структуры «сердца» и раздражительной силы души (чувства).
Схема ёмкости сердца
Давая понимание структуры духовного сердца, святитель Феофан не обошёл вниманием и такого важнейшего инструмента структуры сердца, как в разрезе трёх основных функций совести: . совесть законодательной, судебной, исполнительной
В данной цитате святитель Феофан прямым текстом говорит о том, что в системе сил человеческой души совесть выполняет роль инструмента «навигации», т.е. указателя правильного движения души и личности в системе координат добро и зло.
Проще говоря, совесть выполняет в душе роль безмолвного подсказчика или совершенно автономного сознания добра и зла, которое без обдумывания и мышления (умопостроения), а сразу и напрямую сообщает душе что есть что с точки зрения добра и зла или правильности и неправильности.
Об этом же говорит и святитель Игнатий Брянчанинов:
Говоря о функциях совести, святитель Феофан указывает на прямую связь совести с законами духовного мира («тамошними») и действиями в душе этих законов, как:
– , законодателя
– , свидетеля и судью
– (воздаятеля). исполнителя
Этот принцип работы совести очень созвучен древнегреческому мифу о трёх духовных силах – Мойрах судьбы, которые, как три «старухи», отслеживают судьбу каждой души:
– (греч. Κλωθώ, «Пряха») – прядёт нить смысла жизни, Клото
– а (греч. Λάχεσις, «Судьба»), – определяет линию судьбы, Лахес
– (греч. Ἄτροπος, «Неотвратимая»), – неумолимо вершит суд и обрывает нить жизни) Атропа
В христианской традиции – это по существу аналог работы трёх сил души (ума, чувства, воли) через призму совести:
Данные три законодательных свойства и действия совести с точки зрения парадигмы нравственно ориентированной христианской психологии по существу определяют принципиальные отличия состояния нравственной души от состояния души безнравственной.
У человека, не имеющего внутреннего закона, т.е. представления о Боге, а потому и не следующего духовно-нравственным принципам, три данных функции совести (законодательная, свидетельствующая и воздавательная) попросту ослабевают и не функционируют, как должно.
Далее святитель развивает эту мысль глубже и говорит о том, что эта бездеятельность функции совести самым негативным образом отражается и на работе трёх основных сил души (ума, чувства, воли), которые также приходят в расстройство из-за расстройства совести:
Продолжая свою мысль, святитель делает ещё одно откровение о том, что в расстройстве совести можно различать два типа отклонений:
– (искренние заблуждения) ненамеренные
– (ложь в угоду страсти и порока) намеренные
Фактически в этом откровении святителя раскрывается сам механизм работы через инструмент совести высшего духовно-нравственного закона (Закона Божьего), который и лежит в основе правильной работы души через правильное использование ума, чувства и воли.
Таким образом, именно нарушение работы совести лежит по святителю Феофану в основе разлада между умом, чувством и волей и одним из факторов усиления искажений в работе совести является эгоизм.
Искажающий совесть эгоизм работает в душе по принципу поляризующей призмы, которая отклоняет ум, чувство и волю от следования истине под разными эго предлогами:
Таким образом, именно бездействие инструмента совести, как внутреннего сознания добра и зла, лежит в основе извращения человеческих качеств и поступков:
Говоря о втором свойстве совести, как свидетеля и судьи, святитель Феофан отмечает характерную её особенность, вызванную действием эгоизма, судить преимущественно о других, а не о себе:
Таким образом, святитель Феофан делает вывод о том, что именно эгоизм (самолюбие и самооправдание), как искажающий совесть фактор, является едва ли не главной причиной неосознанности, т.е. непросвещённости души:
И, наконец, третья функция совести – воздаятельная (итоговая и результирующая), выступает по святителю Феофану тем фактором, который и обеспечивает в итоге состояние самочувствия души с точки зрения превалирования в нём чувства скорби или радости. Проще говоря, святитель Феофан формулирует здесь, не что иное, как важнейший закон формирования и поддержания здравого состояния души с точки зрения чистоты совести:
О силе воздействия на душу суда совести говорит следующая цитата:
К числу заслуг святителя можно отнести и сформулированный им в этой работе закон естественного омрачения или усыпления совести, который связан не только со злыми намерениями, но и с невнимательностью души к регулярно повторяющимся проступкам совести.
Данный закон был позднее перефразирован К. Г. Юнгом в его известной мысли о том, что какой бы совершенной ни была психологическая защита, психика человека не может длительное время контактировать с аморальностью без ущерба для себя самой.
Следует отметить, что ум, управляемый эгоизмом, сам по себе достаточно изобретателен в искусстве лжи и лицемерия, а потому в случае усыпления совести, может прибегать к самым разным приёмам, препятствующим её пробуждению в душе:
И в качестве противоположности трём данным свойствам совести в падшем состоянии, святитель приводит описание этих же свойств совести (законодательная, свидетельствующая и воздавательная) у человека, обратившегося к Богу и восстановившего с Ним благодатное общение и связь.
В душе, восстановившей общение с Богом, первым происходит восстановление работы высшего духовно-нравственного закона (Закона Божьего), который снова может беспрепятственно, подобно лучу яркого света, освещать всё пространство души, указывая душе – что есть что и кто есть кто. Так исправляется законодательная функция совести:
За «законодательной» функцией совести, у обратившегося к нравственности и нравственному закону, происходит восстановление и «судопроизводственной» функции. Святитель описывает этот процесс, используя метафору чистого зеркала восприятия, в котором отражается истина жизни внутренней и внешней, не искажённая эгоизмом и страстями. Чистота восприятия и обеспечивает чистоту суждений.
И, наконец, за «судопроизводственной» функцией совести у обращённой к Богу души восстанавливается и «воздаятельная» или результирующая способность, которая проявляется в ощущении мира, покоя и радости от доминанты добродетели и торжества истины. Так работает «барометр» совести в человеческой душе, как голос Божий.
Плодами восстановления функции совести являются мощные духовные силы, открывающиеся в человеке и проявляющиеся в дерзновении, неутомимости, бесстрашии, свободе духа, деятельной активности когда весь человек становится олицетворением нравственности и нравственного закона:
Из этих откровений святителя Феофана Затворника о принципах работы совести мы можем сформировать христианское понимание общего принципа искажения правды (истины) и всех ступеней проникновения лжи в сферу души:
1-я ступень () – , когда порочная мысль или страсть только оказывается в фокусе внимания ума и не переходит на уровень чувства и воли (желания). мысленная ум
2-я ступень () – ум и , когда ложная мысль или страсть не останавливается на входе, а связывается с чувством и порождает желание. чувственная чувство
3-я ступень () – ум, чувство и, когда ложная мысль или страсть не останавливается ни на первом, ни на втором уровнях, а соединяясь с умом, чувством и желанием (волей), порождает решимость (намерение) за которым неминуемо следует и ложное действие, именуемое собственно грехом. желательная воля
4-я ступень () – , когда ложная мысль или страсть, облечённая в мысленную форму, обретет силу решимости (намерения) к её исполнению. решительностная принятие решения
5-я ступень () – , когда ложная мысль или страсть, облечённая в мыслеформу лжи, получив импульс силы намерения, реализуется на практике. деятельностная совершение действия
По существу, святитель Феофан, опираясь на святоотеческую схему работы страсти через прилог, сочетание, сложение и пленение описал психологическую схему работы лжи и зла в сознании человека от мысли – до действия.
Как видно из данной схемы, существует несколько промежуточных ступеней, на которых любая ложь или страсть ещё может быть пресечена и остановлена совестью:
– На уровне ума, т.е. между умом и чувством (на уровне помысла),
– На уровне чувства, т.е. между чувством и желанием (на уровне чувствования),
– На уровне желания, т.е. между желанием и намерением (на уровне вожделения),
– На уровне решения, т.е. между решением и действием (на уровне принятия решения).
Как говорит святитель Феофан, первые три ступени происходят обычно очень быстро (в одно мгновение) и сложно сделать разделение ума, чувства и воли (желания), но следующая стадия образования решимости имеет более значительную задержку и не срабатывает автоматически.
В то же время, на стадии принятия решения происходит существенная задержка, связанная с актом действия, как высшим актом воли, который должен быть окончательно верным. Вот почему на этой стадии как бы ещё раз всё тщательно взвешивается в последний раз перед «отрезанием», т.е. осуществлением воли.
Аналогично между принятым решением и действием всегда есть разрыв (задержка), когда ложное решение ещё может быть отменено и не допущено к реализации:
Таким образом, любой грех, как повреждение души, имеет две стадии своего развития:
– (первые 3 стадии) до образование греховной решимости, внутренний грех