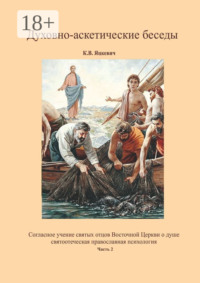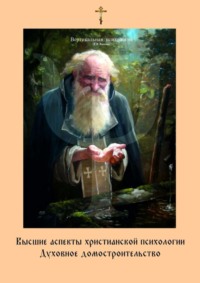Полная версия
Заметки о христианской психологии. Дополнение к курсу
– (две последние стадии) – намерение и действие. деятельностный грех
Глядя на эту последовательность этапов и ступеней повреждения души ложью, можно заметить, что единственным инструментом, стоящим на защите интересов души, является совесть, как голос Божий в сердце, которая не молчит, но пытается достучаться до ума и остановить ложь (зло).
Если совесть развита, то любую ложь (зло) можно распознать и остановить на любой из ступеней, вплоть до принятия решения.
Кроме инструмента совести, в христианской традиции существует ещё несколько инструментов души и навыков, способных останавливать любое зло и страсти. К этим инструментам относятся:
– смирение,
– высшее внимание,
– духовное рассуждение (духовный ум),
– молитва.
Из данных средств борьбы с ложными мыслями и страстями, обращение к молитве можно считать одним из наиболее действенных средств успокоения ума, чувства и воли от страстных и ложных помыслов, поскольку смирение, высшее внимание и духовное рассуждение – это добродетели высокого уровня, доступные только совершенным, а молитва доступна каждому.
(Архиепископ Никон (Рождественский). Дневники. Козни врагов наших сокруши… 1910 – 1917 г.). «Как жаль, что наша церковная власть в свое время не поручила святителю Феофану Затворнику составить учебник психологии по творениям святых отцов и учителей Церкви! Никто не мог бы выполнить этой задачи лучше этого святителя-подвижника. А то ведь – что грех таить? – в наших духовных семинариях вместо психологии преподается в сущности патология души человеческой. Учебники психологии составлены на основании западных писателей, коих миросозерцание далеко от учения святоотеческого»
«Не мудрено заметить, что внутри нас есть три рода действий: мысли, представления, соображения (ум); чувства всякого рода (чувства), желания, склонности, предприятия (воля). Но как в составе существа нашего нельзя не различать трех частей: тела, души и духа, то и те три рода действий являются в нас на трех степенях, или в трех состояниях, именно: животном (телесном), душевном и духовном.
(Св. Феофан Затворник, «Воплощённое домостроительство, опыт христианской психологии», XXV, c 233) Полагая теперь в основание каждому из сих кругу действий особую силу, мы должны сознать девятерную иерархию сил, во внутреннем нашем мире качествующих и действующих под прикрытием тела, этого грубого вещественно-стихийного состава, как и в природе вещественных сил действует под видимым нами грубым составом нашей планеты и как в мире невидимом, духовном есть девять чинов ангельских.» девятерная иерархия
«Душевность же в человеке, не приявшем благодати или потерявшем ее, как облако какое стоит между лицом человека и Богом, пресекая общение между ними. тот, кто порабощен преимущественно ей, или душевен человек, не приемлет, яже Духа Божия (ср.: 1 Кор. 2, 14). Преобладание души, равно как и преобладание тела, есть отрицание жизни по духу.
Святой апостол Иаков, перечислив страсти, коим удовлетворяет и по которым действует человек, не приемлющий яже Духа Божия, с большею ловкостию, прибавляет: несть сия премудрость от Бога, но земна, душевна, бесовска (ср.: Иак. 3, 15). Слова: душевный, земной, не Божий – однозначительны…
(Св. Феофан Затворник, «Воплощённое домостроительство, опыт христианской психологии», XXII, c 203) Где же дух у такого рода людей? В них же; но, состоя в подчинении душе и телу, он заморен и совсем почти не действует свойственным ему образом. Его присутствие в них можно узнавать, с одной стороны, по безграничности некоторых душевно-чувственных стремлений, не свойственных душе и плоти по их природе, с другой – по бывающим нередко состояниям сих людей, в коих они отрешаются от земли, наперекор требованиям души и плоти. В последнем случае дух покушается как бы войти в свои права.»
(Преп. Исаак Сирин, О божественных тайнах и о духовной жизни, Беседа 20, 17) «Ибо бывает также, что человек в подвигах своих и в знании своем оставил телесность, но еще не достиг душевного уровня, который есть совершенное покаяние и совершенство страха Божия. Тогда с обеих сторон возникают в нем помыслы.»
(Св. Феофан Затворник, Воплощённое домостроительство, опыт христианской психологии, О силах чувствующих или о сердце, с. 425) «Силы души отражаются своею деятельностию в сердце, и, обратно, сердце отражает себя в них. Посему оно (сердце) справедливо почитается корнем существа человеческого, фокусом всех его сил духовных, душевных и животно-телесных. Имея такое значение в человеке, оно исключительное значение должно иметь и в отношении ко всему, что вне его, ибо человек состоит в связи со всем сущим.»
(Там же) «Сия связь (сердца) не может утверждаться инуды (в ином месте), как в центре его существа, подобно тому как связь в часах утверждена на соотношении центров всех колес их. Если центр существа человеческого есть сердце, то им он входит в связь со всем существующим.»
(Н. М. Новиков, Начало молитвы, Беседа 13, С. 234). «Этот силовой узел (духовное сердце) по своему расположению приблизительно совпадает с сердцем телесным, главным органом кровеносной системы.»
(Св. Игнатий Брянчанинов, Аскетические опыты. Т.1. О молитве Иисусовой) «Это – словесная сила или дух человека, присутствующий в верхней части сердца, против левого сосца…».
. (Там же) «Тогда как умом человек хочет все собрать в себя, а волею себя выразить вовне, или известь наружу в делах богатство своего внутреннего стяжания, – сердце пребывает в себе и вращается внутри, не исходя. Видно, что оно лежит глубже тех сил деятельных и составляет для них как бы подкладку или основу »
«В сердце отражаются своею деятельноетию все силы существа человеческого на всех их степенях. Следовательно, в нем должны быть чувства:
а) духовные,
б) душевные и:
в) животно-чувственные (телесные),
(Там же) которые, впрочем, и по образу своего происхождения, и по своим свойствам так разнятся, что и самую способность чувствовать надобно полагать в трех видах.»
а) Сердце как вместилище духовных чувств
Такие духовные чувства суть те изменения в сердце, кои происходят в нем от созерцания или воздействия на него предметов из духовного мира. Совокупность их можно назвать чувствованиями религиозными. Так как душа грешная отделена от Бога и мира Божественного, то чувств религиозных в истинном их виде в ней быть не может. Их и нет почти. Это лучше всего видеть из сравнения состояния сих чувств в человеке-грешнике и истинном христианине. Так, неточное чувство зависимости от Бога у первого находится в разных степенях слабости до совершенного исчезновения или даже отвержения (Бога): отойди от нас; а у другого оно столько сильно, что он чувствует на себе руку Божию, чувствует, как Он держит его Своею силою. И вера есть чувство. Первый предположительно знает о бытии предметов веры, если не успел погрязнуть в неверие; другой верою живет и утверждает ее царство, как свое бытие. И далее, разные, верою изливаемые в сердце, чувства, из ощущения благости, правосудия, могущества, промышления, как то: страх, благоговение, преданность в волю Божию, упование, любовь и другие – уже по тому самому не могут или совсем быть, или быть в силе у первого, что в нем недостает веры, – их источника. Они у него суть только мысли и представления, а не ощущения. То же должно сказать о благодарении, славословии и даже молитве. А у второго все сии чувства составляют, можно сказать, естественную стихию, в коей он живет. Живущему в Боге свойственно быть полну чувствами, истекающими от действия Его на душу. Что сказать о чувствах, в продолжение самого изменения на лучшее происходящих в душе и составляющих естественный оного состав и следствие, как то: о сознании своей виновности пред Богом, стыде пред Ним, раскаянии, жаре ревности к богоугождению, чувстве помилования во Христе Иисусе Господе нашем и спасения ради Него? Это исключительное достояние людей, к Богу обратившихся и Богу работающих. Кто может ощущать сладость того, чего не принял, не вкушал?
б) Сердце как вместилище душевных чувств
Чувства душевные суть те движения сердца, кои происходят в нем вследствие изменений, происходящих в душе, от свойственной ей деятельности. Они разделяются на:
– теоретические,
– практические и
– эстетические,
поколику, то есть, происходят от воздействия рассудка и воли или суть следствия вращания сердца в себе самом, или в своей области.
– а рождаются из отношения сердца к познаваемым истинам. Здесь потребностию знать рассудок возбуждается к деятельности, а потом, в конце своих трудов, плод их слагает в сердце. Первое есть любознательность, последнее – чувство истины в разных степенях. Сюда относятся разные степени убеждения и разные виды неубеждения, как то: несомненность, сомнение, вероятие, неверие, отвержение, недоумение и прочее. Уже с первого раза видны разницы в сем отношении, ибо кто томится неверием или сомнением или упорствует в отвержении истины? Человек, отпадший от Бога, Который есть истина. Притом, до познания ли истины ему, когда он обложен суетами? Такого, даже если он трудится над науками, можно подозревать – искренне ли его любознание? По любви ли к истине все у него делается или ex officio (по должности) и по каким-нибудь сторонним побуждениям? Как мало, сверх того, у него вкуса к истине, уменья и желания наслаждаться ею, – видно из свойственной ему лености, бегания умственного труда, владычества в нем воображения, легкомыслия. Особенно надобно обратить внимание на силу убеждения в истине. Убеждение есть следствие проникновения сердца истиною. Сердце, пребывающее во лжи, не пустит в себя истины. Чувство истины – способность сердцем, без пособий сторонних, узнавать истинный порядок вещей, истинные их свойства, – свойственная природе человека, – способность удивительная, у первого заглушена совершенно, у второго же оживает, усиливается и наконец является во всей своей силе. Так, по одному чутью узнают брата, врага, друга, сыновей, нужное лицо и то, как в каком случае поступить. Теоретические чувств
– суть те движения сердца, кои состоят в существенной связи с деятельностию воли и то возбуждают ее, то сами последуют за нею. Их, можно сказать, два рода: чувства самости (эгоистические), приятные и неприятные, и разного вида расположения к людям, добрые и недобрые (чувства симпатические). Первого рода суть: самодовольство или самопрезрение, самовозношение, самоуничижение, надменность, спесь и прочее. Второго: равнодушие, из которого, с одной стороны, – уважение, соревнование, сорадование, соболезнование, сожаление, признательность, дружба и прочее, с другой – зависть, злорадство, месть, ненависть, вражда, презрение, осуждение и прочее. Впрочем, всякое вообще настроение духа постоянное оставляет след в душе глубокий, почему отзывается в сердце чувством одобрительным, если настроение хорошо, неодобрительным, если оно худо. Теперь с первого раза уже видно, каковы должны быть сии чувства у добрых христиан и у недобрых грешников. Чувства практические
У первых (добрых христиан) должно положить все чувства добрые, с самого начала их пути, если не во всем совершенстве, то в семени. Трудом и подвигом они высвобождают добрые чувства из уз эгоизма, очищают и насаждают их в сердце. Что касается до чувств эгоистических, то нельзя сказать, чтоб они не возникали, особенно сначала; но им не дается силы, установляется противодействие им, принимаются средства к изгнанию их, и, действительно, они изгоняются из души всякий раз, как возникают. Подвиги, труды, молитвы наконец подавляют их и на место их напечатлевают противоположные им чувства. Все дело состоит в том, чтоб внедрить в сердце добрые чувства, ибо что есть в сердце, то есть пред Богом.
У беспечного грешника нет такого разделения. Как он свою жизнь предал обыкновенному течению, то и чувства у него, и добрые и злые, развиваются и укореняются в сердце вместе, без его ведома, и составляют смесь иногда очень странную. Они исторгаются из его сердца при случае сами собою, без чина и порядка. Как ревности о чистоте чувств сердечных у него нет, то он и не напрягается дать перевес чувствам добрым, а оставляет их самим себе и большею частию искажает пристрастиями и страстями. Судя по сему, нравственная цена их ничтожна. Напротив, чувства эгоистические у него глубоко лежат в сердце и там устрояют себе жилище постоянное. Можно сказать, нет минуты, в которую он не имел бы на душе или самодовольства, или, если нет ему пищи, досады на себя и прочее. Это случайность, если они когда-либо заглушаются в сердце, что большею, впрочем, частию бывает от прилива естественных симпатических чувств к родным и приятелям.
– суть те движения сердца, кои происходят в нем от действия на него особенного рода предметов, называемых изящными, или прекрасными. Здесь сердце наслаждается предметом потому только, что он сам по себе хорош, нравится и услаждает без особенных его отношений к личным нашим интересам. Сила, лежащая в основании сих чувствований, называется вкусом. Разнообразие чувств в нем зависит от свойства предметов, но определять их и различать одно от другого очень трудно; посему они и имена свои получают от предметов и суть чувства изящного, высокого и прочее. Опять, есть свои оттенки в чувстве красоты картины, статуи и прочего. Изящным вообще называют удачное и разительное выражение в чувственной форме чего-нибудь духовного, то есть мысли, чувства, добродетели, страсти. Что такое идея или чувство изящного? Оно есть или воспоминание о потерянном рае, или предощущение будущего Небесного Царствия. Если изящные предметы строятся под руководством сего чувства, то вот и источник содержания для них! Изображай райское, святое, небесное. Эту землю плачевную преврати в преддверие неба твоим искусством. Если человека повсюду окружают предметы земные, ради коих он может забывать о небе – своем отечестве; то окружи его такими искусственными произведениями, которые напоминали бы ему о нем, подобно тому как иные, живя в чужой стране, окружают себя изображениями своего города, дома, родителей и прочего. Мир, – творение Божие, преисполнен отражениями Божественных свойств, но там они в такой широте и необъятности: собери их в малый объем и представь умному взору человека слабого в картине или музыке. Эстетические чувства
Опять, – что должен человек образовать в душе своей в жизни сей? Святые и небесные расположения. Дай же ему в помощь и внешний лик сих расположений, чтоб тем успешнее он мог внедрить их в себе. Из всего этого видно, что главным содержанием изящного должны быть предметы мира духовного. Само собою разумеется, что им должна соответствовать и внешняя форма.
Если теперь изображаются страсти, и преимущественно плотские, изображаются в свойственном им бесстыдстве и приманчивых видах, или если изображаются и добрые предметы, но в формах, недостойных их: в таком случае изящное извращается.
Теперь легко судить об истинном и ложном вкусе: истинный вкус наслаждается предметами, выражающими мир духовный, нравственный, Божественный; извращенный вкус любит наслаждаться предметами, изображающими страсти или вообще оттененными страстию и питающими ее.
в) О низших, телесно-животных чувствах
К чувствам, стоящим на низшей степени, относятся скорые волнения или поражения сердца (affectus), погашающие самодеятельность рассудка и воли и сопровождающиеся особенными изменениями в теле. Большею частию сии волнения, происходя в низшей части, суть следствия нечаянного встревожения эгоистического животолюбия, при обстоятельствах ему благоприятных или неблагоприятных. Потому иногда их все относят к животно-чувственной части человека. Их разделяют по разрушительным действиям их на высшие силы человека. Так, одни погашают ясность сознания, как то: удивление, изумление, увлечение внимания, испуг; другие подрывают волю, как то: страх, гнев, ретивость; третьи, наконец, терзают самое сердце, которое то радуется и веселится, то скучает, скорбит, досадует и завидует, то надеется и отчаявается, то стыдится и раскаявается или даже попусту мятется мнительностию. Можно судить по одним именам их, какие это злодеи для человека; тем больше такими их должно признать, судя по действиям. Они возвышаются на счет собственно человеческих свойств – сознания и самодеятельности, а следствием своим всегда почти имеют неестественное состояние тела. Это – болезненные потрясения всего человеческого существа. Уже это одно должно наводить на мысль, что им хорошее место только в человеке-грешнике. Болезни должно отнести туда, где есть источник болезней. И действительно, тогда как в грешнике высшие духовные чувства заглушены, а душевные извращены, низшие свирепствуют в нем во всей своей силе. Этому способствуют потеря власти над собою, предание себя общему влечению обстоятельств, неуправление ни внешним своим, ни внутренним, – составляющие постоянное свойство грешного человека. Кроме того, расстроенное состояние рассудка и воли, без того слабых, подвергает их легко власти сих нечаянных поражений и волнений. Наконец, владычество буйного воображения, мятущего внимание, возмущающего желания, легко волнует и сердце.
Грешник как бы неизбежно в непрестанных тревогах. Нет в нем силы, которая бы защитила его от их злого влияния. То страх, то радость, то тоска, то стыд, то огорчение, то зависть или другое что непрерывно мятут и уязвляют душу его. Жизнь грешника есть путь по колючим тернам, несмотря на внешнюю светлую обстановку. Напрасно придумывают некоторые механические средства против страстей или толкуют о средине безопасной. Нет спасения от них, без исцеления всего духа человеческого, ибо они суть свидетельства и следствия расстройства нашего существа. Возврати целость существу, и прекратятся злые страсти.
В христианстве истинном возвращается сия целость действием благодати Божией, которая, пришедши, погашает и страсти. Христианин, идущий путем своим как следует, достигает наконец сладостного покоя и мира невозмущаемого, твердого, который не колеблется бурею страстей. Есть и здесь печаль, но не та; есть и радость, но иного рода; есть и гнев, и страх, и стыд, и другие движения, похожие по имени на страсти, но существо их совсем другое, другой их источник; они даже происходят от другой силы, ибо отражаются в сердце от духа, а не от животной части. Напрасно говорится так: не должно искоренять страсти, а должно только умерять их. Это то же, что говорить: не надо сердца поражать ядовитою стрелою насквозь, а только на поверхности. Нет: ревностный любитель нравственной чистоты, с помощию Божией благодати, борется с сими исчадиями зла, подавляет их и наконец совсем успевает погашать. Это свидетельствуют правила подвизавшихся и изображение состояния совершенных, какое можно находить у святых. Так и должно, ибо в самоотвержении истнивается (перемалывается) самость и полагается намерение истнить и животность. Следовательно, опоры страстей подрываются в самом начале.
Таким образом, и в чувствующих силах истинный христианин и человек-грешник совершенно противоположны. У того высшие чувства во всей силе; чувства душевные служат продолжением их или приложением к быту действительному; низшие погашаются. У последнего, напротив, последние в силе, высшие погашены, средние извращены.
(Св. Феофан Затворник, Воплощённое домостроительство, опыт христианской психологии, О силах чувствующих или о сердце, с. 424 – 452) То же, следовательно, – во всех силах внутреннего нашего мира. Где у одного (христианина) голова, там у другого (грешника) ноги. Один весь в Боге и живет духом, с умерщвлением низшей части и подчинением себе средней; другой – вне Бога, в чувственно-животном мире, живет фантазиею, мятется желаниями, поражается страстями, с погашением духа и низвращени- ем душевной деятельности.»
(Св. Феофан Затворник, Воплощённое домостроительство, О совести, с 366) «Как разум назначен открывать человеку иной, духовный, совершеннейший мир и давать знать о его устройстве и свойствах, так совесть назначена к тому, чтобы образовать человека в гражданина того мира, куда впоследствии он должен переселиться. С сею целию она возвещает ему тамошние законы, обязывает выполнять их, судить его по ним, награждает или наказывает. Совесть называют практическим сознанием. В сем отношении можно сказать, что она есть сила духа, которая, сознавая закон и свободу, определяет взаимное отношение их. По занятиям или действиям в совести видят законодателя, свидетеля, или судию, и воздаятеля (исполнителя).»
(Св. Игнатий Брянчанинов, Аскетические опыты, Т.1) «Совесть – способность человеческого духа к различению добра и зла, сознание добра и зла»
(Св. Феофан Затворник, Воплощённое домостроительство, О совести, с 367) «Уже по тому самому, что грешник отделился от Бога, должно ожидать, что совесть у него не может быть исправна; ибо если она есть то голос Бога в душе (законодатель), то око Его (свидетель), то наместница Его правосудия (судия и воздаятель): то при отпадении от Него все сии Божественные, так сказать, наития на нас чрез дух – должны ослабеть и умалиться в числе и силе.»
(Там же) «Сверх того, совесть не действует одна, отдельно, а берет себе в посредники и орудия другие силы: рассудок, волю, силу чувствования. Если сии расстроены в путях своих, то и от совести нельзя ожидать правой деятельности.»
(Там же) «Есть невольные, ненамеренные, так сказать, уклонения совести от путей правды, как бы заблуждения, и есть намеренные ее искажения или порча совести от противодействия ей, в угодность порокам и страстям.»
(Там же) «Еще большему повреждению и искажению подвергается законодательствующая совесть, если встречается с эгоизмом и ему подчиняется.»
(Там же) «сначала ее (совести) законы перетолковываются, потом извращаются и наконец заменяются совсем иными, самовольными и даже противными законам истинным.»
(Там же) «От того считают скупость бережливостию, расточительность – щедростию, гнев – чувством благородного негодования, потворство – снисходительностию, жестокость – ревностию по правде, лесть – гибкостию характера, хитрость – благоразумием, гордость – чувством достоинства.»
(Там же) «…каждый человек самому себе представляется , нежели каков есть на самом деле.» лучшим
(Там же) «Немалый признак искажения совести есть . Совесть нам дана затем, чтоб судить нас самих; если она судит других, надобно сказать, что она не свое дело стала делать.» уклонение суда от себя на других
(Там же) «Суд о других бывает неумолимо строг, тогда как суд о себе всегда прикрывается снисходительностию, а следует – наоборот. Оканчивается же сей суд всегда почти: …» несмъ, якоже прочии человецы
(Там же) «Самооправдание – общий почти грех. Выставляют то слабость, то неведение, то обстоятельства, то соблазны, примеры, число участников и чем-чем не оправдывают себя! Если наконец не удастся это, упорно стоим за себя. Упорная несознательность – плод великого повреждения совести и сильного эгоизма.»
(Там же) «Коль скоро произнесен суд, и человек сознал в себе: виноват, – начинается скорбь, туга, досада на себя, укоры, терзания или мучения совести. Такие чувства и суть воздаяния за грехи от совести, как, напротив, отрадные чувства совестного оправдания суть воздаяния за правду.»
(Там же) «Что это есть и как бывает сильно, показывают те преследования, каким подвергаются великие преступники от совести, когда она и внутри терзаниями, и вовне привидениями страшит их, и наяву и во сне.»
(Там же) «Усыпление сие приходит и само собою от учащения грехопадений, ибо известно, что второе падение меньше мучит, третье еще менее, и так все менее и менее, а наконец совесть совсем немеет: делай что хочешь.»
(Там же) «Из опасения, чтоб усыпленная совесть как-нибудь снова не пробудилась, прибегают к разным хитростям. Таковы: избрание себе снисходительного духовника, лживая исповедь, ложное успокоение себя разрешением, ограничение дальнейшего исправления одною внешностию, или одними внешними делами благочестия, и чрезмерная надежда на милосердие Господне; или, еще хуже, – убеждение себя, что мучения совести суть суеверные страхи, из неопытного детства перешедшие; намеренное удаление себя от лиц и мест, даже от предметов размышления, могущих растревожить совесть, намеренное развлечение или предание себя суетным, одуряющим, сильным впечатлениям и, наконец, край всего – хвастовство своими грехами.»