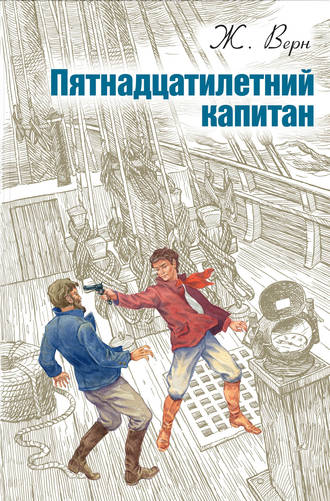
Полная версия
Пятнадцатилетний капитан
11–12 июня. Караван продолжает свой путь. Несчастные невольники испытывают все больше мучений. Ноги у большинства изранены и оставляют на земле кровавые следы.
По моему расчету, до Касанже остается дней десять пути. Сколько еще жертв падет на этом пути! В нашей партии есть много таких, все тело которых – одна сплошная рана; связывающие их веревки въедаются в живое мясо. Со вчерашнего дня одна мать несет на руках трупик своего умершего с голода ребенка, не желая с ним расставаться. Путь наш усыпается трупами. Много жертв уносит оспа. Но я… я должен дойти – и дойду!

На пути нам попадались деревья с привязанными к ним невольниками: несчастные не в силах были идти дальше, и их обрекли на голодную смерть…
16–24 июня. Силы покидают меня, но я не имею права слабеть.
Дожди прекратились. Мы совершаем усиленные переходы, именуемые на языке негропромышленников «тирикеза», или послеполуденными переходами. Дорога теперь идет в гору. Приходится преодолевать крупные подъемы, идя в высокой траве, затрудняющей движение. Трава эта – «ньякку»; колючие ее зерна, сквозь прорехи износившейся одежды, ранят тело.
К счастью для меня, обувь моя еще крепка.
Агенты начинают бросать на произвол судьбы слабых и больных, которые не могут идти достаточно скоро и замедляют этим движение каравана. Съестные припасы приходят к концу. Солдаты продолжают получать свое: их порцию начальник каравана уменьшить не смел, зная, что результатом этого было бы их возмущение. Но на невольников этот недостаток провианта отражается с каждым днем все сильнее.
– Пусть они едят друг друга, – заявляет начальник каравана.
Молодые и сильные негры умирают от истощения. Я помню, что по этому поводу говорил доктор Ливингстон:
«Эти несчастные жалуются на сердце. Они кладут на него руку и падают. Это обыкновенно случается со свободными людьми, попавшими в неожиданное рабство».
Сегодня двадцать человек невольников, в том числе и старая Нан, были прикончены топорами надсмотрщиков. Начальник каравана ничуть не противодействовал этой бойне. Сцена была ужасна! Бедная Нан! Это первая из оставшихся в живых с «Пилигрима», которой пришлось расстаться с жизнью.
Каждую ночь я жду Динго. Он не является! Неужели с ним или с Геркулесом случилось несчастье? Нет, нет… я не хочу этому верить!.. Это молчание доказывает только одно – что у Геркулеса нет для меня никаких новостей. Не следует также забывать и того, что он должен быть очень осторожен.
Глава девятая
Касанже
26 июня караван прибыл в Касанже. Из пятисот невольников, захваченных во время последней облавы, дорогой умерло двести пятьдесят, но тем не менее дело оказывалось все-таки выгодным, так как спрос на невольников увеличивался и цены на них на рынках Африки все росли.
Ангола вела большую торговлю «черным товаром».
Португальские власти Сан-Паулу-ди-Луанды и Бенгелы были совершенно бессильны бороться с этим злом, так как транспорты живого товара отправлялись обыкновенно через центральную часть континента.
Прибрежные бараки, предназначенные для жилья невольникам, были переполнены. Нескольких судов, которым удавалось ускользнуть от следящих за ними крейсеров, было недостаточно для погрузки «товара», заказанного испанскими колониями Америки.
Касанже, расположенный в трехстах милях от устья Кванзы, является одним из главных невольничьих рынков этой местности. Как все большие города Центральной Африки, он делится на две отличающихся друг от друга части, или на два квартала. На селение одной части обыкновенно составляют преимущественно торговцы невольниками – местные, португальские и арабы; тут же помещаются бараки с «живым товаром». Другая является резиденцией какого-нибудь местного черного царька, проводящего время в пьянстве и живущего на поборы с торговцев неграми.
В Касанже торговый квартал весь принадлежал Жозе Антониу Алвишу, агентами которого были Негоро и Гаррис. Здесь было главное отделение его «торгового дома», – другие два отделения находились в Бие и в Касонге (в провинции Бенгели). Главную центральную улицу этого квартала составляли два ряда низких, вымазанных глиной домов с плоскими крышами – по-местному, «тамбэ». Квадратные дворы этих домов служили загонами для скота. В конце улицы помещалась «читока» – окруженная бараками широкая площадь, на которой выставлялся «живой товар» и совершались торговые сделки.
Над всем этим возвышались громадные бананы и красивые пальмы.
Таков был торговый квартал Касанже.
Не лучше, если не хуже, была и резиденция короля Касанже, примыкавшая к торговому кварталу и представлявшая собой пространство в квадратную милю, занятое несколькими десятками грязных хижин, обнесенных изгородью из тростника или фигового кустарника. Тридцать хижин для рабов, несколько для жен и один большой «тамбэ», почти скрытый среди густых папирусов, – такова резиденция короля Мвани-Лунга.
Сам король был преждевременно состарившийся и изношенный от пьянства и всяких излишеств человек лет пятидесяти; жестокий маньяк, из каприза увечивший своих подданных, начиная с министров и кончая простыми воинами, которых у него насчитывалось едва четыре тысячи человек. Он развлекался тем, что отрезал одним носы и уши, другим ноги и руки. Смерть его, вскоре ожидаемая, должна была быть принята всеми подданными без сожаления. Единственным человеком во всем Касанже, который мог бы пожалеть о его смерти, был промышленник Алвиш, умевший ладить с пьяницей-королем, которого боялась вся провинция. Алвиш мог опасаться, что в случае смерти Мвани-Лунга престол его будет захвачен более молодым и энергичным соседним королем Укузу, успевшим еще при жизни Мвани-Лунга захватить несколько принадлежавших раньше последнему селений.
Особенно не улыбалось Алвишу то обстоятельство, что молодой властелин Укузу был очень дружен с арабом Гнину-Гнину – тоже торговцем неграми и злейшим конкурентом Алвиша, – из чего было совершенно ясно, что, с воцарением Укузу, Алвиш рисковал лишиться положения, занимаемого им при Мвани-Лунге, пороки которого он находил для себя выгодным поощрять и эксплуатировать.
Караван вступил в город под звуки рожков «куду», бой барабанов и треск ружейных выстрелов: сопровождавшие невольников солдаты разряжали ружья в воздух, выражая радость по поводу окончания трудного четырехмесячного похода, близости отдыха и связанных с ним пьянства и дебошей в компании оставленных в Касанже друзей.
Перенесшие поход и оставшиеся в живых невольники, в числе двухсот пятидесяти человек, были заперты в бараки, где их встретили полторы тысячи раньше доставленных туда невольников, которых через два дня должны были вывести на продажу на площади Касанже.
С вновь прибывших сняли колодки, но оставили в цепях.
Избавились от колодок и старый Том со своими товарищами. Бат мог наконец после пяти недель броситься на шею своему отцу; остальные молча пожали друг другу руки.
Бат, Актеон и Остин, все трое сильные, словно созданные для тяжелых работ, могли еще выдержать усталость, но старый Том был уже совершенно обессилен. Если бы поход продолжился еще несколько дней, его труп был бы брошен на съедение диким зверям. Все четверо попали в один тесный и грязный барак и, немного подкрепившись приготовленной там для них пищей, с нетерпением стали ожидать прихода Альвеца, чтобы заявить ему, что они не дикие африканские негры, а граждане свободной страны.
Дик Сэнд остался на площади под надзором надсмотрщика.
Наконец он был в Касанже, куда уже, без сомнения, были доставлены миссис Уэлдон, маленький Джек и кузен Бенедикт.
Проходя с партией по городу, Дик тщательно искал их глазами, старался заглядывать даже в глубину домов, продолжал искать их и на площади, но все его старания были напрасны: их нигде не было видно.
– Может быть, их и не привезли сюда? – спрашивал он себя. – Но где же в таком случае они могут быть? Нет, Геркулес не мог ошибиться! Наконец, это входило в расчеты Гарриса и Негоро. Но и этих что-то не видно.
Диком начало овладевать острое беспокойство. Что миссис Уэлдон, в качестве пленницы, могла быть где-нибудь спрятана – это было еще понятно. Но Гаррис и Негоро, особенно этот последний, не имели никакого основания скрываться от человека, бывшего теперь в их руках. Скорее наоборот, им могло прийти в голову потешиться над своим пленником и его беспомощностью. Не было ли их отсутствие признаком того, что миссис Уэлдон была отправлена ими, под их же надзором, куда-либо в другое место? Дик желал бы появления Гарриса и Негоро даже и в том случае, если бы появление это грозило ему личной опасностью, так как их присутствие послужило бы ему доказательством, что миссис Уэлдон и ее ребенок тоже здесь.
Беспокоило его также и то обстоятельство, что после той ночи, когда Динго принес ему записку от Геркулеса, верное животное больше не являлось и приготовленная Диком ответная записка, в которой он просил Геркулеса во что бы то ни стало следить за миссис Уэлдон и ни в каком случае не упускать ее из вида, до сих пор не была отправлена по назначению.
Отчего Геркулес не попробовал заставить Динго снова пробраться к Дику, как это уже было сделано раз? Не погибло ли верное животное во время какого-нибудь рискованного предприятия? Или, может быть, Геркулес, вместе с Динго, следя за миссис Уэлдон, уклонился от пути каравана и углубился куда-либо в чащу лесов Центральной Африки, надеясь достигнуть какой-нибудь фактории?
Что мог думать Дик, не видя ни миссис Уэлдон, ни ее похитителей? Он был настолько уверен, что найдет их в Касанже, что обнаружившееся теперь отсутствие их здесь нанесло ему сильный удар, и он едва мог превозмочь свое отчаяние.
Его жизнь, если он не мог быть полезен тем, кто был ему дорог, казалась ненужной, и ему не оставалось ничего иного, как умереть самому. Но, думая таким образом, Дик заблуждался: под ударами тяжелых испытаний ребенок в нем уступил место мужчине, и это его малодушие было лишь временной слабостью.
Громкие крики и звуки труб прервали течение его мыслей. Он поднялся на ноги и прислушался.
– Алвиш! Алвиш! – повторяли сотни голосов туземцев и солдат, наполнявших площадь.
Алвиш! Человек, от которого зависела судьба стольких несчастных! Сейчас он будет здесь. Не с ним ли Гаррис и Негоро?
У Дика снова явилась надежда напасть на след тех, кого он искал. Он стал всматриваться в толпу. Сердце его усиленно билось, но он готов был встретить изменников смело и гордо. Не дрожать же капитану «Пилигрима» перед своим бывшим поваром?
В конце главной улицы показались носилки вроде паланкина, закрытого старыми, вылинявшими занавесками. Достигнув площади, носилки остановились, и из них вылез старый негр. Это и был Жозе Антониу Алвиш.
Настоящее имя его было Кенделе. Родился он в Донду, на берегах Кванзы, начал свою карьеру простым агентом у негроторговцев и постепенно дошел до занимаемого им теперь положения одного из крупнейших промышленников края. Португальское имя было им присвоено себе совершенно произвольно и, очевидно, только для надобностей коммерции.
Одновременно с Алвишем, сопровождаемым несколькими слугами, появился и его друг Коимбра, сын старшины. Коимбра из Бие – по словам Камерона, величайший шалопай провинции – грязное, отвратительное существо с желтым сморщенным лицом, воспаленными глазами и свалявшимися волосами, похожее на старуху в своей грязной, рваной рубахе, юбке из трав и обтрепанной соломенной шляпе.

Этот Коимбра был ближайшим поверенным Алвиша и организатором облав на негров.
Сам Алвиш, в турецком платье, выглядел несколько благообразнее своего друга, хотя и его физиономия отнюдь не внушала людям особого доверия и расположения.
К большому разочарованию Дика, ни Гарриса, ни Негоро среди сопровождавших Алвиша не оказалось.
Начальник каравана, араб Ибн-Гамис, обменялся с Алвишем и Коимброй рукопожатиями. Выслушав его доклад и узнав, что половина невольников не вынесла тягостей похода и была частью прикончена, частью оставлена на съедение зверям на пути, Алвиш поморщился, но не выразил особого сожаления – и при таких условиях дело могло считаться достаточно выгодным. Прибавив вновь доставленную партию невольников к числу раньше находившихся в его бараках, он вполне мог удовлетворить требования внутреннего рынка и обменять свой товар на должное количество слоновой кости и «анн» (медная крестообразная монета). Поблагодарив надсмотрщиков и носильщиков, Алвиш отдал приказ немедленно выдать последним вознаграждение.
Прислушиваясь к разговорам «негоциантов» – Алвиша и Коимбры, – Дик Сэнд не мог понять ни единого слова, так как они говорили между собой на особом наречии, смеси португальского языка с местным. Но в том, что разговор касался его и его товарищей, так изменнически присоединенных к партии невольников, – не было сомнения, так как один из надсмотрщиков по приказу Ибн-Гамиса направился к бараку, где были заперты Том, Бат, Остин и Акте-он, – вслед за тем все четверо американских граждан были подведены к Алвишу.
Не желая пропустить что-либо из их разговора, Дик Сэнд незаметно подошел поближе.
Лицо Алвиша выразило явное удовольствие при виде прекрасных, атлетически сложенных фигур трех негров. «Негоциант» живо сообразил, что силы молодых невольников, утраченные за время трудного похода, могут быть скоро восстановлены усиленным питанием и что эти трое пойдут в продажу на рынке Касанже по дорогой цене. Только изнуренный вид старого Тома, возраст которого сильно сбавлял его цену, заставил промышленника окинуть старика презрительным взглядом.
Алвиш иронически приветствовал их несколькими английскими словами, применив при этом все свои познания в этом языке, заимствованные у Гарриса.
Том понял слова промышленника и, указав на себя и своих товарищей, произнес:
– Мы свободные люди, граждане Соединенных Штатов!
Алвиш, конечно, понял эту фразу. Добродушно кивая головой, он ответил:
– Да-да, американцы. Добро пожаловать! Добро пожаловать!
– Добро пожаловать! – повторил за ним Коимбра.
После этого Коимбра подошел к Остину, осмотрел его, как купец осматривает товар, ощупал его плечи, грудь и спину и хотел было заставить его открыть рот, но… в этот момент произошло нечто совершенно неожиданное: Остин нанес ему такой удар кулаком по лицу, какой едва ли когда приходилось получать сыну старшины Бие.
Доверенный Алвиша отлетел в сторону, как щепка. Несколько солдат бросились было на Остина, и последнему пришлось бы плохо, если бы их не остановил жест Алвиша, от души хохотавшего над своим другом, лишившимся сразу двух из шести последних оставшихся в его рту зубов.
Защитить Остина от солдат побудили Алвиша два обстоятельства. Первое – что он не мог допустить порчи дорогого товара, второе – что, будучи человеком веселого нрава, он был рад случаю так весело посмеяться.
Ввиду этого он поспешил успокоить Коимбру, успевшего тем временем подняться на ноги и грозившего дерзкому негру.
В этот момент надсмотрщик подвел Дика Сэнда к Алвишу, которому, видимо, уже была известна вся история юноши.
– Маленький янки? – произнес он на своем неправильном английском языке, оглядывая юношу злыми глазами.
– Да, янки, – ответил Дик, – и желал бы знать, что хотят сделать со мной и моими товарищами?!
– Янки, янки, маленький янки! – продолжал повторять Алвиш, не поняв или делая вид, что не понял заданного ему вопроса.
Дик Сэнд повторил свою фразу, обращаясь на этот раз и к Коимбре, лицо которого, хотя и обезображенное злоупотреблением спиртными напитками, казалось ему лицом человека не туземного происхождения. Но Коимбра, продолжавший угрожать Остину и совершенно погруженный в это занятие, тоже не ответил Дику.
В это время Алвиш оживленно заговорил с арабом Ибн-Гамисом о чем-то, видимо, касающемся Дика и его друзей. Без сомнения, их собирались снова разлучить, и – кто знает? – удастся ли им снова свидеться когда-либо?

– Друзья мои, – произнес Дик Сэнд тихо, вполголоса, как бы говоря сам с собой. – Только несколько слов! Динго принес мне записку от Геркулеса. Он следил за караваном. Гаррис и Негоро везут с собой миссис Уэлдон, Джека и Бенедикта. Куда?.. Я не знаю… В Касанже их, очевидно, нет. Терпите, не падайте духом. Будьте готовы ко всему…
– А Нан? – спросил старый Том.
– Нан умерла.
– Первая из нас…
– И последняя, потому что мы…
В этот момент на плечо Дика спустилась чья-то рука, и хорошо знакомый ему голос произнес любезным тоном:
– А, мой молодой друг, если не ошибаюсь? Очень рад вас видеть!
Дик Сэнд быстро обернулся – перед ним был Гаррис.
Кровь бросилась в голову юноши.
– Где миссис Уэлдон? – крикнул он, наступая на американца.
– Увы! – возразил Гаррис с напускной жалостью. – Бедная мать! Как бы она могла пережить…
– Умерла! – вырвался крик из груди Дика. – А ее ребенок?
– Бедное дитя! – тем же тоном повторил Гаррис. – Как могло оно перенести такое утомление…
Итак, оказывалось, что тех, кто был так дорог Дику, не было уже в живых. Непреодолимое чувство злобы и мести овладели всем существом юноши. Прежде чем кто-либо из присутствующих успел сделать хоть одно движение, он бросился на Гарриса, выхватил заткнутый у того за поясом нож и по рукоятку всадил его в сердце американца.
– Проклятие! – едва успел прохрипеть тот, падая.
Рука Дика поразила его наповал.
Глава десятая
Базарный день
Когда присутствовавшие опомнились, первым движением туземцев было броситься на Дика, и он был бы, конечно, зверски избит, если бы в этот момент не появился Негоро. Повелительный жест португальца заставил разъяренных туземцев отступить от Дика, после чего они, повинуясь новому приказу Негоро, убрали труп Гарриса.
Алвиш и Коимбра были страшно озлоблены поступком Дика и требовали немедленной смерти юноши. Но Негоро тихо заметил им, что они ничего не потеряют, если немного повременят с казнью Дика. После этого был отдан приказ увести его и не упускать из-под стражи и самого строгого надзора.
Итак, желание Дика Сэнда исполнилось – он увидел Негоро. Он знал, что этот негодяй был единственным виновником гибели «Пилигрима», и должен был ненавидеть его больше, чем его достойного сообщника. Но теперь, после убийства американца, он не обратил на появление Негоро никакого внимания.
Гаррис сказал, что миссис Уэлдон и ее ребенок погибли! После этого ничто уже не могло интересовать Дика, даже его собственная дальнейшая судьба. Его взяли и повели… Куда?.. Ему это было безразлично.
Скованный по рукам и ногам, Дик был заключен в особое отделение одного из бараков – род карцера, без окна, – куда Алвиш сажал возмутившихся или оказывавших сопротивление невольников. Запертый там, Дик Сэнд был совершенно лишен возможности сообщаться с внешним миром каким-либо способом; но он даже не пожалел об этом. Он отомстил за тех, кого любил и кого уже не было на свете, и теперь был готов спокойно покориться своей судьбе, какова бы она ни была. Он прекрасно понимал, что если Негоро остановил бросившихся на него туземцев, то отнюдь не ради спасения его жизни, а лишь для того, чтобы потом предать его более мучительной казни, разнообразные способы которой были хорошо известны туземцам.
Пятнадцатилетний капитан находился теперь вполне в руках своего судового повара, и последнему не хватало только присутствия Геркулеса, чтобы сделать свою месть более полной и жестокой.
Два дня спустя, 28 мая, в Касанже открылся большой базар, по-местному «лакони», на который должны были съехаться все наиболее крупные промышленники Центральной Африки и туземцы соседних провинций. Базар этот не был исключительно невольничьим рынком; тут же производилась торговля всевозможным товаром. С утра на обширной «читоке» (базарной площади) началось сильное движение; там собралось до четырех тысяч народа, считая в том числе и выставленных на продажу невольников Алвиша.
Одним из первых прибыл на базар сам Алвиш в сопровождении Коимбры. Он вел оптовую торговлю, предлагая целые партии невольников промышленникам-перекупщикам.
Среди последних было много метисов из Уджиджи (главный рынок на озере Танганьика) и арабов.
Кроме промышленников, площадь кишела туземцами-покупателями, мужчинами и женщинами; были и дети.

Над толпой стоял сплошной гул голосов, криков и восклицаний. Шум самых людных базаров Европы показался бы ничтожным в сравнении с шумом, сопровождающим торги на африканских рынках, так как здесь обе стороны – и продающие, и покупающие – отличаются одинаковой страстностью. Особый азарт проявляли черные дамы, смело могущие дать в искусстве торговаться сто очков вперед своим европейским товаркам.
Для туземцев обоего пола «лакони» является праздником. Местные франты и модницы, посещая его, стараются превзойти друг друга изысканностью нарядов, украшений и, главным образом, причесок, представляющих собой поистине произведения искусства, хотя и несколько своеобразного на европейский взгляд. Особенной замысловатостью отличаются прически мужчин; это целые сооружения из косичек, локонов и завитков, проклеенные особым составом красного цвета вроде сурика, сколотые железными иголками и шпильками (а у некоторых франтов особыми кожами, употребляющимися для татуировки) и украшенные султанчиками из перьев, кусочками слоновой кости, пестрыми бусами и т. п.
Прически женщин гораздо проще: у многих волосы распущены прямо по плечам или обрамляют лицо длинными локонами, но и у них непременным элементом является красный состав – «икола», придающий прическе вид черепичной крыши.
Не менее тщательно украшаются и остальные части тела щеголей и щеголих: в уши вставляются медные филигранные серьги, кусочки дорогого дерева. Иногда к серьгам подвешиваются маленькие тыквенные бутылочки, играющие роль табакерок, – мода, вызываемая отсутствием карманов и приводящая порой к тому, что у многих франтов ушные мочки отвисают почти до плеч; руки и ноги украшаются медными и бронзовыми браслетами; шеи опутываются ожерельями из нескольких рядов пестрых бус. Некоторые франты идут в заботах о своей наружности еще дальше и доходят до того, что придают своим зубам, путем опиливания их, форму острых зубцов, наподобие зубов гремучей змеи, а ногти на руках отращивают до такой степени, что обладатель их не может ничего делать руками, не рискуя сломать эти украшения.
Большинство разрисовывает свое тело сложной татуировкой, изображающей деревья, птиц, луну или те волнистые линии, в которых Ливингстон находил сходство с рисунками Древнего Египта. Эта татуировка, помимо своего назначения служить украшением, имела еще и другую цель: тщательно воспроизводя рисунки, украшающие тело отца, на теле ребенка, туземцы всегда могут безошибочно определить, к какому племени и к какой семье принадлежит то или другое лицо.
Не имея возможности изобразить свои гербы на дверцах кареты, черные аристократы пользуются для этой цели собственной кожей.
Что касается одежды туземцев, то у мужчин она состоит из доходящего до колен передника из шкуры антилопы или из короткой юбки из «ламбы» (травяная ткань различных ярких цветов); у женщин – из зеленой юбки, вышитой шелками и отделанной кусочками стекла и раковинами, придерживаемой по талии поясом, также украшенным раковинами; иногда юбка заменяется передником из такой же излюбленной занзибарцами «ламбы» черного, синего или желтого цвета.
Все это, конечно, касается только туземцев «высшего круга», – простой народ, купцы и невольники не носят никаких украшений и одеты гораздо проще, то есть, правильнее говоря, почти вовсе не одеты.
Женщины по большей части служили носильщицами и явились на базар с большими корзинами за спиной, удерживаемыми в этом положении руками, при помощи ремня, переходящего через лоб. Заняв свои места и вынув товар из корзин, они сами садились в эти корзины.
Необычайная плодородность страны служит причиной того, что на «лакони» массами появляются в продаже пищевые продукты лучших сортов. Здесь было изобилие риса, родящегося в Африке сам-сто; маиса, дающего в течение восьми месяцев три жатвы и родящегося сам-двести; кунжута, перца из Урца (крепче кайенского), маниоки, сорго, муската, соли и пальмового масла.
Тут же продавались птица и рыба; целые стада коз, свиней и баранов; глиняная посуда, привлекавшая внимание своими яркими пестрыми цветами; различные материи, среди которых были пользующиеся особою симпатией туземцев «мерикани» – американский коленкор, «сахари» – клетчатая белая с синим материя, «кашки» – очень широкая синяя бумажная ткань, «диули» – шелк-сюра, очень дорогой, стоящий от семи долларов за отрез в три метра и доходящий в цене до восьмидесяти долларов, если он заткан золотом.













