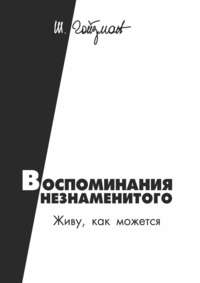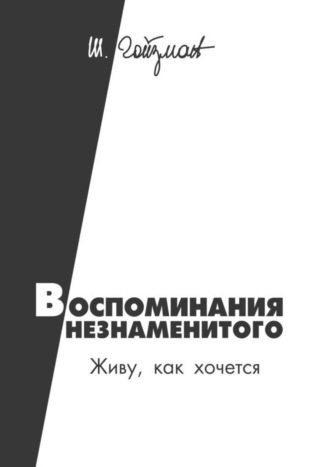
Полная версия
Воспоминания незнаменитого. Живу, как хочется
– Мальчик, как твоя фамилия?
– Гойзман. – отвечаю. Фамилию свою я выучил твердо еще до войны, в Киеве. Мама и папа очень заботились об этом, чтобы я мог назвать ее любому милиционеру, если отстану от родителей и заблужусь.
– А маму твою не Машей зовут? – спросил он удивленно.
– Машей!
– А ну, садись скорее рядом и показывай, где ваш дом!
Долго меня упрашивать не надо было. Я быстро взгромоздился на скамеечку рядом с ездовым и сожалел лишь о том, что улица пуста, и никто из соседских меня сейчас не видит. Заехали мы прямо во двор и я показал на наши двери. Солдат живо спрыгнул с подводы и без стука решительно зашел в наши двери, а я с вожжами в руках остался. Вскоре я услышал мамины крики. Испугался, бросил вожжи, тоже вбежал в дом и увидел, что мама с этим солдатом целуется и плачет.
– Сёмочка, ты что? Не помнишь этого дядю? Не узнал нашего Исаака Израилевича?
– Ша-ша. Я уже не Исаак Израилевич. Я теперь Иван Иванович! – прервал маму солдат. И он с удовольствием стал рассказывать то по-русски, то по-еврейски: – Это же смешно сказать! Мы шли в разведку, как положено, без документов. И там меня ранило, и я даже не знаю, как очутился в госпитале. А единственный документ – надпись на воротничке гимнастерки: «Ткач И. И.». Врачи решили, что я Иван Иванович, и так меня и зарегистрировали. А когда очнулся, так возражать не стал. Так вот я стал русский! Теперь у меня уже и документы новые!
– Семочка, ты еще фотографировался вместе с его дочкой Жанночкой? Кудрявая такая? Не помнишь? – теребила меня мама.
Я почему-то не помнил ни его самого, ни его дочки. А «Иван Иванович» начал расспрашивать маму, не знает ли она, случайно, где его жена и дочь? Оказывается, что его жена – это еще одна двоюродная сестра тети Клары Ременюк!
Однако ничего обнадеживающего Ивану Ивановичу мама сказать не смогла, – на машине было много сестер Ременюк, но именно этой сестры и его дочери с нами на машине не было. Лишь после войны мы узнали, что его жена и дочь из Киева уехать не смогли, и были расстреляны в Бабьем Яру вместе со всеми киевскими евреями. А любительская фотография, на которой я и трехлетняя Жанна стоим, обнявшись, позднее нашлась.
– Ой, так что же я стою и сам себе думаю? – спохватился вдруг Иван Иванович.
И он выбежал во двор, отдернул зеленую брезентовую накидку, которая накрывала груз на подводе, и потащил в дом один из наполовину наполненных белых мешков, которые лежали в телеге под брезентом.
– На, бери, пригодится, а я поеду, опаздываю уже! Короче, меня скоро выписывают на фронт, и заскочить к вам я, наверно, уже не смогу! А так хотелось бы повидать и Рувимчика, и Раечку!
И он, хлестнув лошадь кнутом, поехал со двора. А мама, заглянув в мешок, прямо обмерла от счастья: в мешке был белый говяжий нутряной жир! Первый жир, который она увидела после начала войны! Мама тут же растопила печь и начала переплавлять этот жир, затем разливать его в глубокие фаянсовые тарелки. То ли жир был от очень старой скотины, то ли просто несвежий, но вонь от него при переплавке стояла ужасная. Через некоторое время жир застывал в тарелке, мама аккуратно вынимала из нее красивые, повторявшие форму тарелки куски и ставила их один на один в погреб. А потом начала печь на этом перетопленном жиру картофельные блинчики под названием «деруны». О, какая это была божественная еда! Я носился по двору, изображая из себя и резвого скакуна, и телегу, и седока одновременно, и время от времени подбегал к раскрытому настежь окну, получал очередной блин и снова убегал играть. Это обжорство кончилось для меня очень плачевно – страшная рвота и на всю жизнь отвращение к блинам из сырой картошки, именуемым дерунами.
А Иван Иванович остался жив, и снова встретили мы его лишь после войны. И снова они обнялись, и снова мама плакала – на сей раз, наверно, от воспоминаний обо всех погибших, о пережитом за эти годы и, конечно, о говяжьем жире, который так здорово тогда нас выручил!
7. Лето 42-го
Над нами жила Лиля Бойченко – молоденькая девушка из Киева, лет шестнадцати. Она любила ходить в лес, прихватывала с собой соседских девчушек. Стал с ней хаживать в лес и я. Дорога к лесу шла через переезд железной дороги, через мостик над Хопром, а затем через большой заливной луг. В лесу, худощавая, одетая в белую кофточку с украинской вышивкой цветочками на широких рукавах, Лиля перебегала с места на место и подзывала нас полюбоваться на растущие грибы, на гнездышки птичек в кустарнике, в которых лежали маленькие яички, брошенные вспугнутой мамой-наседкой. Красивым певучим голосом Лиля рассказывала о каждом дереве и о птицах. От нее я узнавал каждый день много нового: названия трав, ягод, и, самое главное, какие грибы, травы и ягоды можно есть, а какими – отравиться. На лугу и в лесу мы ели дикий щавель, цветы кашки (клевера), ежевику, грибы-сыроежки. А на лесном Монашкином пруду, таинственном, тихом, с чистым песочным дном и прозрачной водой, был дальний угол, заросший рогозом, и мы, стоя по колено в воде и разрезая себе в кровь руки, с большим трудом выдергивали из воды толстые стволы рогоза с белыми сладкими концами. И тут же их обгрызали! А уж сколько восторга вызвало открытие, что можно есть черные ягодки паслена – сорной травы, росшей прямо на хозяйском огороде и во дворе!
Походы в лес выдавались редко (Лиля, наверно, работала) и каждый из них был для меня праздником. А будни я проводил во дворе, развлекая себя сам. Выхожу как-то ярким солнечным утром на улицу. На утрамбованной проезжей части дороги соседские ребята, как всегда, играют в «коца». Это игра, при которой каждый играющий ставил на кон свою, например, пятикопеечную монету. На кону все монеты собирались «решкой» вверх в аккуратный столбик и каждый играющий от черты, проведенной на расстоянии 10 шагов от столбика, по очереди метал в нее «биту» – тяжелую монету. Первый, кому удавалось попасть в столбик, забирал себе в карман все монеты, которые от удара случайно переворачивались и лежали вверх «орлом»; а затем получал еще дополнительное право бить по монетам, лежащим решкой вверх, пытаясь перевернуть их на орла и тоже забрать себе, если переворот удастся. Если же первый промахивался, то право метать биту переходило к следующему игроку.
Я долго стоял в сторонке и заинтересованно наблюдал за игрой, пока один из мальчиков, которого все называли Коляном, не обратил на меня внимания и спросил:
– Тебя как звать?
– Сема.
– Сема? А из какого двора? Почему не знаю?
– Из того, – показал я, повернувшись, на свой дом.
– А! Так ты из приезжих евреев будешь? – Тут я сразу сник, т. к. почувствовал, что меня сейчас неминуемо прогонят, как зимой прогоняли нас с квартиры. – Вот спроси меня, спроси: «сколько время?»
– Сколько время, – тихо неуверенным голосом повторил я за ним.
– Сколько время? Два еврея, третий жид, на веревочке висит! – И он начал прыгать вокруг меня, повторяя свою дразнилку и строя дурашливые рожи, чтоб рассмешить своих товарищей.
Все тотчас стали глумливо хихикать, а я, еле сдерживая слезы, помчался что есть силы домой, к маме.
Мама посоветовала не обращать на дураков внимания и не играться с ними. Тем более, что игры в деньги – это вообще плохие игры, в которые играют только хулиганы. Ей легко советовать. Она уже большая.
– И как это они узнали, что я еврей?
– А у тебя это на лице написано, – с усмешкой ответила мама.
Поставил я поудобнее на подоконник обломок вогнутого зеркала от прожектора, который папа принес с завода для бритья, и стал внимательно изучать свое лицо. Из вогнутого увеличительного зеркала на меня смотрел смешной толстомордый мальчик. Я заулыбался своему искаженному изображению. Впрочем, лицо, как лицо, и ничего на нем не написано. И вдруг меня осенило: улыбка выдает меня! Понял! Все русские ходят со злыми лицами! А мама, папа и Рая все время улыбаются. Я состроил свирепую рожицу, еще раз посмотрел на себя в зеркало и удовлетворенно решил, что теперь на улице всегда буду ходить с таким выражением лица.
А через несколько дней я снова стоял рядом с играющими и с завистью смотрел, как ловко они кидают тяжелую серебряную биту в столбик с монетами.
– Эй, еврей, что стоишь? Ставь на кон монету, если есть! – крикнул Колян.
– Нету, – пробормотал я, превозмогая новую обиду от клички и желание убежать скорее к маме.
– На, играй! – кинул мне Колян несколько пятаков, – Отдашь потом.
И я обрадовался – меня взяли в игру! Но кидал биту я очень неумело и быстро проиграл 20 копеек. Больше никто в долг не дал, а Колян велел мне бежать домой и не приходить, пока не «притащу» должок. Поплелся домой, мучительно думая: «где бы раздобыть 20 копеек?» «Ведь 20 копеек это всего лишь одна такая беленькая монетка. Монеты часто теряют, и я не раз уже находил их. Может быть и сейчас валяется где-нибудь в траве или в пыли 20 копеек?» – Так утешал себя я, сосредоточенно глядя себе под ноги. Но монеты под ногами, к сожалению, не валялись. «А может быть попросить у мамы? Я видел, как много монеток лежит в ее маленькой сумочке вместе с какими-то ключиками, пуговичками и бумажками… Нет. Просить нельзя. Ведь мама как-то предупреждала меня, что играть в деньги – это плохо… А если взять одну монетку, мама, может быть, и не заметит?»
На другой день я дождался, когда мама пошла к колодцу по воду, и раскрыл мамину сумочку. Монет было много. Конечно, если взять одну монетку – мама и не заметит. Взял я одну 20-копеечную монету и еще один пятачок. Сейчас пойду, поставлю этот пятачок на кон, отыграюсь и верну деньги маме в сумочку, – она даже и не узнает, что я брал их без спросу.
Но отыграться не удалось. Видя мою «кредитоспособность», мне разрешили играть в долг и отправили за деньгами только тогда, когда мой долг Коляну дошел до 25 копеек.
– Ну, дай в долг еще. Подумаешь, всего 25 копеек проиграл, – с напускной небрежностью сопротивлялся я. – Всего лишь одну монету. Правда, Колян, бывают 25-копеечные монеты?
– Может, и бывают, – неуверенно сказал Колян. – Ты – неси, найдешь одной монетой – приноси одной.
Я понуро шел домой, пытаясь утешить себя мыслью о том, что проиграна всего лишь одна монета, и ничего еще страшного в этом нет. Я мысленно даже видел, как выглядит 25-копеечная монета. В отсутствие мамы перерыл ее сумочку. Такой монеты не было. Спросил у мамы:
– Такая монета бывает?
– Нет. А зачем это тебе?
– Да так. Поспорили с мальчиками, а я сказал, что 25 копеек бывает, – соврал я, густо покраснев.
И вот я уже несколько дней не выхожу из дома, чтоб не встречаться с Коляном. Сижу, не решаясь на второе воровство.
Однажды мама сказала, чтобы я собирался, что она возьмет меня с собой на базар. Не успели мы отойти от дома, как на встречу идет Колян:
– Ну что? Когда отдашь должок?
– Какой должок? – спросила мама.
Пришлось в присутствии Коляна, сгорая от стыда, позорно во всем сознаться. А Колян в это время стоял и безучастно ковырял большим пальцем босой ноги слежавшийся песок на дороге и делал вид, что не слушает наш с мамой разговор. Мама сильно расстроилась и отдала ему мой должок. Вечером был еще тяжелый разговор с папой. Больше никогда в жизни я не играл в «деньги». Да и в другие игры на денежный интерес.
Обеспокоенная тем, что я попал в дурную компанию, мама попросила общительную Лилю Бойченко познакомить меня с более приличными детьми. Так я оказался в чистой и просторной соседской избе с добела выскобленными некрашеными полами, где жила многодетная семья. Я уж сейчас не помню, но, кажется, все дети были девочками, а старшей, Вере, было лет четырнадцать. Она была заводилой всех игр, утирала младшим носы и следила, чтоб никто никого не обижал. Больше всего мне нравилось играть в «крысу». Крысе белым платком завязывали глаза, и она должна была поймать или коснуться кого-нибудь из играющих, который тогда становился крысой. И мы бегали по горнице, хлопали в ладоши, подсказывая крысе, куда и за кем бежать. Всем было очень весело.
А в красном углу горницы висел портрет скорбной женщины в красивой шляпе и с голым мальчиком на руках. Я уже знал, что такие портреты называются иконами. Но на них обычно изображается Иисус Христос? На мой недоуменный вопрос Вера пояснила, что на этой иконе изображена мама того Иисуса и зовут ее «Богомать», а Иисус лежит у нее на руках. Он здесь еще пока маленький и пока еще не бог. По секрету Вера сказала мне, что она часто видит Богомать на небе, когда на дворе хорошая погода и нет ни единого облачка. Для этого надо рано утром стать спиной к солнцу, смотреть в небо и долго не двигаться, и, самое главное, не моргать, и чудесное видение появится. Стоит только раз моргнуть или пошевелиться – ничего не получится.
Дождавшись ясного безоблачного утра, я стал столбом посреди улицы, уставился в небо и постарался не моргать. Мне тоже очень захотелось увидеть видение, но не Богоматери, а дорогого товарища Сталина в своем кабинете, как на цветной фотографии из виденного мною журнала. Я долго стоял, не двигаясь, в надежде, что вот-вот на небе торжественно раскроются голубые шторы, и я увижу яркую цветную картину на полнеба. Но вскоре из того места, куда я смотрел, послышался страшный и знакомый еще по Харькову гул самолетов, потом появились и они, и совсем рядом с нашим домом на железнодорожную станцию Хопер посыпались бомбы. Из дома выскочила мама и силой утащила меня в дом, не дав досмотреть, куда упадут бомбы. Когда бомбежка кончилась, во дворе и на улице я нашел несколько осколков от бомб. Бережно поднял я их и унес домой, как большую драгоценность. Эти серые железки с рваными краями вскоре действительно стали среди ребятни меновым товаром. Особенно ценились те осколки, на которых были выбиты какие-то надписи немецкими буквами.
Фронт медленно приближался к тихому Балашову. Участились налеты, ежедневно в одной и той же стороне слышались далекие взрывы. Взрослые говорили, что это идут бои за Поворино. Вскоре мы, мальчишки, уже легко по виду и по звуку различали наши «Ястребки» и немецкие самолеты. И, более того, щеголяли знанием их имен – Юнкерсы, Мессершмидты, Фокке-Вульфы с хвостом в виде перевернутой скамеечки, а по изломанному профилю узнавали самолеты-разведчики Дорнье. Было все интересно и не страшно. Папа и Рая говорили, что наша воинская часть эвакуироваться не собирается, и это вселяло уверенность в том, что немцев вот-вот остановят и прогонят. А раз мы никуда больше не поедем, то меня лучше всего определить в школу.
И вот повела меня мама в школу.
Дорога в школу шла в гору по кромке длинного глубокого оврага. А школа стояла на самой вершине горы перед началом оврага и видна была со всех сторон: и даже с нашей улицы, и даже со станции. Директор школы, седой дородный старик, решительно отказал маме, пояснив, что в школу берут детей с восьми лет, тем более, что вид у меня уж очень неказистый – мал ростом и щуплый. В общем, приходите на следующий год. Но мама не сдавалась, пожаловалась на дурную компанию, которая меня вот-вот засосет, если я буду и дальше бездельничать. Она долго-долго говорила еще что-то, пока не уговорила директора направить меня к учительнице на испытательный срок.
Анна Логвиновна (так очень труднопроизносимо звали учительницу) узнав, что я умею читать, спросила, читал ли я букварь. Услышав мое «нет» предложила мне почитать. Я небрежно прочитал в один присест чуть ли не весь букварь, поразив ее до глубины души, просчитал до сорока и готов был считать и дальше, если бы учительница меня не остановила, и был принят в первый класс условно. Сердце мое было переполнено радостью и я нетерпеливо начал считать денёчки, оставшиеся до школы.
8. Школа
В ночь на 1 сентября 1942 года нас разбудили взрывы и завывания самолетов. Мы выскочили во двор и заворожено смотрели в небо в сторону центра города, где шел большой воздушный бой, натужно ревели моторы, небо красиво прочерчивали белые, зеленые и красные следы трассирующих пуль, неистово носились по небу палки прожекторных лучей, пытаясь на ощупь в темноте поймать какой-нибудь немецкий самолет. И вдруг я явно увидел взрыв на вершине горы, и сразу же после взрыва начался сильный пожар, на фоне которого отчетливо был виден черный контур школы. Я был убежден, что бомба упала прямо на мою школу, и расплакался от страха за неё и от досады (как же я теперь пойду в первый класс?), а мама меня убеждала и утешала, что бомба упала где-то далеко в центре города, и это только так кажется, что школа горит, а на самом деле – она цела. Утром с ночной смены пришел папа. Он успокоил маму и меня, заверив, что на завод бомбы не попали и что школа моя, слава богу, цела и невредима.
И вот на следующий день я с мамой за руку, сверкая новыми ботинками, которые сшил мне наш сосед-шорник Сапрыкин, пошел в первый класс. Мама сдала меня учительнице и ушла, а я остался совсем один среди всех орущих, бегающих и прыгающих детей. В классе учительница отделила мальчиков от девочек, построила всех по росту в два ряда в проходах между черными партами, а потом рассадила всех так, чтобы за каждой партой сидели мальчик с девочкой и чтоб на передних партах оказались самые низенькие. Я, конечно, оказался на первой парте, а рядом со мной – такого же роста девочка. В первый же день Анна Логвиновна рассказала нам, как надо вести себя в школе (слушать ее надо, сложа руки на парте, и не крутить головой по сторонам), и мы долго репетировали, как приветствовать ее и других входящих в класс преподавателей: молча встать, не хлопая откидными крышками парт, затем по команде молча сесть и тоже не хлопать крышками. В первые дни я так четко выполнял все эти инструкции, что учительница высказала маме опасения, что я все-таки до школы не дорос – слишком тихий.
Вскоре учительница раздала каждому ученику по две тетрадки: одну «в три косые линейки», другую в клеточку, а также по резинке и по одному простому карандашу. Раздала она и буквари, предупредив, что из-за нехватки учебников – один букварь на двоих. С Шурой, соседкой по парте, у меня сразу же наладились дружеские отношения. Несмотря на то, что в классе был еще один еврейский мальчик и одна еврейская девочка (тоже из эвакуированных), я дружил именно с Шурой. Может быть, из-за того, что и Саша Шистер и Ида Кацефман, так звали моих земляков, были рослыми детьми и сидели на последних партах далеко от меня? Но скорей всего наша дружба с Шурой была скреплена общей партой и общим букварем. Домашние задания мы выполняли, оставаясь после уроков, но чаще ходили друг к другу в гости: благо, жила Шура от нас недалеко, на нижней параллельной улице, что была еще ближе к реке и к станции, и я ходил к ней задами через огороды. По утрам Шура заходила за мной и мы вместе шли в школу – она со старым портфельчиком в руках, а я – с матерчатой черной противогазной сумкой на матерчатом же ремне наискось через плечо. Дорога в гору была длинной, поэтому мы дожидались попутной лошади, впряженной в сани-розвальни, уступали дорогу, а потом догоняли ее и на ходу прыгали – она на один толстый и широкий полоз, а я – на другой. Хозяин саней обычно делал вид, что не замечает непрошенных попутчиков, и так, стоя на полозьях и держась руками за задок саней, мы весело ехали в школу. Когда Шура приходила к нам делать уроки, то мама усаживала ее лицом к окну за маленький папин столик, за которым он обычно ремонтировал часы, а меня – отдельно, спиной к Шуре и боком к окну, – за обеденный стол. Это для того, чтоб мы не подглядывали в тетради друг друга и поменьше баловались.
Так интересно и весело проходили наши учебные будни, пока папа однажды вечером вдруг не обнаружил пропажу ручных часов, взятых им в ремонт. На стене, рядом со своим столиком, папа прибил несколько гвоздиков, на которые он вешал разные, уже отремонтированные часы. Готовые часы он заводил, и они пару дней тикали на гвоздиках, а папа проверял их ход и точность перед тем, как отдать заказчику.
– Сема, ты не видел женские часики с позолоченным браслетом? Что висели вот на этом месте? – строго спросил папа.
– Видел…
– А где же они?
– Не знаю.
– Как не знаешь? А сколько они стоят, ты знаешь? Может, ты своей Шуре подарил их? – еще строже спросил папа.
– Не брал я никаких часов и не дарил никому ничего, – канючил я свое. – Может, они сорвались с гвоздика и на полу где валяются?
Отодвинули столик, осмотрели все щели в полу, обыскали все. Ничего нет. После долгого допроса, на котором я упорно отрицал свою причастность к этой пропаже, папа и мама решили, что часы все-таки надо искать у Шуры.
– Одевайся, и пойдем. Показывай, где живет твоя Шура! – решительно и зло приказал папа.
– Папочка! Не надо, не надо идти к Шуре! Я сам спрошу, завтра! – От одной мысли, что Шура заподозрена в нехорошем деле, у меня отнялись ноги. Я не мог себе представить, как это мы вдруг придем с папой к ней домой и будем требовать часы, которые она, конечно, не брала. И я сам приведу к ней в дом своего разозленного папу, который на нее также будет кричать и топать ногами, как на меня!? Как же мы будем дружить после этого?
– Нет уж! Идем немедленно!
– Не пойду, – со всей решительностью, на какую был способен, отказался я.
– Нет, пойдешь?! – окончательно рассвирепел папа и схватился за висевший на стене ремень, как за последний и самый веский довод.
Кончилось тем, что я, как самый презренный предатель, повел папу (или он силой волок меня за руку) к Шуриному дому. Дверь открыл нам отец Шуры, болезненного вида, худой, со впалыми щеками и отвислыми усами. Папа начал объяснять ему цель нашего столь позднего визита, на удивление мне, как-то заискивающе и нерешительно:
– Видите ли, вот, у нас пропали часики, такие, женские. Может быть, случайно…
Но шурин отец решительно сдернул с кровати уже спавшую дочь, и тут же из ее школьной сумки были извлечены злополучные часики с позолоченным браслетом.
На следующий день Шура не пришла в школу. Позднее выяснилось, что после нашего ухода отец избил ее, да так сильно, что Шура не смогла даже сидеть, и запретил ей ходить в дом к «приличным людям». Об этом скорбно рассказала шурина мама, занося к нам домой общий букварь – основу нашей дружбы. В школе учительница почему-то посадила Шуру за другую парту, а на ее место подсадила ко мне другую девочку, совершенно невзрачную, белобрысую, с серенькими глазками и с вечными соплями под носом. Букварь я отдал своей новой соседке насовсем. Отдал за ненадобностью, ибо я и так его прочел уже несколько раз. А Шура с тех пор сторонилась меня, и я все время чувствовал какую-то свою вину перед ней и стыд за своих родителей, которые так грубо вмешались в нашу дружбу. Учиться я стал хуже; к тому же запахло летом, когда, как мне сказали, будут каникулы и учиться вообще не надо будет!
9. Эх! Наши едут!
Оглядываясь из нынешнего времени в военное прошлое, поражаюсь четкости в организационной работе государственной машины. Несмотря на казавшуюся неразбериху первых дней войны, у папы, мобилизованного высококлассного профессионала, отняли ружье и приказали стать к станку; дядю Юру вытащили из окопов, вручили трофейный аккордеон и направили во фронтовую концертную бригаду; младшего маминого брата, дядю Мишу, прямо с передовой вызвали и направили на работу в Ставку Главнокомандующего переводчиком. Папа после войны часто сердился на всех, кто, говоря о вкладе тыла в победу, утверждал, что в тылу все делали только старики, женщины и дети: чтобы они сделали без специалистов?
Не забывались и дети. Чтобы балашовские дети не болтались в летние каникулы без дела на улице и были худо-бедно накормлены, – организовали городской детский лагерь. Записали туда и меня.
Лагерь находился в центральном городском парке, в большом одноэтажном доме, где были два зала: один был оборудован под спальню, а другой – под столовую. В спальне, где были расставлены деревянные раскладушки, мы проводили «мертвый час» – послеобеденный сон. Рядом с этим домом была «эстрада» – открытая сцена-подиум и ряд вкопанных в землю деревянных скамеек перед ней. За эстрадой поодаль стояла длинная деревянная уборная с двумя отделениями и буквами «М» и «Ж» на концах.
В лагере было интересно и весело. На эстраде выступали старшие дети или хорошо известный всем местным детям кукольник дядя Коля со своими куклами-марионетками. Кукольный театр я видел впервые и он меня поразил на всю жизнь. В столовой показывали кино. До сих пор помню советский кинофильм «Сын Таджикистана» и цветной американский кинофильм «Багдадский вор». Но посещал этот лагерь я недолго, до одного случая. Все началось с того, что в уборной, куда я беззаботно пошел справить малую нужду, стоявший рядом мальчик обратил внимание на мою обрезанную писульку. Он удивленно вытаращил глаза, а потом вдруг помчался куда-то. Но вскоре этот мальчик, в сопровождении еще нескольких, подошел ко мне, когда я игрался в траве возле столовой, и, криво ухмыляясь, предложил снять трусы и показать всем то, что удивило так его. Я отказался, тогда все накинулись на меня, повалили и, держа за руки и за ноги, насильно сняли с меня трусики. Насмотревшись вдоволь, оплевали меня и ушли, наверно, удовлетворенные.