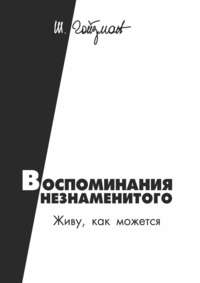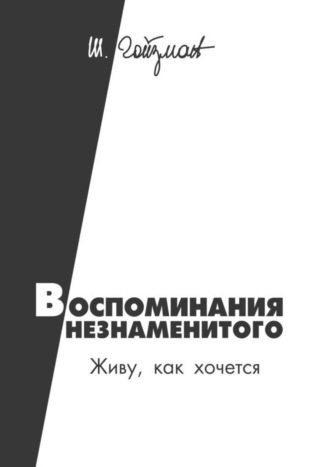
Полная версия
Воспоминания незнаменитого. Живу, как хочется
– Принимайте вашего наследничка в целости и сохранности, – с облегчением сказала тетя Шура, сдавая меня с вещами маме. – Ой, Машенька! А ты никак рожать собралась?
Тут и я обратил внимание на мамин живот, выпячивавшийся из-под ремешка. Но вокруг было столько гораздо более интересного, что я вскоре забыл и думать о маминой беременности, и быстро привык к ее новому виду. Пройдя через все железнодорожные пути (в Балашове я никогда не видел так много станционных путей!), мы вышли на привокзальную площадь и я впервые в жизни увидел трамвай. Трамвай красиво, со звоном, подъезжал к вокзалу из города, забирал пассажиров, разворачивался на кольце и шел назад. А в центре кольца была громадная дыра-провал и через нее было видно, что там внизу под трамваем ходят паровозы с вагонами. Вот здорово! Но мама пояснила, что ничего удивительного здесь нет, что вся привокзальная площадь – это вроде бы большой широкий мост, а дыру проделала немецкая бомба и со временем все восстановят и отремонтируют.
Судя по большой толпе людей, остервенело штурмующих двери вагона, трамваи ходили редко. Но нас с мамой впустили через переднюю дверь и мы втиснулись в переполненный вагон, а я даже сел у открытого окна. Как здорово кататься на трамвае! Жаль, что меня не видит теперь вся балашовская братва! Мама сказала, что мы временно будем жить на улице Чкалова и, проехав всего две остановки, мы уже слезли. Жалко! Остановка называлась «Евбаз» и мама пояснила, что это сокращенное слово, и означает оно «Еврейский базар», и что многие, даже коренные киевляне настолько привыкли к этому названию, что настоящий смысл слова «Евбаз» забыли.
Базар, как мне тогда показалось, был многолюден, не чета балашовскому. Уже прямо у трамвайной остановки толпились люди, предлагавшие свой товар: развешанные на руках платья, брюки и другую одежду. Но мы вышли из сутолоки базара и пешком пошли вверх по улице Чкалова. Позднее я узнал, что весь Киев расположен на холмах (по-украински: на кручах), и это, пожалуй, один из немногих городов, где почти про все улицы говорят, что они идут вверх или вниз по нумерации домов. Тихая улица Чкалова, как и многие другие киевские улицы, поразила меня большими тенистыми деревьями, чистотой и обжитой уютностью. Я снова увидел асфальт, забытый мною за годы эвакуации.
Мама привела меня в сапожную мастерскую, располагавшуюся в подвале одного из многоэтажных домов по улице Чкалова. Несколько сапожников, отвлекшись от своей работы, дружелюбно поздравили маму с моим прибытием. Мы прошли через «цех» в подсобное помещение – маленькую темную комнатку с одним окном и одной кроватью. Я мигом залез на широченный белый подоконник, но в окно ничего не было видно – только ноги людей, идущих по тротуару.
Еще в трамвае мама начала рассказывать мне о своей длинной поездке в Казахстан; как там отвезла она свою сестру в больницу; как врачи уверенно сказали ей, что на выздоровление надежд нет, все запущено, туберкулез легких в последней стадии, и ребенка, то есть Аллочку, надо изолировать от матери немедленно. С тетей Раей мама разминулась – та накануне уехала из Смирнова в другой город, где в госпитале лежал раненный дядя Миша, а за тетей Фаней осталась ухаживать ее младшая сестра Анюта Муравина со своим женихом Колей, евреем-беженцем из Польши. Рассказала мама, как она, не дождавшись выздоровления тети Фани, вскоре была вынуждена уехать с Аллочкой в Киев, так как кончался срок ее литера. В Киев мама ехала через Балашов и она очень хотела повидать и меня, и папу и Раю, но на вокзал никто из нас не пришел. Потом поезд долго стоял на станции Хопер и мама даже рискнула сбегать домой, но на дверях висел замок. Наверно, не доставили вовремя телеграмму. Известие о смерти тети Фани мама получила от Анюты и Коли уже в Киеве. По приезде в Киев мама обратилась на завод и сам начальник КЭЧа1 – всесильный майор Кац, вручил ей ключ от комнаты, что была на самом верхнем этаже семиэтажного дома номер 12 на Саксаганской улице, и сказал: «Поживите пока там до приезда Рувима, а потом дадим вам двухкомнатную квартиру». По настояниям дяди Яши, которые он регулярно высказывал в письмах с фронта, его дочь Аллу мама временно оформила в детский дом. («Тоже мне… Щепетильный какой! Наверно, боится быть мне чем-то обязанным?» – недоумевала мама). Но это только на рабочие дни, а по воскресеньям она забирала ее домой. Сама же мама работала швеей в индпошиве2, а по вечерам до недавнего времени ходила, как и все киевляне, еще и на трудповинность3. И вот, придя однажды с трудповинности, она обнаружила комнату абсолютно пустой: воры спустились по веревке с крыши в открытое окно и унесли все, даже железную кровать. Осталась у мамы только одна книжка, которую Алла случайно взяла с собой почитать в детский дом. И мама показала мне на лежавший на подоконнике зачитанный, старинный, отпечатанный по дореволюционной орфографии, толстенький красный томик, на обложке которого среди обильной золотой вязи узоров с трудом можно было прочитать название: «Луиза Олькот. Маленькие мужчины». Потом, идя по улице в полном отчаянии, она вдруг случайно встретила довоенного знакомого, которого перед самой войной посадили в тюрьму по уголовному делу, эвакуировали вместе с тюрьмой и лишь теперь выпустили на свободу. Сейчас он, живой и здоровый, организовал инвалидную сапожную артель. Узнав о маминой беде, он великодушно пустил маму пожить в свою подсобку. «Так что все хорошо устроилось и в ближайшую субботу вечером пойдем на Печерск в детский дом, чтоб забрать на воскресенье Аллочку домой, вот и познакомишься с ней», – закончила мама свой горестный рассказ.
На следующий день мама приготовила на артельном примусе завтрак и ушла на работу, пообещав, что придет в обед покормить меня. А я отправился один бродить по незнакомому Киеву, познавать окрестные улицы и переулки, лазить по разрушенным домам и погорелкам.
И так было изо дня в день, пока через полмесяца со вторым эшелоном не приехали папа и Рая. И новая жизнь сразу стала быстро налаживаться. Майор Кац сдержал свое слово и нас поселили в центре города возле Бессарабского рынка (из-за чего весь центральный район Киева, оказывается, называют «Бессарабкой»). Улицы на Бессарабке еще в 19 веке были застроены семиэтажными кирпичными «доходными» домами, в каждом из которых первый этаж был полуподвальным и предназначался для проживания дворников, кочегаров, лифтеров и прочего обслуживающего персонала. Широкие мраморные парадные лестницы вели на бельэтаж, который по сути дела являлся уже вторым этажом такого дома, а последний этаж представлял собой деревянную чердачную мансарду, наружные стены которой были обиты такой же жестью, что и крыши. При этом каждый дом имел, по крайней мере, еще один флигель с точно такими же мансардами. В лестничную клетку парадных лестниц этих домов были вмонтированы лифты. До революции квартиры в этих домах, очевидно, предназначались для богатых господ (кроме квартир в мансардах – те были для более бедных господ). Именно в мансардах таких домов и расселили семьи тех прибывших рабочих «Арсенала», которые до войны имели квартиры в Киеве, но по разным причинам не смогли получить их. Так, наша квартира на Подоле была занята бухгалтерией электростанции и нам быстро дали понять, что попытка вернуться в свою прежнюю квартиру – бесполезная затея. Поиски своей мебели и оставленных вещей также оказались неудачными – все было разграблено мародерами из числа остававшихся при немцах жителей Киева. Только у дворничихи, которой мы при отъезде доверили ключ от квартиры, мама нашла мою детскую подушечку. Эту подушечку мама опознала по оригинальному рисунку, который мама вышивала сама машинной гладью. На рисунке был деревенский домик, мама-свинка поливала цветочки, папа-кабанчик играл на скрипке, а мальчик-поросенок танцевал в обществе птичек. Подушечку дворничиха вернула, но доказать, что стоявшая у нее стандартная мебель (стулья и буфет) тоже наша, было невозможно.
Дом номер 33 по Мало-Васильковской улице, куда нас поселили, состоял из трех корпусов (основного и двух флигелей). Первый (основной корпус) и второй дом (первый флигель) образовывали узкий дворик, похожий на щель, а третий дом был в виде буквы «Г» и образовывал со вторым домом двор несколько шире. На каждом этаже двух первых домов было всего по две квартиры, а каждая квартира имела большую прихожую с множеством дверей: в пять отдельных жилых комнат, в комнату для лакея с отдельным выходом на парадную лестницу с лифтом, в ванную комнату и в просторный чулан. В дополнение ко всему из прихожей уходил вглубь квартиры узкий длинный коридор, ведший в туалет и на кухню, где был отдельный выход на «черный ход» (вторая лестница без лифта, с крутыми ступенями, предназначенная в прошлом для кухонной и прочей прислуги, заносившей на кухню дрова, базарные покупки, выносившей мусор, белье на сушку и так далее).
Нам досталась квартира в мансарде первого дома, стоявшего лицом на улицу. Как и обещали, нам дали две комнаты. Одна комната была большим пятиугольным залом с широким тройчатым окном в косой стене, а вторая, поменьше и квадратная – спальней. Еще две комнаты – бывшие до войны кухней и туалетом – дали заводскому бухгалтеру тете Соне Вайнер с матерью. Для приготовления пищи нам предложили использовать две комнаты без окон: чулан и ванную.
Во всей квартире, когда мы первыми вселились в нее, не было дверей и оконных рам, в нашей большой комнате была сквозная дыра в потолке и крыше, в туалете не было унитаза. И папа все начал делать сам, даже из жестяного ведра сделал унитаз – точную копию фарфорового. Установил двери, рамы, залатал крышу тряпками и закрасил все суриком и даже заделал потолок. А когда папа прикинул, какая жизнь нас ожидает, когда вместе будут жить шесть соседей, то он, пока никто еще не въехал, установил в прихожей деревянную перегородку с отдельной дверью, в результате чего образовались две изолированные части: в одной части квартиры окна всех комнат смотрели на улицу, а в комнатах другой части, в том числе и наши, – смотрели во двор, на окна квартир второго дома, что стоял флигелем.
Первыми в комнаты по ту сторону фанерной перегородки въехали Кузнецовы: рослая, толстощекая, пышущая здоровьем Нинка, дряхлая бабка (ее мать), щупленький семилетний мальчик Валерка (ее племянник) и беспородная, рыжая, трехцветная кошка Маргарита. Папа был удивлен вселению в нашу квартиру такого семейства, так как они были выходцами из Балашова, а все некиевляне получали квартиры в семейных общежитиях на Саперном Поле4. А меня это семейство поразило тем, что никто из них не выговаривал букву «К». Я уже встречал картавых, или не выговаривающих букву «Л», искажавших шипящие звуки, но таких людей я встретил впервые и до сих пор с таким дефектом речи я не встречал больше никого.
Нинка на крикливых тонах пояснила папе, что, она – лучшая элеътросварщица завода, и ее еле уговорили ехать в Ъиев (это – раз!), что ей обещали отдельную ъвартиру, а не это засратое общежитие (это – два!), что она большевичъа и сеъретарь цехового партъома (это – три!) и, вообще, в их роду ниъто «ъ» не выговаривает, и всяъому, ъто посмеет над этим смеяться, она… (далее следовала отборная матерщина) яйца резаъом отрежет. Ясно? Потом в разговор вмешалась бабка и, поглаживая сидевшую на руках Маргариту, сказала, хихикая:
– И-и! Нас завсегда всяъий дражнил: «Сидит ъошъа на оъошъе, ъушит ъашъу с молочъом».
Позже вселилось семейство Дашевских (полоумная старуха с дочерью и внуком-очкариком со странным именем «Люсик») и тихие молодожены Эйдельманы, а в лакейскую комнату вселилась тетя Перл Купер с трехлетним сыном Шуриком. У всех было по одной комнате на семью. Две комнаты были только у нас и у Вайнеров. Правда, как выяснилось несколько позднее, еще раньше нас в этой квартире поселились клопы. Это неистребимое племя, поседевшее за годы войны без общения с людьми, обладало жадным любопытством и хорошим аппетитом. Клопы немедленно кинулись знакомиться с нами и им была объявлена настоящая война, которая переросла в многолетнюю и изнурительную кампанию.
Если мы с тетей Соней и ее матерью жили относительно дружно, то за фанерной перегородкой, как и предчувствовал папа, ругань стала привычной формой общения: с раннего утра Нинка, как правило, начинала допытываться, кто плохо слил за собой говно в туалете, и всегда упрекала в этом смертном грехе бабку Дашевскую. Бабка Дашевская писклявым голосом оправдывалась на дикой смеси еврейских и украинских слов: «Чы я совсем дура, шоб майн тынэф оставляты ин дым тэпл?» Далее в защиту маменьки врезалась дочь с хорошо поставленным голосом, а затем из своей комнатушки вылетала тетя Перл и истерично требовала тишины, так как она, видите ли, пришла с ночной смены и хочет еще немного поспать!
И только лишь война с общим врагом – клопами, объединяла всех соседей. Они трогательно делились друг с другом самыми сокровенными секретами: «Вы знаете? Лучше всего выжигать клопов паяльной лампой. Но можно, конечно, травить их новейшим препаратом под названием „ДДТ“, а еще лучше – раствором ДУСТа в керосине. Не пробовали?».
Зато Валерка Кузнецов, который был младше меня на два года, надолго стал моим первым и верным товарищем, а также неизменным спутником по обследованию всех чердаков соседних домов, многочисленных «развалок» и «погорелок» Киева.
13. Мужская школа
На нечетной стороне Мало-Васильковской улицы наш дом стоял, как скала, так как он был последним высоким домом. Дальше, вплоть до конца улицы, где она упиралась в забор недостроенного стадиона, шли только одно- и двухэтажные домишки. Исключение составляла моя новая школа номер 131, которая была недалеко – стоило спуститься до первого перекрестка и перейти Саксаганскую улицу, а там – второй дом от угла! Зачислили меня в третий класс, а Валерку – в первый. Новая школа меня ошеломила: во-первых, я столкнулся с только что введенным раздельным обучением – школа была чисто мужская, во-вторых, в каждом классе около доски стояла железная печка-буржуйка с трубой, выведенной в форточку (в печку надо было постоянно подбрасывать торфяные кизяки, что делали по очереди дежурные по классу), в-третьих, большая часть моих соучеников были переростками, пропустившими из-за войны по два-три учебных года, у многих не было отцов, а в-четвертых, что было самое удивительное, почти все мои соученики – евреи.
В третьем «Г» -классе сразу установилась своеобразная силовая иерархия. Несомненно, главной фигурой был всегда мрачный Герш Файер. Он был, очевидно, самым старшим по возрасту и, хотя имел довольно болезненный вид, красиво плевал по-блатному, сквозь зубы, позволял себе курить в присутствии учителей, а те почему-то побаивались его и не делали ему никаких замечаний. И еще он очень профессионально матерился. Возле него всегда крутились Яшка Закс и Бенька Рожановский, готовые всегда совершить любую пакость по заданию Герша, и еще несколько ребят. Второй величиной был Иоська Наумчик – плотный и самый сильный в классе, озорник с веселыми глазами, который презирал блатную шпану Файера и вел себя очень независимо. Иоська и Герш не дружили между собой, но и не враждовали – так, терпели друг друга. Темной фигурой был Лейб Городецкий, на редкость необщительный и молчаливый, дисциплинированный, но источавший на всех окружающих какую-то подавляющую силу. Помню, как все облегченно вздохнули, когда зимой прямо во время урока в класс неожиданно вошли два милиционера, подозвали Лейба Городецкого к учительскому столу, обыскали, вытрясли из него пистолет и немецкую финку, грубо схватили за руки и увели. «Допрыгался, фрайер», – презрительно хмыкнул Файер ему вслед. Больше этого Городецкого я в жизни не встречал. А Файера и Закса также, помню, арестовывали в школе во время урока, но уже год спустя. Тихо исчезли из моей жизни и они.
На фоне таких сильных личностей, как Файер и Наумчик, бесплотная и тихая классная учительница Анна Ивановна явно не смотрелась.
Меня, как и следовало ожидать, Анна Ивановна посадила на самую первую парту, а моим сопартником и другом на многие школьные годы оказался Юрка Кочубей по кличке «Кочубья». Дружба наша началась, естественно, с общих учебников, которые все из-за той же нехватки выдавали один на двоих, а в некоторых случаях и на троих учеников. Кочубеи жили напротив школы в угловом доме на втором этаже. Квартира принадлежала деду – импозантному седому старику, подстриженному «под горшок» и с длинными усами – ну, точь-в-точь, как запорожский казака с картинки! Старик целыми днями сидел в старинном кресле: дремал или читал толстенный дореволюционного издания «Кобзарь» украинского поэта Тараса Шевченко, или курил большую черную трубку. От постоянного курения его седые усы отдавали желтизной. Говорил он редко и на его лице было написано глубокое презренье ко всему тому, что творится вокруг него. Таким же был и отец Юрки – высокомерный украинский интеллигент, молча терпевший все окружающее и, как я остро чувствовал, меня в том числе.
Домашние задания мы выполняли вместе и чаще всего дома у Юрки сразу же после уроков, когда никого, кроме деда, не было. Юрка оказался закоренелым двоечником и я, как мог, растолковывал ему все то, что он не понял на уроках. Может быть поэтому, только его мама, тетя Геля, в этой семье была искренне рада нашей дружбе (я это тоже чувствовал). Если по арифметике в его голову хоть что-нибудь мне удавалось втолковать, то с русским языком все было гораздо сложнее. Безграмотен он был хронически. Кстати, его странная школьная кличка «Кочубья» тоже связана с этим – учительница Анна Ивановна как-то прочитала вслух подпись на обложке его тетради: «Тетрадь по русскому языку Юрия Кочубья». Все рассмеялись, а она, сделав паузу, своим тихим голосом и с наигранной серьезностью прокомментировала: «Ну, вобщем-то, правильно: воробей – воробья, Кочубей – Кочубья». После этого уже раздался не смех, а хохот, и это слово стало кличкой, прилипшей к нему намертво. Работы по русскому языку Юрка постоянно старательно списывал у меня как на уроках, так и дома, хотя знал лучше меня все правила грамматики, которые он тщательно вызубривал. Дома он терпеливо ждал, когда я выполню домашнее задание по русскому языку себе, затем все переписывал начисто в свою тетрадь. А чтобы я не скучал, пока он будет переписывать, Юрка доставал для меня папиросы «Казбек» из большой коробки (на 100 штук), которые его папа хранил высоко на шифоньере. И я курил, наслаждаясь самым лучшим по тем временам табаком – совсем не то, что махорка, выпотрошенная из окурков, которые мы, пацаны, подбирали под заборами госпиталей. Потом я научил курить и Юрку, после чего папиросы у отца или табак-самосад у деда он стал таскать постоянно и себе, и на мою долю. Больше всего Юрка любил рисовать. Мне нравилось, как он рисовал людей и зверей. Особенно хорошо ему удавалось передавать на бумаге движение, бег и я старательно учился у него этому. А еще он регулярно носил на базар картофельные очистки, которые тетя Геля собирала в отдельное ведро, чтобы отдавать бабкам-молочницам на корм скоту. И я всегда сопровождал его в этих коммерческих походах. Он предлагал очистки бабкам: за деньги или за молоко (рубль за ведро или стакан молока за ведро очисток). Молоко мы выпивали, конечно, стакан на двоих, и не отходя от бабки-молочницы.
14. Сестричку встретил
24 октября 1944 года мама родила мне сестричку Фанечку. Не знаю уж почему, но в роддоме маму с Фаней держали долго, все не решались выписывать. И вот 6 ноября, в канун Октябрьских праздников и первой годовщины освобождения Киева, должны были совершиться, наконец, два знаменательных события: долгожданная выписка из роддома мамы с новой сестричкой и выход на Красноармейскую улицу первых послевоенных троллейбусов!
Троллейбусы должны были с сегодняшнего дня ходить от площади Толстого до Сталинки. В этот день рано утром я, как обычно, взяв с собой наши и тети Сони хлебные карточки, отправился в магазин. Отоваривание хлебных карточек, наших и Вайнеров – было моей постоянной привычной обязанностью. Очередь, как я и ожидал, к этому часу была уже очень длинной – люди занимают ее еще с вечера, параллельно с «живой» очередью ведут запись очередников в тетрадке с последующими перекличками в определенный час.
Я записался в тетрадку, мой номер, четыреста тридцатый, «химическим» карандашом написали мне на ладошке, узнал, когда будет перекличка, и побежал что, есть духу, на Красноармейскую улицу, чтобы не пропустить появление первого троллейбуса. Я еще в жизни ни разу не видел эту дивную машину с двумя дугами, а еще, говорят, в первой машине будет кататься приемочная комиссия и главные люди из ЦК КП (б) У и правительства. Вдоль всей улицы, разукрашенной флагами, несмотря на хмурую и неприветливую погоду, уже собралось много любопытствующих и нетерпеливых киевлян. Милиционеры, в темно-синих грубых шинелях, со свистками в зубах и с черно-белыми палками в руках, не спеша ходили по проезжей части улицы, наблюдая, чтобы никто из нас не переступал бордюр.
Я выбрал себе самое удобное место – на углу Саксаганской и Красноармейской и вскоре через туманную дымку увидел, как с площади Толстого на Красноармейскую спускается он – первый голубой троллейбус с тремя маленькими красными флажками на крыше. Троллейбус важно проплыл, не останавливаясь, мимо нас, и я не успел даже рассмотреть сидящих в нем больших людей, среди которых должен был быть сам Хрущев. Пощупал карман своего пиджачка – хлебные карточки на месте – и стал ждать появления следующих троллейбусов. Пропустив несколько машин, переполненных первыми пассажирами, я вскочил в троллейбус с большой красивой цифрой «9» между фарами: тоже решил прокатиться до Сталинки и назад, благо сегодня – проезд бесплатный, катают всех желающих, а моя очередь за хлебом подойдет еще не скоро.
Уселся на первое сиденье сразу за шофером, чтобы можно было смотреть вперед через лобовое стекло, на которое оседали капельки дождя или тумана. Вновь пощупал карман, все в порядке, хлебные карточки на месте! Какое это блаженство кататься на троллейбусе! Мы неожиданно очень быстро доехали до Сталинки, развернулись и уже поехали назад. Как быстро! Доехал я до своей Саксаганской улицы и подумал: «Если сойду здесь, то надо будет еще улицу переходить, а если прокатиться всего одну остановку до площади Толстого, то можно будет вернуться назад. Тогда и переходить улицу не надо будет! Прокачусь-ка еще чуть-чуть». Когда я, удовлетворенный, сошел с троллейбуса и подошел к своей очереди, то машинально полез в карман, чтобы убедиться: карточки на месте. Увы! Хлебных карточек в кармане не было. Меня объял ужас: только начало месяца, следующие карточки выдадут не скоро. Как же мы будем жить без хлеба? А как тетя Соня со своей старухой? Я даже при всем воображении не мог себе представить, что с нами теперь будет. Мы все будем голодать и медленно умирать, и моя сестричка Фаня тоже. А что ждет меня? Как я смогу выговорить слова: «папа, я потерял карточки»? Я про себя несколько раз повторял на разные лады эту фразу. Нет, не смогу я это произнести вслух! Пошел назад к троллейбусной остановке, внимательно осматривая тротуар: а вдруг я их выронил случайно и они где-нибудь валяются. Нет, не нашел. Дождался троллейбуса с красивой цифрой «9» между фарами, вошел, осмотрел весь салон, заглядывал под сиденья, на конечной остановке спросил с надеждой у шофера. Но карточек нигде не было и шоферу никто ничего не передавал. Я снова проделал весь свой маршрут, безрадостный на этот раз, и сошел на Саксаганской. Долго бесцельно бродил по улицам и у меня даже мелькали мысли о смерти. И я представил себе, как повешусь, а мама, папа и Рая будут плакать и говорить: «Зачем ты это над собой сделал? Черт с ними, с теми карточками, лучше бы ты остался жить, наш любимый сыночек!» Подобные слова я уже как-то слышал, когда хоронили повесившегося соседа-инвалида из нашего дома. И мне стало жалко и маму с папой, и себя. Долго я еще бродил по улицам. Начало темнеть. И тогда я все же решился идти домой.
Дома, на счастье, никого не было. Я от отчаяния полез под мамин с папой деревянный топчан, служивший им двуспальной кроватью. Надо сказать, что ноги этой «кровати» со всех сторон папа обшил досками, и в получившийся таким образом короб засыпал на зиму несколько мешков картошки. Картошка лежала сплошной горной грядой, а вдоль стены, к которой была придвинута кровать, образовалась ложбина, куда я забрался и залег, рассуждая о своей безвременно загубленной жизни. Незаметно для себя я заснул мертвым сном.
Проснулся от крика младенца; слышу, как папа с мамой что-то с беспокойством говорят обо мне; тетя Соня тоже беспокоится, что уже вечер, а хлеба до сих пор нет. Рая порывается искать меня по улицам, идти в милицию, и вообще: «Надо же что-то делать». Но мама, слышу, успокаивает ее, мол, загулялся где-нибудь и сейчас придет. Тут я неожиданно для самого себя всхлипнул и выдал свое местонахождение. Папа сразу полез под кровать и начал меня расспрашивать, чего я туда забрался. После долгих расспрашиваний, уговоров и, наконец, общих требований, чтоб вылезал оттуда немедленно, я сквозь слезы признался о происшедшем со мной несчастии.