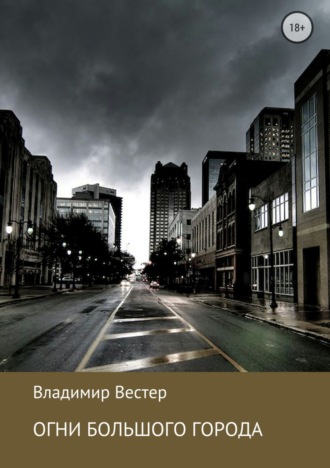 полная версия
полная версияОгни большого города
XIII.
Дня через два вечерние огни в Москве зажглись строго по распоряжению энергетического начальства, и впервые бронзовый цилиндр в руке великого поэта оказался подсвеченным со стороны нашего небольшого кинотеатра, без голых женщин на афише. По искривленности мироздания в тот вечер, кроме дополнительной какой-то кособокости, ничего нового не выяснилось, как и по блестящему реферату, который он дописывает до сих пор в своем новом трехэтажном жилище с видом на Большой Каменный мост и опрокинутые с этого моста фонари в рябую воду главной московской реки. Зато выяснилось, что на основании своего жизненного опыта о чем-то важном и значительном особенно глубоко знает все же не всегда только он. Я не стал спрашивать, кто же именно, поэтому сказал: «И не я тоже». Тогда он молча сразу встал и сразу быстро ушел куда-то дня приблизительно на два. На третий день он вернулся и сперва ничего не сказал, а потом сказал, что лучше всех знает его мать, ни на день не прекращающая трудиться на пишущей машинке в сладковатом дыму «пахитосок», за полинялой шторой на деревянных кольцах. Тут он, скорее всего, не преувеличил. Она была замечательной матерью в черном платье с глубоким декольте и с алой гвоздикой в черных, как южная ночь, волосах. С детства помню, с каким трудом она в одиночку вырастила такого Александра Петровича, сколько ушло на это сил и времени, какие были сложности в этом трудоемком процессе, с какой неохотой он ходил в нашу бакалею за макаронами и хозяйственным мылом и с каким упоением читал «Сказку о попе и его работнике Балде», а потом про «Нос», а потом про латиноамериканского полковника, а потом про того европейского служащего, который «однажды утром превратился в ужасное насекомое». Это, по мнению товарища, вылились для данного служащего в очень крупную неприятность, ибо он совершенно на это не рассчитывал. Кто же захочет в трезвом уме и здравой памяти в такое чудовище превратиться! Его за это все его домашние стали сильно ненавидеть. Он просто-таки сдох в конце концов, и все вздохнули с облегчением. Впрочем, я так и остался при своих догадках, с какой стати отдельные европейские служащие превращаются в страшных насекомых. Делать им, что ли, больше нечего? У нас в бригаде среди наших самых виртуозных мужиков никогда такого не бывает, и это, знаете ли, без каких-либо прибауток. Или вот такой пример со стороны друга детства и юности: «Умер Иоанн Васильевич от игры в шахматы». И снова вопрос: почему? От неумеренного употребления денатурированного спирта – запросто. И от клея «БФ». И от паленой водки. От этого у нас не один Васильевич помер. А по шахматам у нас одни только чемпионы мира, но и то не все. Короче говоря, как мы с Александром Петровичем ни спорили друг с другом, как ни стучали крышкой по кастрюле, так ни разу и не разобрались. Точнее, он-то, может, в чем-то давно уже разобрался, а я за собой ничего похожего не заметил.
А в результате каких биологических процессов он с годами значительно повзрослел, я хорошо знаю, поскольку эти процессы и сам пережил. Студентом, правда, я не стал, а он стал. Больше того, он перешел на высшую ступень идеологического образования и стал известным студентом, почти что героем кафедральных пыльных вершин. А чтобы еще дальше продвинуться, надо было еще немного над собой поработать, как-то в чем-нибудь еще несколько насобачиться. Как это у него должно было получиться, я от него не узнал. Однако с его слов мне стало известно, что за утренним кофе с цикорием мама ему объясняла: «Ты постарайся, Саша, от всего постороннего быть подальше. У тебя учеба в высшем учебном заведении должна быть всегда на первом плане. Ты ходи на нее только в свежих носках. И ты уж обязательно возьми за правило ничего венерического никогда не подхватывать. Для всякого талантливого человека это очень вредно, а ты ведь талантлив у меня, сынок, как никто другой. Ты и вашего профессора Дроцкого не ставь, ради бога, ни о чем подобном в известность. Крупные идеологи в наше время ничего такого знать не должны. Кроме любви к транспарантам и советскому государству».
Но далеко не все, что мама ему говорила за утренним кофе с цикорием, вело к тому, чтобы он на практике все это осуществил. Он и праздничные политические демонстрации не полюбил той пламенной и откровенной любовью, о которой тогда так насобачились в газетах писать. Он и с каким-либо транспарантом или, к примеру, воззванием ни разу в дверях не показывался. Чего не было, того не было. Хотя и ему иногда приходилось входить в состав студенческой ликующей бригады и делать вид, что он по городскому асфальту толкает вперед бравурный коммунистический лозунг на велосипедных колесах. Он, правда, всегда перед началом массового движения транспарантов шел к нашему районному психотерапевту Ильичу Гольденвейзеру и за бутылку водки брал у него освобождение: «Толкать ничего не может. Плохо стоит в позе Ромберга».
Возможно, причина была именно эта, а может, какая другая. Возможно, что и вовсе не было никакой очевидной причины, поскольку в его действиях не всегда можно было что-либо отыскать или как-либо разобраться, почему он так поступил. Вот и тогда, в тот необычно тихий, почти безветренный день. Я, как всегда, в своей матерчатой кепке уехал из своей комнаты на нашу будущую стройку, где опять намечалась выдача премиальных, а он на том же железном трамвае и в том же длинном пальто приехал на кафедру. И на этой кафедре вообще ни о чем не обмолвился, кроме 51-го тома из полного собрания сочинений В.И. Ленина. Он даже специально выделил пятый сверху абзац, в котором, кроме всех прочих, была и такая строка, где черным по белому было сказано: «Я, товарищи, насчет мировой революции не пошутил. Я пошутил в преддверии всеобщего сифилиса головного мозга». С какой целью он данную цитату процитировал, он мне затруднился сказать, хотя и сказал: «Очень уж написано от души!» Зато профессор колбасу резать сразу закончил. После чего несколько времени он простоял с согнутой спиной и, можно сказать, неподвижно. Как и Александр Петрович, который тоже стоял неподвижно, но, в отличие от профессора, с очень прямой спиной. Профессор затем медленно выпрямился и шагнул в направлении товарища, а тот шагнул в направлении профессора. Оба остановились на расстоянии вытянутой руки друг от друга и почти одновременно стали оба кричать. Они оба стояли посреди кафедры малоизвестных страниц марксизма-ленинизма и кричали друг на друга: видавший виды профессор и молодой талантливый студент. С его слов мне не известны ни смысл выкрикнутых фраз и выражений, ни их содержание, но известно, что в тот же день Александра Петровича сначала куда-то вызвали, где был Дзержинский в раме на стене. Кто и что ему там сказал, осталось в истории нашей с ним дружбы, а также вечерней Москвы, однако факт тот, что потом, когда он как-то гортанно пропел про «сифилис головного мозга», его оттуда выгнали, и только под вечер он сумел догнать свою шляпу на Большом Каменном мосту. В итоге его отчислили с 3-го курса, однако мама его кому-то позвонила, куда-то сходила, с кем-то встретилась, и в последний день того же октября его восстановили на курсе, кажется, на 4-ом. Случай вышел необычный, но мифологии никакой. Разве что с верхотуры кафедрального шкафа навернулся и вдребезги разбился об паркетный пол гипсовый бюст Фридриха Энгельса с инвентарным номером на нем. Но и это – со слов моего друга.
XIV.
Некоторые другие высказывания друга и товарища тоже были предельно остры и содержательны, а иной раз спонтанны и хаотичны, хотя почти всегда по поводу скрытого смысла многочисленных областей нашей тогдашней жизни. Он в своих рассуждениях иногда так высоко поднимался, что я видел его под потолком в моей комнате. Он же ведь рассуждал не о носках на теплой трубе: о них-то что рассуждать. Он размышлял о мироздании, советской власти, холодной войне, человечестве, о двух огромных противоборствующих системах. Говорил он и о том, что не одними только баночными шпротами жив современный человек. Я, впрочем, об этом сам ему говорил, но значительно реже и другими словами.
Из тех же, которые тоже как-то по-своему выражались и с которыми он на практике пробовал осуществить нечто совершенно вожделенное и природой обоснованное, я всех помню по именам и профессиям. То есть не всех, но почти. И тех, которые с холодной брусчатки площади имени Валерия Чкалова, и тех, которые у трех столичных вокзалов особенно заоблачных цен не заламывали. Была и симпатичная, худенькая машинистка, знавшая наизусть небольшую трагедию Пушкина «Пир во время чумы», а также бледнолицая, с короткой стрижкой труженица с Центрального телеграфа. Она не знала наизусть никаких трагедий, но категорически отказалась снимать пальто в моей прокуренной комнате. Сослалась на то, что «есть у нее родная тетя; так вот; эта ее родная тетя категорически запрещает ей заниматься такими вещами в гостях у мало знакомых людей». Александр Петрович стал ее убеждать. Он стал говорить, что от 96-й позиции по «Камасутре» тетя ее сама бы не отказалось. Какая тетя в здравом уме откажется от подъема всего тела из коленно-локтевого положения в сторону восходящей луны? Однако не убедил.
Еще одна была то ли блондинкой, то ли брюнеткой в оранжевой юбке и зеленых колготках. Очень красивая, особенно в бедрах. В сапогах на платформе. Умело накрашенная. Алый лак вот только на ногтях несколько облупился. А вообще-то, пальцы длинные, и ноги не очень короткие… Фамилия у нее, по странному совпадению с кассиршей из наши ближайших «У летчиков», была, кажется, тоже Мормыхина. Ну да фиг с ней с фамилией. Главное, что она приносила дагестанский коньяк с тремя звездами на этикетке и с дымящейся сковородкой входила в комнату. Поставив сковородку на мою вчерашнюю «Правду», она говорила: «Пожалуйте, пареньки, на котлетки!». И Александр Петрович тут же вскакивал и кричал: «А давай! Наливай!» А я отзывался: «Вот! Уже наливаю!» А она говорила: «И мне не забудьте плеснуть!»
Раза два или три она оставалась у меня ночевать. При погашенном электричестве она снимала своим зеленые колготки, затем лежала под единственной из моих более-менее свежих простыней, дней пять назад принесенной из прачечной. В молчании полежав минут пять, она прекращала молча лежать: «Да ложись ты уже, Александр Петрович. Чего ты все, как юный коммунист, по комнате колобродишь? Вон и другу твоему сранья на стройку подыматься, а мне за прилавком оттягиваться. Совсем уж тебя заждалась!» Он откликался: «Все! Почти готов! Уже пиджак снимаю!»
А о том, что она была примерно такая же, как Норма Джин Бейкер Мортинсон, то есть Мэрилин Монро, я мог бы ничего не говорить, но скажу: не всем же у нас быть, как Норма Джин Бейкер Мортинсон, то есть Мэрилин Монро. У той все ж таки ее трудная американская юность, а у этой нелегкая советская молодость. Та не носила зеленые колготки, а эта носила. Та – с феноменальными физическими достоинствами и завидным кинематографическим талантом, и сам Джон Ф. Кеннеди ей что-то говорил. А этой Джон Ф. Кеннеди ни слова не сказал. В отличие от ее начальника, который сказал ей значительно больше слов, чем она ему. Хотя и у нее свои физические достоинства. Их мой товарищ в конце того же октября подробно изучил на моем пружинном диване. Это я сам видел, растягивая свой резиновый эспандер на заре. Могу (при желании) показать.
А потом так как-то вышло, что некому стало с этой сковородкой в комнату входить. Так как-то случилось в начале зимы того же года. Пропал дагестанский коньяк, и звезды на этикете угасли вместе с этикеткой. Я точно не помню, как это произошло. Тогда много чего происходило, всего не запомнишь. Кажется, было какое-то крупное «рыбное дело» в Москве. В процессе расследования этого крупного «рыбного дела» много кого взяли, в том числе рыбы и людей. И ее тоже взяли. С поличным. При продаже двух мешков сушеной воблы в одни руки – против одного положенного. Процесс был показательный. В Народном суде Центрального района города Москвы. Там, где круглые электрические плафоны, как на станции метро «Парк Культуры». И маленький милиционер в красивой фуражке и с настоящим пистолетом.
Александр Петрович до позднего вечера ко мне не приходил. По уважительной причине. Он, как сам объяснил, покинул пыльные вершины своей идеологической кафедры, и на трамвае приехал сразу в суд. И в 18-м зале этого суда выступил в качестве свидетеля со стороны общественной защиты. Защита получилась очень сильная, очень творческая, искренняя и содержательная. Хотя и без его фетровой шляпы, которую он, естественно, в 18-зале снял, чтобы не очень наглеть. Он, в частности, утверждал, что никаких четырех мешков не было и не могло быть, так как в момент отпуска такого количества сушеной воблы в одни руки он ночевал с подсудимой на моем пружинном диване, и скрип диванных пружин теперь в душе его и в памяти тоже его. Суд, правда, это в качестве доказательства ее невиновности не принял, посчитав сексуальной распущенностью как гражданки Мормыхиной, так и самого Александра Петровича. В результате: ей – три года на стройке народного хозяйства и пять лет без права въезда в Москву (тогда это «химией» называлось), а ему – частое определение на кафедру малоизвестных страниц марксизма-ленинизма, где он на 3-ему курсе постоянно учился.
Он после проигрыша пришел ко мне: никуда больше идти не захотел. И, не сняв шляпы, долго в молчании сидел в моей комнате за столом, положив на вчерашнюю «Правду» свои длинные руки в серых нитяных перчатках. А я тогда только что с нашего строительного пустыря домой вернулся. Сергей Львович, мой тогдашний начальник-геодезист, в этот день с такой силой разнес всю бригаду за пропажу совковой лопаты, стоявшей всегда у задней стены нашей производственной каптерки, что ни жить, ни работать никому не хотелось.
Так что к вечеру я очень устал; настроение – дрянь. Но пельмени сварил. С горошинами черного перца и лавровым листом. Они тихо всплыли, как это в те давние годы с ними бывало, и я их в кастрюле принес в комнату и на свою вчерашнюю «Правду» поставил. А товарищ на них даже не взглянул. Я крышку открываю, и запах по всей комнате, а ему хоть бы хрен. Я крышку закрываю, а ему вновь хоть бы что. Я опять эту крышку открываю со всей щедростью, на какую способен, а он говорит: «Да хватит тебе с этой крышкой возиться!» Тогда я его о чем-то важном спросил, но он не ответил. Я опять о чем-то спросил, должно быть, самом существенном, и он тогда сказал:
– Да какая там, друг ты мой подручный, совковая лопата. Ты глубже копай.
– Да, куда уж глубже, Александр Петрович…
– А ты попробуй. Я вот сегодня копнул – и чего? Я им про 96-ю по «Камасутре», а они мне про эти мешки! Ну чего такого уж особенного сделала эта сексапильная труженица советской торговли, входившая в твою прокуренную комнату с горячей сковородкой? Что? Ни-че-го. Воблу надо почаще завозить… Воблу! (Тут он ударил кулаком по воздуху.) А не наших с тобой женщин в тюрьму сажать!
После таких его слов мне что оставалось делать? Мне ничего не оставалось, как только с целью обеспечения дальнейшего успеха наших посиделок свою заначку «партийного» из шкафа достать. Но я не достал: не было ее там, под моим нательным бельем: выпили всю дня за два до судебного заседания. Из-за чего при свете городских огней пришлось бежать к «У летчикам». Очередная доброта Арнольда Моисеевича, соседа моего и технолога по специальности, очень оказалась кстати: Моисеич мне три рубля одолжил. А разгулявшаяся осенняя непогода не совсем была кстати в самом центре Москвы, по темным тротуарам которого я сквозь снег с дождем несся в своей матерчатой кепке и куртке из ткани «болонья». Навстречу светящейся улетной вывеске. Мимо известного памятнику автору «Пира во время чумы» и нашего кинотеатра, где тогда кино показывали – по правую руку от автора. Без пяти девять влетел в двери «У летчиков», а в одну минуту одиннадцатого оттуда вылетел. (Плоскую банку шпрот я, кстати, тогда тоже купил. Не всегда же знаменитый советский дефицит продовольственных продуктов являлся главной составляющей жизни в бывшем СССР…)
А уже ночью по моему ламповому радио темнокожая женщина где-то за океаном запела, и Александр Петрович сказал, что, скорее всего, она поет о том, что жизнь еще непознаваемей, чем любое его о ней представление, не говоря уж про мое. Я что-то, кажется, возразил, а он сказал: «Это уж наверняка, как ты в нее пальцем ни тыкай, как чего в нее ни суй». Далее он сказал то, что я дословно не помню, но по смыслу получалось, что даже если он когда-нибудь по заданию профессионального идеолога, профессора Дроцкого, заведующего кафедрой, допишет свой блестящий реферат по повседневному коммунизму, то и тогда не удастся ему в точности повторить триумфальный подъем человека из коленно-локтевого положения в сторону ночного светила. Оно к тому времени уже взошло, но не идеально круглое. Это характерно для Москвы, где не всегда небесные светила являются самыми круглыми.
А когда Александр Петрович к окну подошел, то я сразу понял, что это он к окну подошел, мой лучший друг и товарищ. Тем более что у окна он, высокий и талантливый, сперва стоял некоторое время без единого слова. В своем «джазом» пиджаке и широком галстуке в кривых фиолетовых огурцах. А потом сказал почему-то не про нашу вечернюю Москву и даже не про все отечественное мироздание, где, как известно, всякое случается, а про расстояние от моей комнаты до ночного светила, ближайшего к нам:
– 365 тысяч километров от твоего шкафа до обратной стороны Луны. Ничего себе расстояние… А до Созвездия Рыбы, каковое между Овном и Водолеем? Это вообще во много раз больше того, что я за всю жизнь смогу на своих длинных ногах по Большому Каменному мосту пройти, а ты в своей матерчатой кепке по вашей строительной площадке пробежать. Человек же из коленно-локтевого положения когда-нибудь поднимется, не навсегда же он в этой позе затормозился. Но данный подъем бывает труден и долог, очень труден и очень долог… А то и нереален… совсем.
И он мне это говорил, а я разглядывал государственные ордена на моей вчерашней «Правде». Я эту «Правду» в те далекие годы всегда на стол стелил, чтобы свою кастрюлю на газету ставить, а не на голую поверхность стола. На кой черт сдались все эти ордена? На кой дьявол нужны все эти атрибуты, вся эта проклятая государственная мишура, если даже то, что Александр Петрович мне говорит почти каждый вечер, я понять не могу?
Все это в моем понимании было очень загадочно, очень таинственно. Приблизительно так, как появление величественных шпилей и горельефов в туманах первобытных болот, клубившихся в те осенние дни над нашей строительной площадкой.
XV.
Другие проявления жизни тоже, естественно, были, и все они, как он полагал, глубоко затаились всюду. Во тьме истории прежде всего. А также в узких потемках моего шкафа, на кафедре малоизвестных страниц марксизма-ленинизма, возглавлял которую этот профессор, которого давно уже нет нигде, кроме воображения. Они же – и в ближайшей бакалее, и в столичных улицах и переулках, разных по длине, ширине, названиям, исхоженности и степени освещенности. Это его ощущение тоже было существенным и, видимо, необходимым. Оно, во-первых, позволяло хотя бы немного разобраться в том перечне, который за шторой на деревянных кольцах долгие годы в сладковатом дыму «пахитосок» перепечатывала его мать, а во-вторых, не сразу, но все же отделаться от странной иллюзии, что что-то опять происходит не лично со мной, а с кем-то еще. Я сижу в комнате, в ней и товарищ сидит. Он – блестящий студент, я – подручный главного геодезиста. Шляпа на крючке; лампочка на потолке. Тот же шкаф. Хорошая музыка. За темным оконным стеклом – большая Москва. Все это здесь и сейчас, но через много лет после всех исторических событий, которые уже были, и за годы до тех, которые еще будут. Давно уже нет Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны, коллективизации и индустриализации, Второй мировой войны и Первого спутника Земли, ХХ съезда КПСС, отставки Н.С.Хрущева и ввода советских войск в Прагу, стрельбы в Далласе и эпохи разрядки. Давно уже вынесли из мавзолея И.В.Сталина и забыли вынести В.И.Ленина. Наши войска вошли в Афганистан и через десять лет оттуда вышли. Все разрешили, все напечатали, и бешенство бывших друзей достигло невиданной интенсивности в их ненависти друг к другу. Рухнула Берлинская стена, но не сам Берлин. Накрылся Варшавский Договор, оставив после себя тысячи брошенных единиц военной бронированной техники. Значительно раньше сошли с конвейера первые советские «Жигули», американские космонавты высадились на Луне, уехал за границу А.И. Солженицын, Краснознаменный ансамбль песни и пляски вернулся с зарубежных гастролей. Умер сперва Брежнев, затем Андропов, а за ним и Черненко, закончив тем самым бешеную «гонку на лафетах» вдоль полузабытых огней центральной Москвы. Грохнул на всю планету Чернобыль. С шумом вычеркнули 6-ой пункт Конституции. Ушел в отставку Горбачев. Пропал во тьме истории СССР. И так уж вышло, что дальнейшая история страны пока еще никуда не пропала. Она тут и сейчас. Хотя, если верить товарищу, предварила ее, как и весь ХХ век, своим триумфальным шествием по городам и весям короткометражная кинолента о голой женщине, выходящей из ванной. Протяженностью действия 58 секунд.
ХVI.
На этом можно было бы и закончить эти воспоминания про меня и моего товарища, но закончить отчего-то не выходит. К тому же вопрос «ну а что же Москва?» нуждается хоть в каком-то ответе.
Надо честно ответить: не знаю. Знаю, что поближе к ночи великий город погружался в темноту, оставляя лишь те огни, которые были нужны ему для круглосуточного освещения. Звенели у кого-то из моих соседей настенные часы, кто-то где-то вздыхал, скрипели половицы в коридоре: это какой-нибудь припозднившийся в кухню прошел и, наверное, с чайником.
Александр Петрович ко мне не приходил несколько дней, а то и лет. Чем он в это время занимался, где пропадал, никакой информации не было, поэтому ни на что конкретное грешить не могу. Должно быть, дела и занятия, занятия и дела, сводившиеся к чем-нибудь более важному и неотложному, чем огромные черные собаки, охраняющие вход в один из подмосковных ЛТП. Такое же, например, как его неумолчное желание связывать несвязуемое и объяснять необъяснимое под звуки музыкального инструмента изогнутой формы.
И все дальнейшее, о чем я еще не рассказал, – в память о том, что мы с ним пережили, о том, что собирались пережить, о том, что никогда не думали переживать, о том, что могли бы пережить, но отчего-то не пережили. То есть он пережил, а я не успел.
Добавлю к этому и дополнительный фрагмент о белокурой киноактрисе, незаходящей кинозвезде его юности, героине самой лучшей кинокомедии в мира. Она осталась навсегда в памяти нескольких поколений и на трехмерной плоскости мирового экрана. Тем более что через несколько лет в различных уголках планеты с разным уровнем громкости отозвалась очередная годовщина трагических выстрелов в техасском Далласе по проезжавшему в открытом автомобиле Джону Ф. Кеннеди. Без всякого упоминания о скончавшейся за год до этого Нормы Джин Бейкер Мортинсон. (От передозировки.)
В ту же ночь он мне позвонил или не в ту, я опять же запамятовал. Помню, что пару раз растянул свой резиновый эспандер на заре; потом еще один день прошел; а потом звонок был примерно во втором часу по Москве. Меня еще тогда Арнольд Моисеевич, технолог по специальности, к телефону позвал. Я уже спал на своем пружинном диване, а он позвал.
Голос был тот же, то есть очень знакомый. Я его сразу узнал по манере, по интонации, хотя и не сразу поверил, что это он. Тем более что по телефону он ничего не сообщил о кривизне мироздания, которое только чудом удерживается в его накренившемся состоянии. Он просто и даже как-то буднично, сказал то, о чем я то ли когда-то знал, то ли когда-то забыл: калибр винтовки, из которой стреляли. Он и число пуль уточнил, которые выпустили. Сказал он и о том, о чем я тоже догадывался, но забыл, когда это было последний раз…
– Убийца был коммунист. Ты помнишь «рыбное дело»?».
– Я всегда о нем буду помнить так же, как и тебя, Александр Петрович.
– Ну так вот. Сам понимаешь, какая тут связь.
– Не понимаю.
– Что ты не понимаешь?
– Какая тут связь.
– Вот ты наивный какой паренек. Он не понимает! Настоящий подручный. Дальше вашей душной каптерки не видишь ничего. Годы не изменили тебя, родной ты мой друг в матерчатой кепке. Между тем связь более чем очевидна. Наши коммунисты в Америке по президентам стреляют, а в это время жизнь вперед летит без всякой остановки. И потом. Норма Джин Бейкер. Мортинсон. Ее ты-то хоть не забыл?
– Ну как же я мог, Александр Петрович!
– Так вот. Ее родная бабушка знаешь, кем была?
– Кем?
– Она как раз и была той самой брюнеткой, что в 1895 году выходила голой из ванной. Этот, кстати, короткометражный художественный кинофильм и будет представлен на «Оскар» в самом начале ХХI века!
Выпить по этому поводу он, скорее всего, собирался предложить, но не предложил, должно быть, точно зная, что никакой стеклянной заначки в моем двустворчатом шкафу давно нет: всю выпили в эпоху торжества советской власти. Поэтому он, отказавшись такое предлагать, сослался на свою по-прежнему неотложную работу над своим блестящим рефератом на шестом этаже нашего дома в центре Москвы. И я всю оставшуюся ночь спал на своем пружинном диване довольно-таки беспокойно, и снилась мне та, что входила в комнату с горячей сковородкой и почему-то в шляпе Александра Петровича, с отблеском фонарей на полях. А утром я забыл пару раз растянуть свой резиновый эспандер, который мне больше всего нравилось растягивать на заре. В автобусе, по пути на осенний строительный пустырь, я никакой скорби на лицах пассажиров не видел и, чтобы как-то отделаться от смутных предчувствий, в нашей душной каптерке кое-что сообщил по калибру и пулям, умолчав о принадлежности стрелявшего к всесоюзной коммунистической партии большевиков. И это мое сообщение, смешавшись с табачным дымом, повисло над лаконичным убранством служебного помещения.

