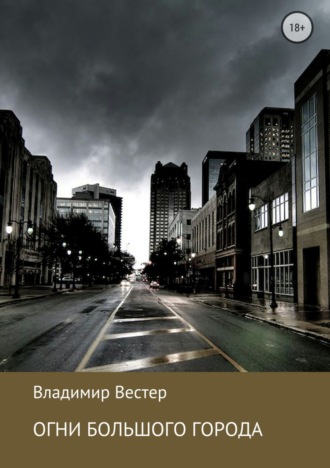 полная версия
полная версияОгни большого города
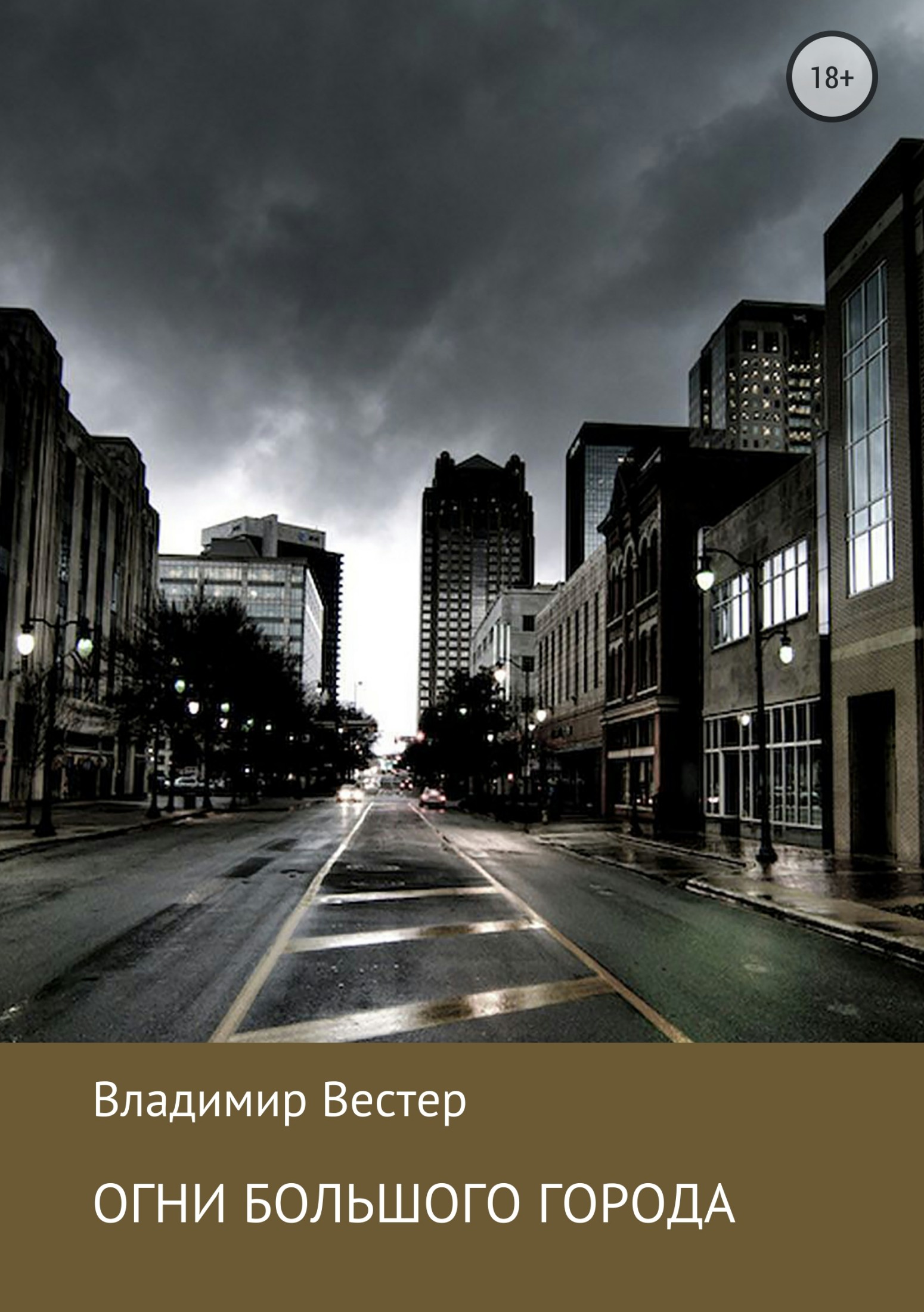
Огни большого города
I.
В дни нашей с Александром Петровичем совместной юности доступа к огнестрельному оружию у меня не было. Не было ничего огнестрельного у меня и потом, когда наша совместная юность кончилась, и Александр Петрович стал тем, кем он стал: очень известным Александром Петровичем на крутом взлете его жизненного пути. Ну и слава богу. Зачем такому закадычному другу, как я, боевое военное вооружение? Что делать мне с ним под звуки утренних упражнений по радио?
Растягивал я и свой резиновый эспандер на заре – если у меня получалось его растянуть под те же звуки по радио. Потом – уборная, матерчатая кепка на голове, и мой проезд на городском транспорте через всю столичную Москву. Запомнились облака, дома, граждане, киноафиши, непогашенные фонари на столбах.
Видел я и, обеспокоенного сложившейся производственной ситуацией, бывшего армейского человека в широкой армейской плащ-палатке, которую он никогда не надевал просто так – исключительно по случаю осенней непогоды. Видел я его курящим на крыльце и глядящим в сторону Ярославского перегона; видел я его и с кожаной кобурой на боку и в табачном дыму разглядывающим пожелтевшую фотографию. Убрав в нагрудный карман фотографию, он несколько раз поворачивался вокруг оси и уходил с крыльца, чтобы обосноваться в каптерке на промасленных телогрейках. Обосновавшись, он принимался сильно курить и двумя пальцами очищать плавленый сырок «Дружбу» от фольги.
Александр Петрович, мой давний товарища по старому дому в центре Москвы, никогда не видел этого армейского человека вообще и за этим занятием в частности. В равной степени никогда не видел дружок мой закадычный ни главного геодезиста в табачном дыму, ни бывшего полковника в фуражке, ни вытащенной им из нагрудного кармана пожелтевшей фотографии. Плавленый сырок «Дружбу» он видел, но, в контру бывшему полковнику, ни одного раза, на моей памяти, не очищал его двумя пальцами от фольги, полагая, что не само это тщательное действие, а подробный рассказ о нем исключительно на моей совести.
В армию Александра Петровича несколько раз забирали и всякий раз неудачно. Наверное, ни у кого и в мыслях не было, чтобы его удачно забрать. Никто не мог поручиться, что очередная попытка определить его в состав действующих армейских частей в качестве солдата срочной службы завершится успешно. Каждый раз эти попытки разбивались об его поразительно стойкий пацифизм, об его категорическое нежелание маршировать в сапогах по просторам отчизны. Под талантливые звуки сводного оркестра Московской службы ПВО.
Учился Александр Петрович в пяти-шести трамвайных остановках от нашего дома, в Проезде имени Н.К. Крупской. Высокая чугунная ограда; деревья росли. Двери мощные. Несколько раз был скандально отчислен с кафедры не столько по идеологическим соображениям, а сколько потому, что гипсовый бюст Фридриха Энгельса с верхотуры шкафа наворачивался. По тем же соображениям там же и восстановлен. Стал учиться опять.
Имел он и то, чего не имел я: свою личную власть над временем и пространством, которую он в связи с внезапными приступами скромности никогда не выпячивал. Спустя столько лет это его качество представляется мне таким же натуральным, как умение наблюдать на досуге луну и звездное небо, фонари и прохожих, трамваи и афиши, памятники и бомжей, меня и мою электрическую лампочку в черном патроне, которая висела на потолке, в жилой комнате с одним окном и одним гардеробом.
Много чего иного, но столь же замечательного он имел обыкновение наблюдать в минуты напряженной работы его воображения, включая солнечный свет, приглушённый плотными занавесями в его большой комнате на 6-ом этаже нашего дома и крупную московскую луну, примерно раз в месяц повисавшую над крышами многочисленных столичных зданий. Не вызывает сомнений и его терпкое ощущение многогранности окружающего мира, самых дальних и не самых дальних окраин, спальных районов, учреждений, заводов, фабрик, депо, районного КВД, ближайших улиц и переулков… Мысленно видел он многоликий образ огромного города, подсвеченный сотнями тысяч электрических огней, хотя и не был этот образ для товарища однозначен. Скорее, причудлив и не выстроен до конца.
Слышал он и сухой дробный стук пишущей машинки его матери, работавшей всеми днями и ночами в другой комнате. Тот стук – как эпиграф, забытый за полинялой шторой на деревянных кольцах, но подходящий для моих воспоминаний. Ей нравилось шабить тонкие дамские «пахитоски», более правильное название которых я забыл. Плавным движением поправляя алую гвоздику в черных, как южная ночь, волосах, она, окутанная сладковатым дымом «пахитосок», перепечатывала на механической пишущей машинке «Хронологические ведомости», которые ей еще в самом начале второй половины ХХ века дали на перепечатку в Музее Революции СССР. Эти бумаги были, скорее всего, никакими не ведомостями, а бесконечным перечнем исторических событий, суть и смысл которых неоднократно менялись с течением времени, но всегда они оставались событиями, которые уже были, а не будут когда-нибудь.
Вписываются в приводимый мною фрагментарный перечень и прочие дни во всем их полузабытом многообразии. Не те дни той давней осени, украшенные двумя гранеными стаканами на моей вчерашней «Правде», а те дни, когда мой товарищ был значительно моложе, чем представляется мне в моих воспоминаниях.
Крикнув что-то матери и получив что-то в ответ, он вставал, чистил зубы и после лёгкого непродолжительного завтрака, раза два в месяц состоявшего из трёх яиц всмятку, хлеба с маслом и сыром, маринованных помидор, болотной красной клюквы, посыпанной сверху сахаром, и большой чашки кофе, откидывался на спинку стула и сам себе говорил: – «Эх, а не пойти ли мне сегодня в кинематограф на фильм Луиса Бунюэля “Скромное очарование буржуазии”!» И тотчас вспоминал, что этот фильм, в отличие от «Джентльмены предпочитают блондинок» с участием американской белокурой кинозвезды Нормы Джин Бейкер Мортинсон (Мэрилин Монро), ни в одном советском кинотеатре еще не показывают. Вспомнив это, он некоторое время оставался сидеть на том же стуле, размышляя о неустроенности мироздания, выдающейся американке, гнусности КВД, о строгости районного психотерапевта Ильича Гольденвейзера. О том, что, похоже, сегодня у него такое настроение, чтобы надеть «джазовый» пиджак с видавшим виды хлястиком, а вечером, если настроение не улучшится или не ухудшится, отправиться на третий этаж к товарищу детства, то есть ко мне, и у этого товарища, то есть друга детства, что-нибудь выпить и скушать за его счет, пообещав, что когда-нибудь в будущем организует он для меня продолжительный ужин на двоих на третьем этаже блистательного ресторана «Прага». С шикарными умными женщинами с глубоким декольте и белыми покатыми плечами, проворными стрижеными официантами, подливающими вино в фужеры и с завидной ловкостью меняющими пепельницы на столе.
Все это живо и теперь, словно «вне времени и пространства». Все это призвано пролить дополнительный свет на кое-какие особенности жизни моего товарища, а если и не пролить, то как-то поудачней их высветить и, по возможности, прояснить, не избегая кое-каких подробностей его выдающейся оригинальности.
Нечто особенное было во всем облике этого человека, который был и остался моим давним другом и товарищем. Он, во-первых, вот уже несколько лет являлся постоянным студентом знаменитой кафедры малоизвестных страниц марксизма-ленинизма, на пыльных вершинах которой зав. кафедрой, профессор Дроцкий, заунывно разбирался в особенностях современной идеологической борьбы за прогресс и всеобщее процветание. Горячим сторонником их был и Александр Петрович, иногда сомневавшийся в их ближайшей победе над всем прочим. Он (это уже во-вторых) и у меня в комнате зачастую в этом сомневался, а потому сидел у меня за столом, ожидая моих дальнейших действий по организации выпивки и закуски. Этого у меня, как правило, не было. Как и заначки бутылки «партийного» в шкафу, выпитой моим товарищем вместе со мной еще тогда, когда июньские соловьи мастерски заливались за распахнутым окном. Но это было летом. А осенью, в конце того же октября, Александр Петрович оставался верен себе. Он и ко мне приходил почти каждый вечер. И за столом сидел, как правило, на то же стуле, на котором в его отсутствие сидел и я. И удивительно образно отзывался о том, что в бесконечной своей сложности происходит в огромной городе при свете его бесчисленных огней. Хорошо помню и то, какие замечательные варианты он описывал, а также то, в чем он, размахивая большими руками, ходил по городским улицам и переулкам. В чем он выходил из подъезда. В чем он входил в нашу гулкую подворотню. В чем он торжественно шествовал в потоке людей и машин. В чем он в минуты глубоких раздумий стоял на Большом Каменном мосту. Огни большого города безмолвно существовали в темной воде известной московской реки, и что-то невидимое, но очень фантастическое происходило там, где впадала река в одно из ближайших к столице морей. А какой был на нем заповедный прикид, когда он, пытаясь это представить, курил, глядя на то, как на другом берегу поднимается к небу плотный сиреневый дым из трубы тяжелой дореволюционной ТЭЦ, украшенной лозунгом о природе электрического тока и его полезности для людей!
К прикиду моего товарища отнесу я все, что помню и даже то, что давно забыл. Отнесу я к нему и его пальто с бархатным воротником, его длинные, как загребные восьмерки, ботинки производства фабрики «Скороход», его серые нитяные перчатки, далеко не всегда способные защитить руки от колкого ветра, привольно гуляющего по столичному мосту.
А то, в чем он приходил ко мне, являлось классными и модными вещами, которые далеко не всегда встречаются на людях в городской толпе, тогда как толпа встречается всегда. Сидя у себя в комнате, я, несмотря на трудную работу по разметке обширной строительной местности на окраине города и беседы с бывшим полковником, моим непосредственным начальником, не мог порой дождаться той минуты, когда дверь отворится, и в проеме появится ухоженный центровой фраерок с оттопыренными ушами, в финском плаще, широкополой шляпе, в белом длинном шарфе, обвитом вокруг шеи. Он появлялся в этой его шляпе с отблеском вечерних фонарей на ее влажных полях, и тогда со стула вскакивал и кричал: «Ба! Ты ли это, Александр Петрович!»
Был ли на товарище пиджак? Ну, не совсем «джазовый», не совсем… Советский и вполне кондовый. Крепкий, ладно сидевший на высокой и несколько угловатой фигуре Александра Петровича. С шелковой подкладкой и аккуратно срезанной ножницами фабричной маркой. Удаление фабричной марки – важнейшее дело. Это позволяло выдать пиджак за итальянский, бельгийский, шведский, люксембургский, гватемальский. Вероятно, еще и за тот, который и по сей день могут пошить на родине Чарли Чаплина и автомобилей «Rolls-Royce», лондонских туманов и одноглазого Кромвеля, загадочной «МИ-6», музея с фигурами выдающихся личностей из свечного воска и седьмого гениального агента с двумя нолями перед семеркой, созданного насквозь прокурившимся британским Флемингом. И ясно было мне то, что нормальному человеку пойти в таком пиджаке можно куда угодно. А можно в нем никуда не пойти, а куда-нибудь поехать. Сесть в пульмановский вагон поезда и оказаться бог весь где. На платформе, чужой и незнакомой. Под дребезжание ложки в стакане, который под стук колес стоял на купейном столике. Это мог быть совсем другой город. Какой-нибудь могучий населенный пункт с медным памятником изобретателю космического аппарата, с колким, пронизывающим ветром с залива. Короче говоря, в таком потрясающем пиджаке можно было оказаться всюду, куда ни заводили человека его воображение, обычная практика жизни и повседневные повороты судьбы.
Одним из таких поворотов и следует признать не ночные объяснения по телефону и не подробнейший его ликбез по «Камасутре», самой древнеиндийской Книге Любви, а утренний выход Александра Петровича из подъезда и его посадку в железный городской трамвай. Вы можете спросить: почему именно в трамвай? Отвечу: потому что не в автобус, хотя и в этот вид городского транспорта Александр Петрович тоже был непревзойденным мастером посадки.
Прогремев по рельсам вдоль бульварного кольца, трамвай круто поворачивал, въезжал в проезд имени Н.К.Крупской и останавливался перед массивным широкодверным зданием столичной ВПШа. Где и находилось высшее партийное учебное заведение, которое, по-моему, тоже можно представить как некое заведение в «джазовом» пиджаке с видавшим виды хлястиком.
Через несколько лет жизни и связанных с нею коллизий его двубортный пиджак стал пиджаком однобортным: пуговицы, подкладка с искрой, ручка китайская с золотым пером во внутреннем кармане. Он эту ручку использовал вскоре ловко и правильно, применив при написании своего будущего реферата, блестящего по одной, повторявшейся в нем, мысли, и неоднократно обещанного профессору Дроцкому. Эта мысль его запомнилась мне, превосходно запомнилась. Прежде всего своим парадоксальным звучанием в моей комнате, легким привкусом англоязычного вокала, перкуссий, саксофона, несколько навязчивой рифмой, внятно пропетой им однажды в ночи: «джаз – продаст». И я тогда понимал, с каким неожиданным человеком имею дело, какой он для меня внезапный московский чувак примерно одного со мной возраста. Я вроде и знаю его очень давно. С той поры, когда однажды я зажал черный дворницкий шланг для поливки двора, а он отпустил. Когда вместе курили на чердаке. Когда его утренняя эрекция была помощнее моей. И я теперь снова вижу, что это он во всем его классном прикиде. Годы и годы спустя после нашего совместного детства и незабываемой юности я почти каждый вечер встречаю его одним и тем же возгласом «Ба! Ты ли это, Александр Петрович!»; и он мне говорит: «А ты кого ждал?»; и я потом думаю: «А ведь действительно: когда я ждал?»; а он говорит: «Меня ты и ждал. А кого еще? А потому и доставай вот теперь свою стеклянную заначку из своего деревянного шкафа. Не может быть, чтобы мы с тобой всю ее выпили в ту короткую ночь под пение июньских соловьев на рассвете!»
II.
Город, в котором мы жили, был очень большой, и огней по вечерам в этом городе было очень много. В подавляющем большинстве были в городе огни электрические, словно лампочка на потолке в моей двенадцатиметровой комнате. Не все они высвечивали всё одинаково; а то, что высвечивали, не оказалось потом одинаково запечатленным в моей памяти. То же, что сохранилось, вряд ли теперь кому-нибудь интересно. Впрочем, не мне об этом судить.
Не мне судить и о причудливом сочетании разнообразных фрагментов, украшавших богатую событиями, чрезвычайно емкую жизнь моего товарища, тем более что о некоторых из них я почти все сказал. О том, например, что позволяло Александру Петровичу заметно выделяться из толпы не очень вкусно, а то и очень вкусно одетых москвичей. О том, насколько мало влияли на его заповедный прикид постоянно сохранявшаяся мода на массовые народные танцы, популярные песни, трудовую доблесть и рутинную повседневность. Стороной обходила его и несокрушимая отечественная радость, которая не слишком радовала его. Не был он горячим сторонником и той задорной нашей наивности, которая у нас еще задорней, чем кажется. Или такая дискуссионная проблема, как наша политическая неустроенность: вот это уже значительно ближе ему. Как и гламурный метросексуализм, ворвавшийся в общественную жизнь на стыке веков и смывший эти стыки. Он может это подтвердить и обязательно подтвердит. Если, конечно, удастся мне в разноцветной сегодняшней спешке разглядеть его шляпу с отблеском осенних фонарей на полях.
А то, что он пришел ко мне вечером, почти что в точности такой же факт, как и все остальные. Я при свете моей электрической лампочки разглядел не только его высокую худощавую фигуру в длинном пальто, но и его шляпу на голове, которую он виртуозно умел не только снимать, но и забрасывать на металлический крючок в моей комнате. Заметил ли я отблески фонарей на фетровых ее широких полях?
Выражение лица и его действия были таковы, что не оставляло сомнений в важности и необходимости этих его действий и этого выражения. Сам же его вечерний визит мог быть подвергнут сомнениям с моей стороны, если бы не привычная повторяемость через неравновеликие промежутки времени.
Мы жили в одном доме в самом центре Москвы. Об этом стоит напомнить, чтобы самому не забыть. С той же целью обязан еще раз сказать, что он жил на шестом этаже, а я на третьем. Окна наши выходили во двор. Хорошо помню, как еще в детстве он высовывался из окна и кричал на весь двор: «Я к тебе счас зайду! Жди меня в течение ближайших минут!» Проходило часа два, и он появлялся во всем своем блеске раннего развития ума и умственных способностей.
Была и наша совместная юность, пришедшая следом за нашим общим детством. Об этом тоже важно напомнить. И танцы были в тенистом городском саду. Быстрые и медленные танцы с милыми девушками в узких коротких юбках и в длинных широких. Под развесистыми кронами больших деревьев и под вокально-инструментальный ансамбль, в составе которого усатый парень классно стучал обеими руками по большому фибровому чемодану, а безусый парень отклонялся назад и нагибался вперед, когда дул в коричневый мундштук небольшого изогнутого саксофона. А в микрофон пел очень стильный парень, похожий на Элвиса Аарона Пресли: такой же черноволосый, подвижный, лирический, но, в отличие от великого американского исполнителя, с комсомольским значком на лацкане голубого пиджака. А потом меня чуть было в армию не забрали, как и Александра Петровича. Я в армию не ушел из-за обнаружения у меня недопустимо плоского по медицинским показаниям плоскостопия, усиленного кое-какими неполадками в вестибулярном аппарате, а также незнанием наизусть всех слов гимна Советского Союза. Он же туда не попал не потому что гимна не знал (он его действительно не знал), а именно потому что никто не сумел разглядеть в нем заправского советского солдата. Солдатом он не стал, как и рядовым в казенных сапогах Советской Армии. Он, в противовес стрельбам и маршировке на плацу, стал студентом. Сдав все вступительные экзамены, как он сам сказал, «интереснее всех в Москве», он стал одним из самых выдающихся студентов знаменитой московской идеологической ВПШа. До ее монументального здания в проезде им. Н.К.Крупской ходил от нашего дома по металлическим рельсам все тот же железный трамвай на электрическом ходу и с появившейся однажды плоской рекламой на крыше: «Твое будущее – в нашей сберегательной кассе!».
III.
Я уважал его знания и талант. Я к ним с потрясающей честностью относился. Однако не до такой степени, чтобы он с легкостью мог раскрутить меня на чистосердечное признание этого или, скажем, на немедленное откупоривание заначки бутылки «партийного», которую я хранил под нательным бельем в своем двустворчатом гардеробе. Это ему не всегда удавалось с тем же успехом, как и занять у меня рубля три советских денег из будущих моих строительных премиальных. Это не получалось у него прежде всего потому, что, как правило, никакой заначки ни в каком шкафу у меня не хранилось: всю выпили накануне. Он и я. Мы с ним. Оба вместе. А про три рубля денег скажу, что их у меня тоже, как правило, не было: все были потрачены и тоже накануне.
Он и в тот осенний вечер потерпел обидное фиаско при попытке убедить меня в том, что это не совсем так. Я ни за что не хотел с этим соглашаться. Я прямо так и говорил: «Ты сильно заблуждаешься, Александр Петрович!». На что он говорил: «Вот ты какая жадная скотина! Вот ты как товарища опустил!» Обиды в этих его словах никакой не было. Он просто свою догадку выразил, как теперь говорят, в политкорректной форме, наиболее совершенной в ее неподцензурных вариантах, знакомых мне по роду моей тогдашней трудовой деятельности на одной из дальних окраин Москвы. Там, мягко выражаясь, кого угодно, кроме Сергея Львовича, нашего основного начальника, могли послать, так сказать, «на хутор бабочек ловить» без точного указания пути следования на этот хутор.
А то, что своих сигарет он с собой не имел, так и то – существенная часть наших с ним вечерних посиделок. Не такая значимая, как некоторые другие. Были, можно сказать, и посущественней, и я кое-какие из них немного позже назову. Теперь же – о том, что почти полная мягкая пачка сигарет «Ява» с фильтром не являлась его достоянием, в отличие от прочих его достояний, таких же долговязых, как он сам. Больше того, была бы это не мягкая, а твердая пачка сигарет «Ява» с фильтром, которая стоила тогда на 10 копеек дороже мягкой, то и тогда бы он стал рыться в карманах сначала пальто, а затем пиджака, чтобы ее там найти, но никогда не находил. «Ну где же эти чертовые сигареты? Только что были, а теперь нет. Неужели я их на кафедре все забыл?» Я же, как сейчас помню, тогда тоже курил. Я, к сожалению, и сегодня курю, поэтому был и в тот вечер обладателем мягкой пачки «Явы» с коричневым фильтром. Проще говоря, она имелась у меня, являясь моим достоянием. Поэтому не я его, а он весь вечер с большим удовольствием курил мои сигареты, а я его не курил. А когда он у меня прямо спросил: «У тебя-то хоть есть чего-нибудь покурить? Ты какие сегодня сигареты куришь?», – я его обманывать не стал. Я, твердо решив не лгать товарищу, ему сказал, что сегодня, как и вчера, курю «Яву» с фильтром в мягкой пачке и, немного помешкав, выложил почти полную мягкую пачку на стол. Почти бесшумно легла она на твердую поверхность стола, накрытую моей вчерашней «Правдой» со всеми ее государственными орденами. Что не помешало (и, видимо, не могло помешать) нам обоим за весь вечер накурить полную комнату, и в клубах табачного дыма моя электрическая лампочка стала светить не так навязчиво, хотя и до этого светила не слишком назойливо. Должен сказать, что на другие московские огни данное обстоятельство никак не повлияло, а там кто их всех знает.
О чем говорили?
О чем только ни говорили, какие только слова ни произносили. У нас с ним всегда находились серьезные, животрепещущие темы для бесед. Обычно я был склонен к тому, чтобы рассказать во всех подробностях, как бывший полковник Сергей Львович Стёгин, главный у нас на стройплощадке геодезист и мой непосредственный начальник, очищает плавленый сырок «Дружбу» двумя пальцами от фольги: он умел это мастерски делать. Однако Александр Петрович меня в самом начале этого рассказа прерывал, не дослушав его до конца и ссылавшись на то, что хрен его знает сколько раз такое уже слышал. Я замолкал, и наша беседа тогда переходила на другую тему. Например, о том, удастся ли человечеству в конце концов хотя бы немного поправить накренившееся мироздание. Вот и в тот вечер. Я ему: «Да погоди ты, Александр Петрович, со своим мирозданием!» А он мне: «Нет, это ты со своей плавленой «Дружбой» завязывай соваться! Что это еще за херня такая! Чего ты к ней каждый вечер цепляешься! Мир в тартары летит, а ты мне про плавленую «Дружбу»! Да пусть он хоть всеми пальцами ее очищает! Пусть хоть застрелится иногда! Мне-то что до того?» Иными словами, нам с ним несколькими остроумными замечаниями перекинуться все-таки удавалось по вечерам. Значительно больше таких замечаний было с его стороны, а с моей – значительно меньше.
В процессе одного из таких разговоров как-то так получилось, что мир в тартары не улетел, но зато накурили, как я уже говорил, полную комнату. Всю заначку выпили еще кажется позавчера, а идти к соседям одалживать деньги я не очень хотел: Петру Павловичу Бахтюхову я еще с прошлого года должен был четыре рубля, а дяде Пете Сандальеву – три. Могла бы дать тетя Маша Аркадьева, но я отчего-то стеснялся у нее просить; и у Арнольда Моисеевича Галактионова, технолога по образованию, известного наличием продолговатого портрета Моцарта на стене в его комнате.
Так что после того, как я Александру Петровичу сказал, что придется, скорее всего, дожидаться моих строительных премиальных, он мне сказал, что это уже кое-что из того, что подсказывает сама жизнь во всей ее причудливой конфигурации. Она же (сказал он) намекает, что вот есть люди, которые, как я, не видят ничего вокруг, кроме себя. Страшнейшие эгоисты. А есть и не такие, как я. Это совсем другие люди. Сердцем благородные и душою чуткие. Не такие ужасающие эгоцентристы, как я. Такие, например, как он. На это я что-то ему возразил, а он закричал: «Ты дашь мне договорить или не дашь?!» Я дал. Он стал договаривать, а я, пока он договаривал, соображал, что неужели круг моего видения настолько узок, что я как эгоцентрист ничего не вижу дальше моего шкафа, а в самом крайнем случае – еще и лампочку на потолке. Вижу ли я вчерашнюю газету «Правду», расстеленную на моем столе, – также большой вопрос, хотя я ее всегда вижу, к тому же сам на стол и постелил. Мясные пельмени, всплывающие при варке в кастрюле, скорее всего, тоже не могут не оказываться в поле моего зрения. И пружинный диван с облезлой обивкой. И чьи-то огромные фиолетовые дамские панталоны, всю жизнь, сколько себя помню, сушившиеся над моей головой, в общей коммунальной кухне. Там были три газовые плиты, а на подоконнике всегда была пол-литровая бутылка подсолнечного масла, которая даже днем с трудом пропускала прохладные лучи осеннего солнца. А когда я, получив свои премиальные, использую в качестве закуски мелкие золотистые шпроты в жестяной банке, то тогда уже в его поле зрения окажутся эти золотистые шпроты, и он, чтобы подчеркнуть свое отношение к ним, обязательно должен встать и сказать: «Шпротики! Золотистые! Плотно уложены рыбехи в масле! И сколько их там, ни хера нельзя догадаться!»



