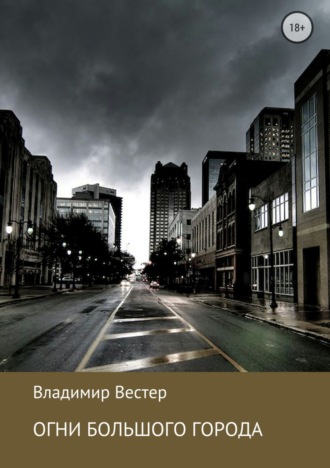 полная версия
полная версияОгни большого города
Во втором часу ночи все мои сигареты были выкурены, и он заявил, что надо бы теперь чего-нибудь поесть. Шпрот, понятное дело, в наличии не было ни одной штуки. Что же касается пельменей из теста снаружи и с чем-то внутри, то их за вечер все съели, и я, чтобы хоть тут была полная ясность, предложил ему в кастрюлю заглянуть. Он сперва категорически отказывался («не мои дела»), а затем, когда я крышку поднял, он через стол перегнулся и заглянул. После чего я понял по его выражению, что мироздание еще сильнее накренилось, и он после небольшой паузы сказал, что дело, значит, в еще более важных и существенных вещах, а не только в той пустоте, которую он увидел в кастрюле. При этом золотистые шпроты, сколько бы их ни находилось в плоской жестяной банке, всегда являются прекрасной человеческой мечтой, и мы их с ним при первой же возможности обязательно на вилку наколем, когда я, получив премиальные, щедро метну всю выпивку и закуску на свой деревянный холостяцкий стол.
– А вообще-то, ты хоть и мой друг, но вместе с тем ты очень девственный паренек, – примерно в третьем часу ночи неизвестно для чего произнес Александр Петрович. – Ты и в мироздании не очень прилично разбираешься, и в борьбе человечества за свое счастье и вполне возможное благополучие. Ты только на меня не обижайся, что я тебе такое говорю. Ты сам пойми. Ты каждый вечер живешь при свете своей электрической лампочки, в обнимку со своим деревянным шкафом, а на большее тебя не хватает, разве что каждое утро в битком набитом автобусе доезжать до этого вашего строительного пустыря. Ты там подручный этого вашего главного геодезиста, как ты говоришь, бывшего полковника бронетанковых войск в фуражке без звезды. А на кой шут сдались все эти бронетанковые войска, хотел бы я спросить у тебя, но по тебе вижу, что ты сам не знаешь, и даже я не знаю. Значит, не твоего ума это дело. И вот я гляжу на тебя, а сам думаю: бронетехника здесь вообще ни при чем, это просто молодость твоя на что-то уходит. А на что? Вижу, что сам ты не знаешь, а потому и молчишь. Между тем очевидно: она вся уходит на какую-то ерунду при нынешней власти и в разнузданных условиях осенней непогоды. Ты вечерами видишь луну, освещающую пустырь; ты видишь длинные тени на пустыре. А в лунном свете что происходит? А то и происходит, что обычная совковая лопата кажется тебе высшим достижением человеческого разума, прислоненного к задней стенке вашей строительной каптерки, а осколки разбитой бутылки блестят в пожухлой траве. Ты иногда выходишь на крыльцо этого вашего прокуренного служебного помещения. Выходишь наружу и видишь зарево огней огромной Москвы. И начальник твой тоже выходит. А чего бы ни выйти ему? Он же главный геодезист, а не бездомный барбос. И вот он выходит, но не электрическое зарево над столицей родины нашей – основной его интерес. Он – бывший армейский человек в плащ-палатке по случаю непогоды. Сильно контужен был когда-то давно и, как ты мне сказал, на Дальнем Востоке. Он уже этот плавленый сырок давно проглотил и не поперхнулся. Теперь вот стоит и курит снаружи, а не внутри. Он тебе говорит: «Завтра вам предстоит добежать с оптической астролябией до гудков на Ярославском перегоне!». И мерцает где-то вдали загадочный перегон, там же и гудки раздаются… И ты при наступлении завтрашнего дня наверняка побежишь, поскольку надо же тебе когда-нибудь получить твои премиальные в полуовальном окошке вашей строительной кассы. И ты, хоть и такой жмот, каких свет не видывал, однако по поводу получения премиальных – самый шустрый. Вижу, как ты по непролазной грязи несешься в сторону полуовального окошка вашей строительной кассы. (Он хорошо показал, как я это буду делать.) Быстрее всех ваших мужиков из вашей бригады… А как ты деньги получишь, так ты еще и какую-нибудь порядочную закуску наверняка на стол поставишь: шпротики там, говяжья колбаса, прозрачная вкусная водка, малосольные огурцы и настоящий швейцарский сыр, а не этот, мать его за ногу, плавленый. Я в этом просто убежден. Ты и на накрытую тобой поляну самого лучшего своего друга и товарища обязательно позовешь. Это уж как на нашу кафедру на трамвае не ездить. Есть между тем и более существенные вещи, хотя я не очень верю, что может быть хоть что-нибудь в этом мире порядочней настоящей выпивки и закуски. Я бы, ты знаешь, всякие такие сомнения насчет веско дернуть и тщательно закусить, будь на то моя воля, все бы на елде вертел. Хочешь покажу, как я это умею? (Я категорически отказался.) Ладно, хер с тобой, в другой раз покажу. (Я на это согласился.) Но кое-какая воля у меня все-таки есть. (Продолжал он.) Это, знаешь ли, у меня с детства где-то внутри. Ты же помнишь, как мы с тобой вместе росли, какой я был мальчуган выразительный, с какой скоростью на велике по двору гонял и руками за руль не держался… А когда мы курили с тобой крепчайшие папиросы «Байкал» у нас на пыльном чердаке? Весь чердак прокурили, а я потом зверски кашлял дня три или четыре. Поэтому я и в этот осенний вечер скажу тебе прямо: судьба каждого человека – это тебе не баран начхал. А какой ты наивный чувак и суетливый подручный, ты даже не подозреваешь. Ты не догадываешься, что свет вечерних московских огней – это дело вполне впечатляющее, хотя еще не весь мир и не все его окрестности. Огней много, а мир сложнее. А какие открытия всю жизнь поражали меня и будут еще поражать! (Тут он встал и вышел на середину комнаты.) Какие трагедии пережило все человечество! Как я с детства люблю Мэрилин Монро! Как упоительно длинными осенними вечерами поет Элвис Аарон Пресли! И до какой же степени возросло мое восхищение искусством и жизнью, когда я узнал, что скорость света проекционного луча потому такая высокая и с таким множеством мельчайших пылинок, что с 1895 года фокусируется на экране в виде голой женщины, выходящей из ванной!
Он в ту ночь долго еще не мог успокоиться, вспоминая разные случаи и открытия, и многие из них оказывались не менее сенсационными, чем эта помывшаяся женщина в 1895-м году и в голом виде запечатленная на кинопленке. Фамилию оператора он забыл и, мучительно вспоминая ее, остался ночевать у меня на моем пружинном диване и до утра ночевал на нем без «джазового» своего пиджака с видавшим виды хлястиком и мелкой искрой по всему полю. А уже утром в битком набитом автобусе я ехал на окраину Москвы, пытаясь самому себе ответить на вопрос, который мучает меня до сих пор: «Бывало ли хоть где-нибудь такое, что бы было так же захватывающе интересно, как в этих познавательных рассуждениях Александра Петровича?»
IV.
Он был прав. Честен и правдив, в подробностях и деталях описывав место моей тогдашней работы, не пропустив ни нашей душной каптерки, ни гудков на Ярославском перегоне, ни осколков бутылки в пожухлой траве. Он, правда, забыл про ближний темный лес с голосами каких-то фантастических птиц и животных, а также несколько запамятовал разместить в центре своего внимания серые хлопчатобумажные носки, сушившиеся на кривой трубе местной печки-буржуйки. Семь пар – по числу мужиков нашей бригады. Четырнадцать штук, если вспоминать поштучно. Каждый из наших мужиков был мастером своего дела. Весело и заправски каждый из них умел что-нибудь по службе отчебучить. И каждый из них по-своему умел залудить стакан «под обрез» в нашей душной каптерке, которая от этого становилась еще душней, но значительно остроумней.
А в целом – все точно и правильно. В качестве подручного главного геодезиста я там и работал, где еще не было ничего, кроме нашей каптерки. Она была тогда единственной на всем огромном пустыре. Маленькая, деревянная и одинокая, словно буй в конце купального сезона. С одним единственным окном на северо-восток. Намеревался я в ближайшее время и премиальные получить. И не где-нибудь, а там же, где и всегда, чтобы стать счастливым обладателем строительной премии в рублях, выданной мне в полуовальном окошке нашей строительной кассы, которой еще не было. Зато был забор. И не один, а два. Один, ограничивающий нашу строительную площадку, находился на севере, а другой на востоке. Были и гудки на Ярославском перегоне, а также мерцание каких-то огоньков, до которых, казалось, ни один человек не состоянии добежать. Ярким представителем неоспоримой истины являлась и совковая лопата у задней стены каптерки. Александр Петрович при всем его глубоком знании жизни и ее окрестностей не совсем точно определил мои служебные обязанности. Напомню, что я был тогда юным подручным Сергея Львовича, то есть нашего главного геодезиста. В моем ведении находился единственный геодезический инструмент – астролябия. Что это такое и как этим пользоваться, я забыл навсегда. Однако помню, что даже при советской власти добежать с астролябией до гудков на Ярославском перегоне ни одному подручному не удавалось, и мой начальник при всей его армейской закалке что-либо подобное мне мог бы приказать, но отчего-то всякий раз мешкал и не приказывал. Наверное, потому, что в мою обязанность это могло бы войти, но, видимо, не входило.
Моей служебной обязанностью было нечто совсем другое. Точнее сказать не могу – снова память подводит. Но, кажется, хотя бы раз в день в мою обязанность входило добегать с оптической астролябией до одного из заборов. Ни до одного из них я ни разу не добежал: грязь на площадке была такая грязная, а сама площадка такая необозримая, что я боялся потерять свой ботинок в грязи, да и кепку ветром тоже могло сдуть. Совковая же лопата время от времени оказывалась в деле как (товарищ верно заметил) «полезное достижение человеческого разума». С ее помощью мужики из нашей бригады с матом и прибаутками одну траншею собирались вырыть, а еще одну намеревались зарыть не без мата и прибауток. Захватывающе интересной представлялась мне и ситуация с длинным железным гвоздодером, принадлежавшим, по некоторым данным, двоим нашим плотникам, Смирнову и Кузякину. Этот их гвоздодер куда-то постоянно пропадал также с неподцензурными прибаутками. Правда, мой непосредственный начальник, то есть Сергей Львович, никогда не ругал за эту пропажу ни советскую власть, ни ее внешнюю политику. По случаю с гвоздодером он и на внутреннюю политику редко ополчался. Он чаще всего за это пропажу сначала с гневом обрушивался на Смирнова вместе с Кузякиным, а затем на чем свет стоит поносил всю бригаду. Но, видимо, зря. Гвоздодер даже при самой тщательной организации поиска отчего-то ниоткуда не имел привычки появляться, и Сергей Львович переходил тогда к описанию того, что в будущем должно появиться на нашей строительной площадке. Это будет самое высокое здание в истории человечества. Не меньше 999 этажей. И самое передовое. И самое оснащенное. И самое удобное. С горельефами, шпилями, всеми удобствами, современнейшей утварью и мемориальной доской с именами всех, кто принимал участие в его создании. Я был наивен тогда, что же делать. Я пробовал, но ничего не получалось у меня, и, несмотря все свои попытки, я совершенно не представлял себе, когда состоится введение такого многоэтажного здания в строй действующих, и какой сводный оркестр с трубами и барабанами привезут на открытие. Приедут ли вместе с оркестром известные советские певцы? Поэтому я старался чаще находиться в нашей душной каптерке на промасленных телогрейках, чем снаружи, где шел дождь со снегом, а когда переставал идти, то тогда осколки бутылки блестели при свете луны. Тут открывалась дверь. Сергей Львович в своей фуражке без звезды не сразу входил в каптерку и не сразу заставал меня в ней. Он только потом, когда входил, в ней меня почти что сразу заставал. Он, застав меня в ней, вскоре понимал, что это я, в связи с чем говорил: «Кончайте вы тут рожу мять об казенные телогрейки, японский городовой!» В результате нескольких уточнений выяснялось, что рожи никакой я ни об какие телогрейки не мну, а городовой относится к Стране восходящего солнца, но никак не ко мне. Убедившись, что такое положение вещей реально, зримо и неоспоримо, Сергей Львович садился рядом со мной и, достав из кармана гимнастерки плавленый сырок «Дружбу», принимался двумя пальцами очищать его от фольги.
V.
С кое-какими издержками оказались учтенными многие необходимые подробности, в том числе и существенная разница между подручным геодезиста в матерчатой кепке и блестящим студентом ВПШа в фетровой шляпе. К этому могу добавить то, что уже добавлял: мы были друзья закадычные, но очень разные в отношении всего, что нас окружало, хотя и выросли оба в одном и том же квадратном московском дворе, где в детстве любили и на велике прокатиться, и помойку поджечь, и пыльный чердак прокурить, и побаловаться с длинным и черным дворницким шлангом: ногами зажать, а затем отпустить. Отсюда и пошло это знаменитое выражение «политый поливальщик». В отношении Матвея Борисыча, нашего дворника. Много раз гонялся Борисыч за нами по всему двору, но никого из нас ни разу не поймал.
Вход во двор был не совсем там, где был выход. Вход был со стороны чугунной ограды бульвара, а выход находился неподалеку от бронзового памятника автору «Пира во время чумы», с цилиндром в руке. С одной стороны входишь, а с другой выходишь. Или наоборот. Это замечательно во всех смыслах. Это ведь рядом с нами и бульвар великий, и памятник великий, и автор, кому этот памятник, тем паче великий. А при наличии ближней к нашему дому государственной бакалеи – все еще замечательней. В Москве (и вне Москвы) – один-единственный такой поэтический монумент, а бакалея – не такая уж и единственная. В Москве – сотни бакалей. Но только одна находилась неподалеку от памятника великому автору. Эту бакалею хорошо помнят самые выдающиеся ветераны столичной Москвы. Но еще лучше – все наши центровые ребята, некоторые из которых живы и теперь. В наше с Александром Петровичем время ее называли «Гастрономом “У летчиков”». Там, если кто помнит, никто никогда не видел ни одного летчика. Название восходит не к этим героическим людям, летающим высоко в небе на крылатых машинах с мотором. Правда, однажды, еще до войны, в этой бакалее покупал макароны знаменитый советский летчик-испытатель Валерий Чкалов. Отсюда, скорее всего, и название. Теперь же у входа в этот гастроном стояли какие-то трое «ветеранов Манхеттенского проекта» в обвислых пальто и социалистических галошах на босую ногу. Их судьбы тоже уникальны, но не об этом речь. Совсем не об этом. Речь, скорее всего, о том, что когда-то в «У летчиках» бумажные чеки с треском выбивали механические кассовые аппараты «Феликс» с «заводной ручкой», и работала там кассиршей, если не ошибаюсь, несколько слишком упитанная Мормыхина Людмила Павловна, жгучая брюнетка с ярко-красными губами. С ней у Александра Петровича связи никогда никакой не было. Как и заметного превосходства над всей системой советской торговли. Его у него тоже не было. А вот если он возвращался ко мне по вечерам с кафедры малоизученных страниц марксизма-ленинизма, которой заведовал известнейший в те времена профессор Дроцкий, невысокий дядя лет пятидесяти, в бинокулярных очках, то ни о каком «наличии превосходства» Александр Петрович не говорил вообще. Либо говорил, но не очень возвышенно, употребляя свои излюбленные обороты вполне себе уличного происхождения и предполагая сенсационный завоз сушеной воблы в мешках в ту же самую бакалею: один мешок в одни руки. С применением конной милиции в качестве охраны возможной давки.
Он и о ближайшем будущем, до которого ни один конный милиционер не собирался доскакивать, тоже говорил. Не в смысле отпуска в руки потребителя мешка с соленой рыбой, а преимущественно как о близком времени выдачи мне моих денежных премиальных. Выдача должна была произойти в ближайшее время там же, где намечалось: в полуовальном окошке нашей строительной кассе, однако из-за непогоды, должно быть, откладывалась. Поэтому Александр Петрович и о настоящем не упускал возможности что-нибудь не менее «премиальное» добавить. Как о периоде всемирной истории, когда еще не выдали никаких денег ни в каком окошке. О том, что выдадут их не раньше ближайшего будущего, с его стороны не было и намека, кроме: «А ты жди дольше!» Тут он, как правило, очень расстраивался и от расстройства куда-то уходил, но быстро возвращался и в период полета его шляпы через всю комнату кричал: «Авось ты дождешься! И я с тобою вместе!» Он всегда подчеркивал важность этого замечания, прямо указывая на то, что ближайшее будущее наступит в ближайшее время. Во время наших вечерних посиделок он это знал почти наверняка. Превосходно предчувствовал. И тогда уж точно победим не только мы, но и самые проворные силы общественного оптимизма, хотя и не раньше следующего века. Это произойдет обязательно. Тем более что об этом и профессор Дроцкий у них на кафедре веско и доказательно говорил, а он-то уж знал, ему ли не знать. Все ж таки невысокий дядя в бинокулярных очках. Один из крупнейших в СССР знатоков малоизвестных страниц марксизма-ленинизма.
И я про это тоже что-то думал. Но чаще ничего не думал. Какой еще следующий век? До него еще вон сколько! Вон какие события должны состояться! Мне-то что до них? Ну, состоятся; ну, рванет прогресс по всем направлениям. Но мне-то он на кой черт сдался? Тут бы хоть в ХХ-ом немного денег получить и на радостях пару раз растянуть резиновый эспандер на заре. И чтобы в коммунальной уборной никто газету не читал. Вот тогда и победят самые проворные силы мои, а не общественного оптимизма.
VI.
…Опять был давний осенний вечер. Мокрые деревья с последними листьями на темных ветвях. Зонты, плащи, люди, городской транспорт. За окном зажглись многочисленные фонари. Мне казалось, что мой товарищ при всей его неоднозначности похож на скромное порождение света этих фонарей. Есть и отблески их на полях его шляпы. Сам я в своей матерчатой кепке так бы представиться ни за что не сумел. Простенький рабочий паренек. Что с меня взять? Какие тут отблески фонарей? Но и грешить на то, что в то далекое время я был немножко юный пионер, я бы не стал. Зачем такое вешать на себя! Просто душа моя привыкла трястись в переполненном автобусе, а затем отдыхать на промасленных телогрейках. Под влиянием мыслей и рассуждений друга моего и товарища.
Впрочем, на телогрейках душа моя отдыхала, однако в себя не всегда приходила. Это я несколько предвосхитил. Желание было, а результата желанного не было. Кололо что-то внутри. Тревожило что-то меня как в небольшом служебном помещении, так и за его пределами, на всем окраинном пустыре. К тому же в самый разгар рабочего дня на дальней столичной окраине скрипели дверные петли, откуда-то доносились гудки, и видел я не моего товарища при свете электрической лампочки, а более взрослого и крупного Сергея Львовича Стёгина в армейской фуражке без звезды. Помимо фуражки, Сергей Львович был в накинутой на плечи плащ-палатке, но без кожаной кобуры на боку. Сколько времени он из-за бушевавшей снаружи непогоды просидел в душной каптерке, я сказать не могу, но обязан уточнить, что никаких пожелтевших фотографий он из нагрудного кармана не вынимал, ничего о них не говорил и никак подробностей не вспоминал. А вот плавленый сырок «Дружбу» от фольги он двумя пальцами, кажется, очищал. Очистив его и проглотив его весь, бывший полковник выходил из каптерки, чтобы, наверное, кое-что разузнать как об этом будущем величественном здании со всем его внутренним оборудованием, неизвестными жильцами и мемориальной доской на фасаде. И снова слышал я голос товарища. Он только что из большой Москвы пришел ко мне. Он пришел навестить меня в вечернее время суток. И голос его до меня доносился тогда и снова доносится теперь сквозь шум и грохот десятилетий. Вот что важно отметить, а еще важнее об этом сказать. Ради справедливости и ее повсеместного торжества.
VII.
У каждого человека его странный всплеск воображения где-то внутри, но в каком именно месте, не скажу. Верно это и в наши всклокоченные дни, когда многие объяснения моего друга и товарища несколько поистлели в моей скромной памяти. Те же, которые не истлели, – те по-прежнему где-то рядом. И когда мне хочется их услышать, я их слышу, а когда не хочется, тоже слышу и всякий раз с тем же недоумением, что и тогда.
Ради торжества той же справедливости должен сказать я и то, что ни до одного из заборов я по-прежнему не добегал: ни на севере, ни на востоке. Никак не мог заставить себя. Выгляну из каптерки, а снаружи какой-либо дождик со снегом. Гудки на Ярославском перегоне. Животные в лесу кричат своими фантастическими голосами. Куда же я побегу? Для чего? Бывший полковник чуть поодаль от меня. Он сидит и, должно быть, о чем-то мечтает: по лицу видно. Быть может, о чем-то грандиозном, о чем-то мемориальном, о чем-то многоэтажном. Но это ведь его мечта, а не моя. Игра воображения бывшего военного командира, контуженного лет тридцать пять назад где-то на Дальнем Востоке в период сражения с японскими захватчиками.
Другое дело – мой ламповый радиоприемник, передававший самую лучшую музыку отечественных и зарубежных композиторов в домашнем тепле на 3-ем этаже. Джаз, рок-н-ролл, буги-вуги, твист, наиболее популярные песни протеста. Это нам с Александром Петровичем удавалось послушать. Как мне, так и ему. Сидим с ним и слушаем. Вместе с другом. Я и товарищ. Он тут, и я тут. Курим. Давно уже ночь в столице. Всю еду съели. Он мне говорит: «Прекрасно поют эти талантливые негры на английском языке, так и хочется перевести на русский! Но ты-то ведь все равно ни хера не поймешь!» И я понимаю, что снова он прав. Он, а не я. А вокруг – все по-прежнему. Мой гардероб неподалеку от Александра Петровича, а заначка «партийного» в узкой тьме его не покоится: всю выпили еще, наверное, вчера при далеком бое курантов за окном. Случилось это, стоит напомнить, не где-нибудь там, где никогда такого не случалось, а именно здесь, в моем двенадцатиметровом жилом помещении с советской ламповой радиолой «Днепр» и фикусом на подоконнике, вчерашней газетой «Правда» на столе. Александр Петрович, поставив локти на стол, сидел как раз вон на том стуле, а я вот на этом, и тоже поставив локти на стол. Музыка. Он – напротив меня, я – напротив него.
А чтобы нечто неожиданное про наш большой город сказать, то ничего такого ни разу между нами не было. Разное было, а это как-то мимо пронеслось. Ни слова не произнесли ни по снабжению города электроэнергией, ни по завозу предметов повседневного спроса в столичные магазины. Наш город и для всего остального слишком был огромный и непознаваемый. Кто же знает, когда, чего и куда завезут? Про ту же самую сушеную воблу в мешках и то никто ничего не знает. Да и огней, стоит заметить, в нашем городе столько, что даже подумать нечто обратное о нем слишком опрометчиво.
Навалом в Москве и других питейных заведений, помимо моей комнаты в общей квартире с досчатым коридором и огромными влажными панталонами на веревке в общей коммунальной кухне. Название все известные, неоднократно обнародованные: «Джульбарс» и «Наири», «Красные паруса» и «Огни Москвы», «Большой привет» и «Белый ветер»… В них мы с товарищем не так часто бываем, но все-таки бываем иногда, хотя и не в них, а просто у меня.
И ресторан «Прага». Один из самых старинных, крупных, больших, посещаемых, крутых, модных и знаменитых в Москве. Весь изнутри позолоченный и светлый, как майский рассвет. Там мы с Александром Петровичем ни разу еще не были. Ни он, ни я. Однажды он пообещал меня туда пригласить. Под приятную музыку по моему лаповому радиоприемнику на электрических конденсаторах он мне сказал: «Ты вот как свои премиальные деньги получишь, так я тебя сразу на третий этаж ресторана «Прага» приглашу. Во-первых, будет чем расплатиться. Во-вторых, ты сам увидишь, какие там женщины и какая еда! Ты мне потом еще спасибо скажешь, что я тебя не обошел своим приглашением».
Таким образом, все это и должно было состояться. Грандиозно и тщательно манили нас все эти заведения при всем их столичном блеске, яркости люстр, вышколенности гардеробщиков, мраморе лестниц, богатстве меню и величии зеркал. И все они были значительно более общественные, чем скромная площадь моего проживания. В ней мы с товарищем почти всегда вдвоем в наши давние осенние вечера, а там людей в сотни раз больше, чем в прокуренной строительной каптерке. В этих общечеловеческих заведениях всегда многолюдно. И какие-нибудь члены общества действительно поют, а иногда и танцуют (не без женщин). Все они – такие же непохожие друг на друга парни и мужики, как они же в метрополитене, на уличном тротуаре, в кинотеатре или в ближайшей бакалее. А то, что их всех объединяет, – черт знает что такое. Это, наверное, какой-нибудь «странный всплеск воображения», о котором говорил Александр Петрович, пытаясь совместить несовместимое и доказать недоказуемое.
Возможно, годы пройдут. Век следующий в нашей жизни наступит. И что-то с чем-то совместится, сцепится, слюбится. Пиво станет вкуснее, и сушеную воблу в мешках завезут. Так и случилось. И пиво стало вкуснее, и воблу круглые сутки завозят. А вот надежда как-то угасла. Это разве нужно доказывать? Скорость же проекционного луча и в конце девятнадцатого века представлялась мне такой же высокой, как и почти сто лет спустя при советской власти: шутка ли – 300 тысяч километров секунду! Это вам, знаете ли, как сказал бы Александр Петрович, не баран начхал. Почти что в полной неприкосновенности и мелькание мельчайших пылинок на всем протяжении этого луча. Люди в кинотеатрах чихают и кашляют, волнуются и переживают. Значит, им эти пылинки и в рот и в нос попадают. Отсюда и реакция. Правда, вот эта голая брюнетка после помывки еще на заре кинематографа куда-то подевалась через 58 секунд после начала демонстрации. Поэтому трудно сказать, каким образом за такое короткое время ей удалось сыграть такую заметную роль в догадках товарища.

