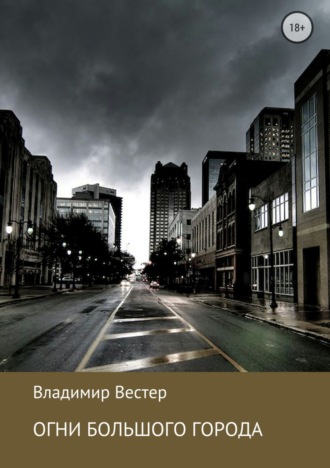 полная версия
полная версияОгни большого города
В газетах и в журналах, на радио и в телевизионных передачах, в виде образов на киноэкране – повсюду отголоски похожих догадок, которые не только слышал я в жилом своем помещении, но и видел на значительном расстоянии от моей комнаты. Удивляться такому эффекту не очень хотелось. Что же тут удивительного? Почва и в той осенней Москве была для всего благоприятной. Слетали листья с деревьев, все реже встречались на бульварных скамейках разговорчивые центровые алкаши в галошах на босую ногу, и никакая окружающая «затхлость», никакой советский тоталитаризм не силах были повлиять на то, что с наступлением весны те же самые алкаши вернутся на те же скамейки и в тех же галошах. Не говоря уж о том, что и сам Александр Петрович без своего длинного пальто и шляпы с отблесками на широких влажных полях на улице не покажется. Что и бывало тоже часто, а особенно с такими непредсказуемыми людьми в нашей необозримой Москве, подсвеченной по вечерам многочисленными фонарями. И необычайно раннее полнолуние, наступившее в последней декаде октября того же года, некоторое время скромно освещало не только Александра Петровича, но и мою заставленную комнату, и я, должно быть, с целью экономии свою электрическую лампочку позже зажег. Где-то милиционер пронзительно свистнул. И вчерашняя «Правда» на моем столе, и два граненых на этой вчерашней «Правде», самой газетной газетой нашего советского прошлого. С главными государственными орденами и прямоугольной передовой статьей об освоении бескрайних пустырей в какой-нибудь необозримой области.
VIII.
Необозримо по смыслу, по эмоциям, по антуражу, по фантазиям все, чем мы жили тогда, а также и то, чем мы не жили никогда. Тем не менее веселой, смелой, отважной и задорной жизни всегда было много, что же скрывать. А как это более подробно объяснить, я не знаю. Я только знаю, что не одними только окраинными пустырями или баночными шпротами жив современный человек. Шкаф-то мой – еще туда-сюда, особенно, если обе его створки пошире распахнуть, однако даже мясными пельменями дело ни в коем случае не исчерпывается. И лампочкой на потолке. И вообще: «Живем мы только раз, но для чего, мало кто знает», – в разгар очередной нашей вечеринки утверждал Александр Петрович, поправляя свой широкий галстук в кривых фиолетовых огурцах. Я его спрашивал, считает ли он себя входящим в немногочисленную бригаду знающих. «Ладно бы я, – говорил я. – Я все-таки каждый день вижу носки на изогнутой трубе и слышу гудки на перегоне. Но ты-то хоть входишь в эту бригаду?» Он отвечал: «Ты понимаешь, я бы сам очень хотел бы в ней оказаться; прямо весь такой, какой есть: в пальто и в шляпе. Но вот беда: пока еще в дверях застрял». И уже далеко за полночь признавался, что вот он теперь сидит у меня без всякого важного дела, и кастрюля пустая, и тени странные под столом, тогда как сам бы давно уже лично не отказался постоять в одиночестве у гранитного парапета на Большом Каменном мосту.
Не знаю, для чего это нужно было ему, чтобы в длинном пальто, шляпе и нитяных перчатках идти на мост и там стоять у парапета. Умные люди чего только не вообразят. Он же, чтобы исключить более пристальное разбирательство, отзывался: «Ты сам представь: я, мост и ветер. Каково?» Я пытался такое представить, но ничего не выходило. Я и склонности его при всем желании не мог разделить: своего ветра хватало. Он говорил: «Когда вода темная, рябая, и в эту рябую воду фонари опрокинуты, как-то лучше понимаешь, кто ты есть такой на самом деле». Дальше он считал для себя возможным не продолжать, из-за этого заметно скучнел, а я у себя в комнате без всякой надежды на успех пробовал сообразить, кто я есть такой на самом деле, а не только он.
IX.
В конце той же осени вышла в свет книга об одном латиноамериканском полковнике. Этот полковник, стоя у стены, за несколько минут до расстрела вспомнил, как в детстве отец повел его посмотреть на куски замершей воды, то есть на лед. Полковника в связи с его дальнейшей повстанческой деятельностью не расстреляли, хотя раз сто собирались, почти ежегодно. Зато их всех, кто собирался в него смертельно пальнуть из длинной винтовки, смыл многолетний латиноамериканский дождь стеной. После чего начались такие приключения, которых хватило на весь ХХ век и кое-что еще осталось.
Книгу про многолетний дождь, латиноамериканского полковника и приключения в каких-то непроходимых кущах в двенадцати тысячах километрах от Москвы Александр Петрович прочитал несколько раз. Несколько раз с самого начала и несколько раз до самого конца. Он и другие книги тоже читал, но эту особенно пристально. Потом сидели у меня. Оба. Он мне, когда мы снова на разных стульях сидели, сказал: «Ты знаешь, я своего отца плохо помню. Он, помню, был такой же высокий, как я, и брился безопасной бритвой в той комнате, где теперь мама на машинке печатает; песенку еще какую-то напевал… А из той давней командировки назад так и не вернулся. В железном вагоне уехал, а назад не приехал. Тогда еще все составы огромные паровозы тянули на угольном ходу… Поэтому на лед он меня смотреть не водил. Меня мать однажды собиралась повести посмотреть на дождь, но я его уже и сам видел».
Это и кое-что из других его личных воспоминаний подходило для внесения творческого разнообразия в наши посиделки, а кое-что не совсем. Какие посиделки, такое и разнообразие. Опять не берусь утверждать, что так все и было на самом деле. Кое-что было, а чего-то не было. При этом само его появление не всегда, однако все же иногда годилось для того, чтобы творчески разнообразить многое из того, что нас окружало. Не всю Москву, это уж слишком, но хотя бы небольшую районную часть. Бакалею, трамвайные рельсы, сквер, подворотню. Или вот какие-либо новые уточнения с его стороны. Не по шкафу (его уже почти проехали), а по зажатому и отпущенному дворницкому шлангу, или о возникновении сексуального любопытства в начальный период формирования Александра Петровича как танцора в ближайшем тенистом саду. Он возмужал с тех пор. Стал носить свой пиджак с мелкой искрой на подкладке, и творческие его склонности получили дальнейшее развитие. А когда он стал студентом ВПШа, то тогда кое-что стало подходить и для его будущего блестящего реферата по повседневному коммунизму, обещанного еще в позапрошлом году заведующему кафедрой, профессору Дроцкому.
Этого реферата в его окончательном варианте я никогда не видел, как и в неокончательном. Я и этого профессора тоже никогда не видел. Однако после того, как мы опять накурили полную комнату, и мне о нем рассказал Александр Петрович, возникло у меня подозрение, что это именно он. Тот самый профессор, который с мелкой перхотью на черном пиджаке и с такой любовью докторскую колбасу тонко режет на свежей газете. Он, впрочем, не какой-нибудь заурядный кафедральный коммунист. Зачем держать его за него? Нет, он совсем, совсем, совсем не заурядный, но очень кафедральный. Он знает почти наизусть почти всего Фридриха Энгельса, в связи с чем и есть самый настоящий ученый из всех, какие только имели свойство обнаруживаться в вечерних рассказах моего товарища. Ростом он почти на голову ниже Александра Петровича, а сам Александр Петрович почти на голову выше Дроцкого. Кроме этого, Дроцкий – профессор очень подвижный, выдающийся, рьяный и лет ему примерно за пятьдесят. В бинокулярных очках. И всё в том же духе. Вплоть до «непримиримой критики империализма и его человеконенавистнической идеологии, от которой все у нашего профессора сотрясается вместе с очками на лице и пластмассовой расческой в нагрудном кармане».
Я не представлял, как такое возможно. Как это может быть, чтобы заслуженный доктор наук, заведующий кафедрой малоизвестных страниц марксизма-ленинизма, сотрясался вместе с расческой в нагрудном кармане! Однако понимал, что Александр Петрович профессора Дроцкого уважает примерно так, как я Сергея Львовича, когда тот мне говорит: «Кончайте вы тут рожу мять об промасленные телогрейки!» Парень все-таки по характеру не очень простой; едкий, можно сказать, паренек, спуску никому не давал. Поэтому он, когда у меня не слишком долго засиживался, надевал утром свой «джазовый» пиджак с видавшим виды хлястиком, доезжал в нем до ВПШа на железном трамвае, а затем уверенно входил в тяжелые двери высшего учебного заведения. И после того, как эти тяжелые двери впускали его внутрь, он и оказывался внутри, а затем пешком, в своих больших ботинках прямо по центральной лестнице поднимался на кафедру и там почти ежедневно спорил с профессором по каждому поводу среди кафедральных пыльных вершин.
Он не был во всем убежден. Ни в чем и никогда. То есть, конечно, убежден-то он был почти что во всем и всегда, но не совсем так, как профессор. Тот – горячий сторонник исторического материализма, и нет в нем места ни для какой такой знаменитой блондинки, как, например, Норма Джин Бейкер Мортинсон. А мой товарищ – не менее горячий сторонник своего фантастического субъективизма, и в нем такой знаменитой блондинке, как Норма Джин Бейкер Мортинсон, самое место. Она же ведь, в конце концов, известна всему человечеству как самая печальная в мире Мэрилин Монро на всей трехмерной плоскости мирового киноэкрана. Она по жизни то ли была, то ли не была любовницей Джона Ф.Кеннеди, застреленного, как известно, из оптической винтовки в Далласе в 1963-м. Да и сама она за год до этого скончалась от психотропной передозировки у себя на калифорнийской вилле… И вот как раз на эту очень известную американскую молодую женщину, по образному выражению Александра Петровича, «твердо, как нога табуретки», стоял у него еще в пятом классе средней общеобразовательной школы: особенно сильно на уроках физической географии. Я с этим соглашался, и он меня называл почему-то Миклухо-Маклаем, а потом уточнял, что эту белокурую женщину он не мог не назвать. Образ ее для него как раз именно с 5-го класса средней общеобразовательной школы, с той, единственной в советском прокате, кинокартины про гангстеров, джаз и бутлегеров, настолько свеж и привлекателен, что он, мечтательно глядя в окно на зажигавшийся всеми огнями огромный город, готов подробно описать ее макияж, цвет волос, привычки, верхнюю одежду, нижнюю одежду и особенно заостриться на изогнутом саксофоне, отнеся и его к «изыскам мирового кинематографа», а никак не столичного климата, умеренную континентальность которого он страстно не выносил, но принимал в качестве неизбежности его московской судьбы.
А для того, чтобы хоть что-нибудь из задуманного состоялось, не нужно, в сущности, ничего. Совсем ничего. Кроме, может быть, моей прокуренной комнаты и наших посиделок иногда до рассвета. Вполне достаточно. А если к этому добавить еще и то, чтобы уже сегодня самая свободная свобода взяла верх, то этого уж точно должно на все хватить. «Я, знаешь ли, убежденный сторонник того, чтобы вершиной жизни была именно такая свобода, а особенно творчества. Ради этого она тогда еще, на заре кинематографа, без трусов и выходила из ванной!» Он, бывало, появится в своем распахнутом пальто, в той же шляпе, такой же рослый и умный, как всегда, и что-нибудь подобное скажет. А потом еще раз.
Х.
Были с его стороны и разные другие рассуждения: это ведь я чаще молчал, а он чаще говорил. К примеру, о том, что практически все применимо как на страницах будущей его научно-просветительской работы, так и во всей нашей жизни, в том числе и наш строительный пустырь с носками на теплой казенной трубе. Я тут же как патриот пустыря собирался его поддержать. Всей душой готов был ринуться на поддержку. Но подходящих слов не находил и слышал только гудки на Ярославском перегоне. И тут же – скрип петель двери каптерки, фуражка без звезды, и давнишний полковник, и навязчивая рифма с стороны товарища, вроде «джаз-продаст». Он ее бог весть откуда взял, но как-то раз буквально пропел во втором часу ночи с такой силой и таким вдохновением, что соседям моим не очень понравилось. Ах, какая была запоздалая рифма, дополненная мелодичном треском маракас и хриплым голосом изогнутого саксофона! И легендой о том, как Валерий Чкалов еще до войны в нашем центровом «У летчиков» длинные мучные макароны покупал! Из-за этого даже мой сосед, Арнольд Моисеевич, технолог по специальности, среди ночи у себя в комнате проснулся и сказал: «Ребята еще молодые, а уже так хорошо жизнь знают. Но не пора ли и этим ребятам хотя бы немного поспать?»
Как нельзя лучше в те же осенние дни вспоминалась и наша детская игра в «политого поливальщика», и как мы с ним в ноябрьской утренней темноте встречали краснозведные танки, а потом то ли я ему, то ли он мне иглой от круглого значка «Москва – пяти морей великий порт» проколол воздушный синий шар, с внятным хлопком распавшийся на тонкие ошметки того же цвета.
Были среди наших дружеских тем и снабжение города электричеством, и золотистые шпроты в масле, сколько бы ни было их в плоской жестяной банке, а также медикаментозная передозировка на вилле под Лос-Анджелесом. И «чего-нибудь покурить». И давняя стрельба по президенту Джону Ф. Кеннеди. И стопроцентное неустановление личности того, кто же все-таки стрелял в него из винтовки с оптическим прицелом. Неужели и этот стрелявший тоже был когда-то членом ВКП(б)?! И утром ехал я к нам на пустырь, пытаясь по дороге разобраться: «Товарищ зачем такое сказал при мне на всю комнату и в результате никуда из комнаты не вышел, оставшись у меня ночевать без, слва богу, верхней одежды?»
Намеревался ли Александр Петрович в результате постоянной творческой работы добраться до вершин воображения, вставив рефреном в свой письменный труд эту безымянно помывшуюся в 1895-м году? Собирался ли он показать всю эту давнишнюю купальщицу в ее черно-белом абсурдном величии, мерцании старинных кинокадров, изыске талантливой режиссуры, заветной трескотне несовершенной кинопроекционной установки? Ведь в конце концов могла бы получиться великолепная история об всем, что с нами происходило в преддверии конца ХХ века и начала ХХI. Тем более что, в отличие от профессора, он полагал, что все возможно не только в нашей огромной вечерней Москве, а вообще где бы то ни было. От американских морей до советских полей. От китайских угодий до эстрадных пародий. При этом такая утренняя эрекция, такой силы и энергии, может быть только у него. И такие выразительные сновидения с участием Нормы Джин Бейкер и ее изогнутого саксофона, с которым она, совершенно без всего на голом теле, выходила из ванной комнаты, но уже при более совершенном оборудовании киносъемок. Что существенно отличало ее от той брюнетки из 1895 года, помывшейся при треске старинной кинопроекционной установки.
Более того: его выдающийся реферат способен был даже когда-нибудь стать не просто рукописным творением друга моего в длинном пальто отечественного пошива, а книгой в твердом, словно дверь, переплете. Белые страницы, черный шрифт, отменный корешок, цветной всплеск воображения, толпы и толпы читателей. Такое при нынешней советской власти, конечно, вряд ли возможно, а вот в ближайшем ХХI веке очень даже может быть. Он-то уж точно (кричал мой товарищ) наступит следом за ХХ, как бы кто ни упирался! В такое надо только верить, и на этом сложнейшем пути никогда не сдаваться. Разве что у лучшего друга на 3-ем этаже по паре граненых жахнуть вечерком и, если сильно с его пустырными премиальными подфартит, мелкими золотистыми шпротами закусить, чтобы к утру мысли стали ясней и прозрачней.
XI.
Для размещения на тех же «страницах былого» годились и разные другие фрагменты, представлявшие собой неоспоримые факты совмещения несовместимого и объяснения необъяснимого. Нельзя же в самом деле все совместить и все объяснить. Как меня в моей кепке, так и его в его шляпе. И эту чистоплотную женщину особенно трудно совместить с нашим повседневным коммунизмом, о котором я знать ничего не знал и по сей день не знаю. Думаю, что и совмещение с нашим сегодняшним капитализмом тоже вряд ли возможно. Я, конечно, может, и подручный геодезиста. Это точно. И в битком набитом автобусе я тоже пассажир. Но не совсем же юный пионер. Я много и трудно работаю. Я под вечер очень зверски устаю. Но никогда я не был против всяких таких рефератов, а тем более когда автор – мой лучший друг и товарищ с самого нашего «босоногого детства». Нет в мире ничего более стоящего, более настоящего, более примечательного, чем наша с ним многолетняя дружба. Святы и неоспоримы воспоминания о том, как мы в детстве курили с ним на чердаке, а внизу кто-то кричал: «Я вот тебе сейчас наступлю на мой черный шланг!».
А чтобы меня показать поясней и прозрачней в своем выдающемся реферате, так это он тоже предполагал: «Ты бы разок пошел и сфотографировался на всякий случай». – «С плюшевым мишкой?» – спросил я. – «Нет, с совковой лопатой». Я сфотографировался в своей кепке, но без лопаты. Он сказал: «Ты не мог, что ли, фэйс свой поумнее сделать?» Два дня затем он с увлечением писал свое сочинение у себя на 6-м этаже и даже на кафедру не ездил; потом у меня в комнате появился и сообщил: «Не получается пока никуда тебя вставить. Весь ваш пустырь получается, а ты нет. Луна во всю светит, а тебя опять нет. Промасленные телогрейки существуют в вашей каптерке, а тебя на них отчего-то не видно. Один только лес какой-то вдали, и совковая лопата у дальней стены… Я вот поэтому ничего не могу пока сделать. Я сижу и пишу, а мама за полинялой шторой на своей машинке печатает. Она, значит, печатает, и машинка честно трещит, а я сам думаю: “На кой черт ты в реферате сдался? Тебя и в твоей комнате вполне достаточно”».
Вместе с тем он был убежден: нельзя ничего пропускать, а уж тем более искажать. Ни своих мысли, ни своих желаний, ни торжества эпохи. Почему? Потому что время такое. Трамвай, предположим, железный, так и надо писать: «железный трамвай». Коммунистический лозунг, обвитый бумажными цветами, едет куда-то на велосипедных колесах, в связи с чем и над писать: «коммунистический лозунг едет куда-то на велосипедных колесах». Наш гастроном так и называется «У летчиков», поэтому так и надо писать: «наш гастроном «У летчиков». А что касается Пушкина, то он и есть Пушкин, и можно, значит, о нем ничего не писать: все уже написано, прежде всего, самим Пушкиным. Или вот идем мы с ним на танцы нашей юности: он впереди, я сзади. Оба в красивых расклешенных брюках. Весна; запахи такие, что закачаешься. И музыка за деревьями. Сцена. Парень в голубом пиджаке, как у Элвиса Пресли, но с комсомольским значком. Значит, необходимо и его подробно изобразить, а также того усатого барабанщика, который на танцах нашей юности обеими руками стучал по большому фибровому чемодану.
XII.
…Пело радио. Те же отблески на той же шляпе. Будто частично вечерний город в дверном проеме показался. Персонифицировано. Он говорит: «В Москве уж все огни зажглись! Был сегодня на мосту и сам видел, обе руки положив на парапет». Я посмотрел в окно: да, похоже, что зажглись. «А у нас снова с тобой ни твоих премиальных, ни капли за душой!» – добавил он к огням. Пришлось мне со всеми сомнениями завязать и, несмотря на усталость, идти к Арнольду Моисеевичу Галактионову, технологу по профессии, – деньги занимать; а после – к нашим к «У летчикам». У Арнольда Моисеевича был овальный портрет Моцарта на стене. А черно-белая, как немой кинематограф, кошка была очень длинной. Она лежала вдоль всего подоконника и смотрела на меня с подозрительностью постороннего существа, знающего, о чем надо сказать, а о чем промолчать.
Да что там длинная кошка технолога Арнольда Моисеевича! Какой там овальный Моцарт на стене! Александр Петрович, когда о чем-то рассказывал, был во много раз выразительней не только моего шкафа, но и моей вчерашней «Правды» со всеми ее орденами. И по количеству слов значительно опережал Сергея Львовича, который из-за давней контузии был не самый большой любитель произносить какие-либо слова. Но иногда и он так много говорил и с такими подробностями, что я начинал путаться, кто из них дольше и больше говорит. Не далее как дня два назад он из-за ненастья за стеной каптерки стал еще более подробно разносить всю бригаду за ее неспособность грамотно вырыть траншею с запада на восток. В тот же день траншея была вырыта, но почему-то с юга на север. На другой день случилась эта повторяющаяся история с этим длинным металлическим гвоздодером, за что вся бригада была разнесена практически вдребезги, и от нее могли остаться только хлопчатобумажные носки на казенной изогнутой трубе. Когда же Сергей Львович в очередной раз понял, что это все, что может от бригады остаться, он как-то немного отошел, как-то несколько сбавил напор, чуток даже осунулся и стал описывать великое будущее здание с горельефами и шпилями. Какие будут на его шпилях красные предупредительные огоньки, мигающие высоко над ночной Москвой. И все такое прочее. Не мемориальную доску на фасаде, а сам фасад. И то, что будет за фасадом. Какие возникнут там светильники, лифтовые шахты, какие петли на дверях, какие люди, кастрюли, какие фикусы на окнах, какие лифтеры, а во всех помещениях – никелированные унитазы. Я Александру Петровичу сперва не хотел о них рассказывать, полагая, что это вызовет гневный протест с его стороны. А потом однажды, когда он стал опять донимать меня своим покосившимся мирозданием, я ему рассказал, употребив американские нажимные механизмы для спуска воды, и это вызвало живейший отклик у него. Он вышел на середину комнаты и стал казаться очень высоким человеком под моей электрической лампочкой. Подтяжками он в тот вечер не щелкал, да и не было на нем никаких подтяжек. Он просто сказал: «Вот двадцать первый век. Он будет наверняка. И будет он веком победивших нажимных механизмов». И стал об этом, по своему обыкновению, очень много и долго говорить. Ночевал у меня.
И наличие самой свободной свободы, увенчанной выдачей давно обещанных премиальных. Это тоже важно понимать. Об этом тоже нужно сказать. Полуовальное окошко строительной кассы – не единственная вершина человеческой мечты. Да, это так. Это мне с юности известно. Но ведь оно же в рабочем открытом состоянии – достойное проявление справедливого подхода к частной жизни обычного паренька с антивоенным плоскостопием. А в том, что же это все такое в действительности, откуда такое взялось, что означает и что доказывает, я за всю жизнь так и не разобрался, и Александр Петрович мне тоже до конца не смог объяснить. Я очень просил, а он снова очень не мог. Всячески уходил от прямого ответа. При всем его уме и безусловном таланте. Он мне только говорил, когда я начинал особенно сильно в третьем часу ночи недоумевать: «Как ты так можешь! Как ты с такими настроениями тротуары топчешь! Ты и в самом деле такой наивный паренек, каких свет не видывал!»
И тем не менее он всегда большей частью очень привлекательно почти обо всём отзывался. Спектр многоцветный получался. Всегда у него выходило веско сказать о самом живом и существенном. И я Александру Петровичу тоже что-то о разном живом говорил: не всегда же молчать. Я говорил ему про свою службу, про наш пустырь, про езду в отечественном транспорте, про нашу грубую и затянувшуюся непогоду, про оптическую астролябию, с которой ни разу никуда не побежал, про лес, темневший в сумерках, про загадочный перегон с гудками и мерцавшими огоньками, про контузию Сергея Львовича, про лопату у задней стены, про гвоздодер, канувший в неизвестность. Я ему об этом говорил именно теми словами, которые носились в осеннем воздухе над пожухлым нашим пустырем, и он тогда говорил «о не всегда изящной правде жизни», «о реализме сущего и мощности происходящего». В итоге получилось то, что получилось. Крайне редкое по тем временам, неподцензурное издание, «изданное» нами обоими в моей комнате и по буйной чувственности цветных иллюстраций превосходившее всё, что было известно на тот момент на всем пространстве бесконечной страны. Особенно образно выглядел, тщательно прорисованный другом, сюжет, в котором ключевым моментом являлся даже не сам Александр Петрович, а подъем человека из коленно-локтевого положения в направлении восходящей луны. Готовая картинка на обложку будущего его и блестящего реферата. И дело тут, как я теперь убежден, не в акробатике, не в лунном календаре столичного региона, а в остроте ума и необузданном воображении. Он и на практике эту «96-ю подлунную» пробовал применить в моей прокуренной комнате и раза два применил на моем пружинном диване. И ведь было с кем. Она, то есть та, которая «было с кем», была, как сейчас помню, то ли блондинкой, то ли брюнеткой в оранжевой юбке и зеленых колготках, но без изогнутого саксофона. Она нам не говорила: «Ну и накурили вы в комнате, мужики. Дедулин колун вешать можно!». Она входила в комнату с дымящей сковородкой, и он ни разу не лег с ней на диван мой пружинный в своем «джазовом пиджаке», всякий раз размещая его на спинке моего стула со словами: «Пусть до утра довисит».
А о том, что и через 200 лет вряд ли станет возможным доказать очевидную правоту всех его действий, мыслей, желаний, взглядов я первый ему намекнул при тех же городских огнях, а он мне второй. Как это у меня получилось, я ни за что не вспомню, однако помню, что я его каким-то образом опередил аккурат в момент полета его шляпы почти через всю комнату. Я первый ему об этом сказал, подумав про себя: «А не добежать ли мне завтра сперва до восточного забора, а потом до северного?» Я и до гудков на Ярославском перегоне ни разу не добежал, а то бы и не так еще намекнул. Тем не менее он со мной согласился и тут же принялся урезать срок наступления собственной правоты сперва лет до 100, а после до 50. В данном снижении ему было на кого опереться, о чем он не задержался, встав со стола и воздев руки к потолку, с некоторым пафосом мне сообщить: «Вся прогрессивная мысль всего человечества на моей стороне, а я на ее!». Я такой огромной толпы представить не мог, разве что в «час пик» на станции метро «Комсомольская», и, со своей стороны, вновь предложил Сергея Львовича как человека, сражавшегося с японскими захватчиками на Дальнем Востоке. Бывшего полковника там серьезно контузило взрывом бомбы японского производства, однако в этого самурая, который пикировал в районе расположения наших танковых частей, он успел выстрелить, и тот превосходно взорвался еще в воздухе и, как тот праздничный шар, превратился в разноцветные ошметки. Лет через тридцать пять после контузии Сергея Львовича назначили к нам на пустырь нашим главным геодезистом. Назначение состоялось вскоре после его возвращения в Москву «с отдыха в тенистом санатории» с круглосуточной релаксацией в виде черных огромных собак и стрельбы без предупреждения из-за каждого куста. Но как заядлый пацифист Александр Петрович был верен себе: не зря же его в армию решили не забрать. Он потому и от Сергея Львовича отказался, припомнив мой подробный рассказ про очистку «Дружбы» двумя пальцами от фольги. При этом попробовал уточнить кое-что по размерам пустыря, по наличию гудков и заборов, и точно ли я говорил, что хлопчатобумажных серых носков на трубе было ровно семь пар, и можно ли предположить, что в ближайшем лесу живут фантастические птицы и животные, призывно кричащие по ночам. На что я сказал: «У нас в бригаде все мужики фантастические, а не только эти животные в лесу».

