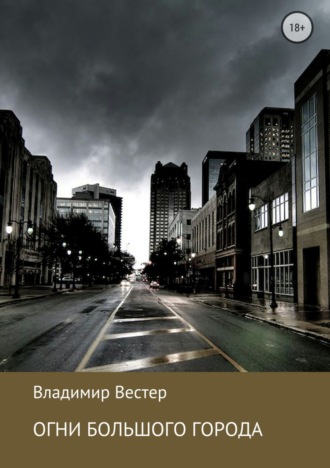 полная версия
полная версияОгни большого города
В тот день ветер за тонкими деревянными стенками каптерки дул не очень сильный, и Сергей Львович, мой непосредственный начальник-геодезист, долго стоял на деревянных ступенях крыльца в его фуражке без звезды. Бывший полковник молча курил, пристально вглядываясь в даль, куда-то на Запад, откуда не доносилось ничего, кроме гудков на Ярославском перегоне и застарелой ненависти к этому самому Западу, где все кому не лень отстреливают президентов. Никаких величественных зданий не показалось даже в воображении, тогда как все семь пар носков исправно сушились на изогнутой трубе казенной печки, а гвоздодер в очередной раз куда-то задевался. Рабочий день был окончательно испорчен известием об очередной отсрочке выдачи премиальных, и в этот полностью испорченный рабочий день Сергей Львович, чтобы немного как-то поправиться, не отказался вечером от стакана из стекла (граненого). Он от стакана вроде сперва хотел отказаться, но отчего-то не сумел. Он так и сказал: «Звание не позволяет!» И запах после был тот же, чрезвычайно знакомый, когда, сорвав алюминиевую головку с стеклянного узкого горла, по стаканам разлили, и Сергей Львович, двумя пальцами привычно взяв стакан, его поднял и весь его в себя опрокинул, хорошенько перед этим ахнув, и кто-то из наших мужиков немедленно подсуетился, подав Сергею Львовичу, очищенный предварительно от фольги, плавленый сырок «Дружбу», и Сергей Львович сразу весь проглотил и произнес: «Ну, туда все и катится, японский городовой!».
ХVII.
С годами много чего в нашей истории зашло в свой исторический тупик, в том числе и расследование одного из самых сенсационных в ХХ веке преступлений. Оно зашло в еще более глубокий исторический тупик, чем всё остальное. Сохранилось и даже укрепилось подозрение на то, что Норма Джин Бэйкер Мортинсон (Мэрилин Монро) умерла в своей постели не совсем своей смертью: ее убили за слишком пронзительную печаль в глазах.
Расследование множества других преступлений могло завершиться более успешно, однако и оно оказалось в таком глубоком историческом тупике, в каком никогда ничего не оказывалось, а особенно разбирательство по случаю нового нашумевшего дела, связанного с хищениями вяленой и сушеной рыбы в особо крупных масштабах. Выдающаяся же привычка Александра Петровича совмещать несовместимое и объяснять необъяснимое сохранилась в неизменном виде. Лишь только однажды пришлось ему мучительно от этой привычки отказаться. И то, замечу, случилось это не тогда, когда в ближайший к нашему дому гастроном «У летчиков» снова что-то в мешках завезли, похожее на взрывчатку в тротиловом эквиваленте, а тогда, когда он ясно представил свою личную необходимость еще раз напомнить профессору Дроцкому «о тщете сущего и хрупкости человеческой жизни», а также о том, что «убийца был коммунист». Они опять, по старой привычке, кричали друг на друга: видавший виды профессор и молодой долговязый студент. И Александр Петрович, вдоволь накричавшись, с такой силой хлопнул тяжелой кафедральной дверью, что гипсовый бюст Фридриха Энгельса сорвался с верхотуры шкафа и, долю секунды с недоумением повисев в воздухе, разбился об профессора весь и вдребезги. Надо ли говорить, что после этого товарищ сел в трамвай и поехал на нем неизвестно куда?
Я по случая его отъезда снова долго нигде не видел его, в том числе и в своей комнате. Я и по телефону ему звонил, но он не отвечал. А мама его не сразу, но отвечала. У него, еще раз скажу, была очень красивая худощавая мама с алой гвоздикой в темных, как южная ночь, волосах. Она сидела за полинялой шторой в ее вечернем платье с глубоким вырезом на груди и печатала на пишущей машинке. Она, не отрываясь от работы, мне говорила, что он отправился в город, чтобы, наверное, в длинном пальто, своей шляпе и нитяных перчатках постоять на промозглом ветру у парапета на Большом Каменном мосту.
– Для чего?
– Не знаю. Я за полинялой шторой на механической машинке печатала, а он собрался и ушел. Я его отговаривала… Но вы же… Вы же ведь Армяков?
– Армяков.
– Николай?
– Николай.
– Значит, это вы работаете помощником главного геодезиста?
– Да.
– Значит, это вы хорошо знаете характер моего сына?
– Ну… наверное…
– Тогда перестаньте звонить!
Она вешала трубку, и я ощущал то, чего раньше не ощущал. Я чувствовал странную сущность моего друга. Мне казалось, что я догадываюсь, кто он такой, откуда взялся и для чего пришел в этот мир. Он и в город отправился в силу своей фантастической необходимости. Он почувствовал эту необходимость, и внутренние силы заставили его, облаченного в темное и длинное отечественное пальто, отправиться на Большой Каменный мост. Там он в своей шляпе, больших ботинках и нитяных перчатках стоял у парапета. Темно-зеленое небо предзимней столицы простиралось над ним. И дождик шел, и ветер дул. А он стоял, и сигаретный дым уносился прочь от него. А он стоял и курил на мосту, посреди мегаполиса; курил и любовался на художественную архитектуру кондитерской фабрики «Красный октябрь», на темные воды реки и опрокинутые в эти воды желтые прибрежные фонари. Он, наверное, для того и появился на этом мосту, чтобы что-то понять и в чем-то убедиться.
XVIII.
Вскоре подоспели другие события. Из них обострение сейсмической обстановки в Карякии значительно менее известно, чем закономерное поражение СССР в тотальной звездной войне с США. Вместе с тем резкое нарастание повседневного обнищания населения не так бросалось в глаза, как высадка на живописном приморском полуострове отечественных мужчин в форме цвета придорожного лопуха, закончившаяся, как известно, оттоком отдыхающих во всех направлениях. Были и все остальные события, известные мне не в равной степени, а то и вовсе неизвестные. Часть этих событий была, видимо, как-то связана с нашей с ним многолетней дружбой, а часть с его долгой и нетрафаретной учебой на той же кафедре. При этом значительная часть ни с какой кафедрой связана не была, как и с его учебой среди ее пыльных вершин. Тем не менее он в разговоре со мной, имевшем место на закате перестройки, употребил пару-тройку резких выражений, имевших широкое хождение и до начала какой-либо перестройки. В числе их самым мягким было выражение, далекое не от моего воспоминания о нем, а от дословного воспроизведения на писчей бумаге.
Звучит оно и теперь. Хотя почти три десятилетия мимо пронеслись. Давно уже в моде другие выражения, другие обороты, вроде «массового мазохистского эксгибиционизма» или «главного фаллического символа ХХ века». Все же ведь повторяется. И тогда повторялось, каждый раз с потрясающей силой обескураживая моего товарища. Он был человеком в «джазовом» пиджаке с видавшим виды хлястиком и в шляпе с отблеском фонарей на ее влажных полях. Он в свете проекционного луча видел голую женщину, выходящую из ванной. Но никогда не был он «фаллическим символом ХХ века» и не догадывался «о массовом мазохистском эксгибиционизме», ставшим знаменитым уже в наше время. Он лишь в один из дней той давней и прохладной осени, когда мы сидели у меня в комнате, и ветер упруго давил на оконные стекла, что-то сказал мне про покушение на Джона Ф. Кеннеди, а потом о том, что, будь его воля, он бы и без всякой передозировки назначил свидание той полногрудой блондинке на Большом Каменном мосту, и вечерняя Москва могла бы услышать «мелодию мечты на изогнутом саксофоне»… А после годы пронеслись, наша юность закончилась, и он еще раз мне сказал, что прах былого и прошлого стучит в его сердце. Что и осталось с ним навсегда. Да и со мной тоже.
А времени было уже сколько?
Времени было уже третий час ночи. Нет, вроде шел уже шестой час утра. И город не гудел за окном. Он отзывался какими-то отрывистыми далекими вздохами, позвякиванием на рельсах пустых трамвайных вагонов, шагами в подворотне и безмолвным предутренним светом желтых фонарей…
ХIX.
Вновь возвращаюсь к далеким дням нашего совместного детства и вновь поражаюсь тому, насколько далеко отлетела от меня эта незабываемая пора.
По возвращении сообщаю, что память – штука избирательная. Не всё теперь вспоминается с одинаковой ясностью. Вижу чердак, шланг, пожарную лестницу и задний двор, имевший вход, но не имевший выхода. Вижу металлическую раму велосипеда, руль, цепь, педали. Слышу задорные трели звонка. С какой скоростью летал мой товарищ на этом велосипеде по асфальту нашего двора, а я за ним на своем! А с какой силой однажды плюнул он с покатой крыши бомбоубежища в нашего дворника, в нашего поливальщика, в нашего подметальщика, в нашего доставальщика Матвея Борисыча и только из-за порыва ветра в него не попал! В школе – вытяжной шкаф. Круглый географический глобус. Первая сигарета на пыльном чердаке и пробудившееся сексуальное любопытство. От его сексуального любопытства ни одна мало-мальски симпатичная учительница не была застрахована.
Через несколько лет он постарше стал и во многих областях преуспел. Я не помню всех областей преуспевания. Помню лишь самые реалистичные из них. И если для меня часть этих областей осталась навсегда далеко за пределами понимания, то для него она давно уже показалась оттуда. Он и в зарубежном американском кинематографе прилично разбирался, и в диалектическом материализме, и в иллюстрациях из запрещенной тогда Книги Любви, не говоря уж про разрешенный «Растворный узел». Он и по восходящей к небесам карме уже кое-что где-то сумел разузнать. Он и по «холодной войне», и про общественную баню такие подробности выяснил, какие и сегодня мало кто ухитрился разведать, включая «ядерную зиму» и взвешивание одного голого человека за 5 копеек на скрипучих банных весах.
Чего никак нельзя сказать о ситуации, ознаменованной очередной его попыткой расколоть меня на спрятанную в шкафу бутылку «партийного» и небольшую закуску. Я в юности был человек не жадный: просто раскалываться не хотел. Поэтому он крупных успехов не достиг, достигнув их позже, не в этот осенний вечер, а в какой-то другой, но тоже осенний. А в этот вечер, о котором я кое-что, наверное, уже рассказал, страшное разочарование постигло его, лишь только я честно при нем намекнул, что нет у меня никакой заначки в шкафу: когда-то была, но всю выпили накануне. Видимо, из-за этого Александр Петрович собирался мне кое-что подробно разъяснить по основам несколько покосившегося мироздания, для чего намеревался выйти на середину комнаты и руки воздеть к потолку. Он их так и не воздел и по основам ничего не разъяснил. А мне так хотелось понять, что же все-таки тормозит, что же все-таки не позволяет продвигаться вперед в тяжком деле скорейшего освоения огромного пространства на окраине города или вообще по жизни, которая, словно это пространство, но еще огромней.
Я этот вопрос ему так и не задал, мне его даже сформулировать не удалось. Он же некоторое время стоял в молчании посреди комнаты, потом в верхней одежде лежал на обивке моего дивана, отвернувшись к стене. Только под утро признался Александр Петрович в своем острейшем нежелании ничего уточнять. Он что-то невразумительно пробурчал, яснее говорить не захотел. А уж тем более о том, откуда и каким образом в его распоряжении оказалась информация, что если человек является танцором джаза, то он же является и продавцом Родины. Так это или не так?
Но в особо значительной степени он проявился значительно позже. Не в те уникальные дни нашей совместной юности – много лет спустя. Случай этот нашумел, потряс воображение, его широко обсуждали в газетах и по телевизору. Трех генералов с работы сняли, пятерых на их место поставили. Известен и криминальный оттенок этого нашумевшего случая, его внезаконная сила, его повседневная своеобразность для нашей страны. Он, иначе говоря, своими корнями куда-то глубоко уходил. Не в область примитивной уголовщины, а в область более возвышенную, словно хриплое задушевное пение в исполнении моего друга, на его воображаемую игру на изогнутом саксофоне.
Этот же случай во всем его многообразии распространился вскоре на всё душное побережье некой оффшорной зоны с теплым морем, огромными птицами, голыми туристами, вкуснейшими лангустами и разноцветными цветами, источавшими запах медовой карамели. Возвратившись в Москву, случай этот скрылся в сырых и глубоких подвалах столичного Центра, впоследствии высушенных и отданных под модные кабаки в настоящее время и превзошедших по вкусной еде и убранству самую знаменитую «Прагу» с ее стрижеными официантами и пожелтевшими зеркалами от пола до потолка. Состоял же он вовсе не в этом кабацком великолепии, на которое ни у какого подручного геодезиста не хватит никогда всех его премиальных, как бы он ни добегал до призывных гудков на Ярославском перегоне, как бы ни кричал в одиночестве на луну. Случай в том и состоял, что трое рослых пареньков «в скандинавским ботинках» пришли к Александру Петровичу кое-что прояснить по вопросу, значительно более существенному, нежели моя заначка в шкафу, давнишняя эрекция на рассвете или интимные подробности нижней одежды американской белокурой кинозвезды. Он к этому времени уже обставил новое свое трехэтажное жилище в духе 50-х – 60-х – 70-х годов и для пущего облагораживания обстановки прикупил обширный диван, похожий на мой и по обивке, и по скрипу пружин, но за бешеные деньги. Небольшой фотографический портрет мамы с гвоздикой в волосах он укрепил на стене в своей спальне, расположенной за полинялой шторой на деревянных кольцах. Мамину пишущую машинку он оставил на том же месте, что и много лет назад, и по ночам она по какой-то собственной причине печатала тот же бесконечный перечень исторических событий. Электрическую лампочку в черном патроне он тоже повесил, а вчерашнюю «Правду» расположил всеми орденами вверх и на таком же столе, какой был у меня. И деревянный двустворчатый шкаф его хранил в своих старинных потемках непочатую бутылку «партийного» 197… года осеннего разлива. И очень много всякого разного накупил, чтобы было что покурить. А когда эти немногословные ребят у него втроем появились, он им сказал:
– Вы – шустрые пареньки. Вы не фуфла хотите, не дряни какой; не надо вам никакого дерьма. Оно вам для чего сдалось? Нет, вы – не просто шустрые пареньки. Вы – очень борзые ребята. Великолепные скоты нашей грандиозной эпохи. И вы от меня что хотите? Вы от меня хотите пятьдесят миллионов долларов за полуистлевшие носки на ржавой трубе! Не многовато ли, господа?
Выстрелить сразу из трех пистолетов они в него не успели: он сам в них успел выстрелить. Сразу в троих. Из одного пистолета.

