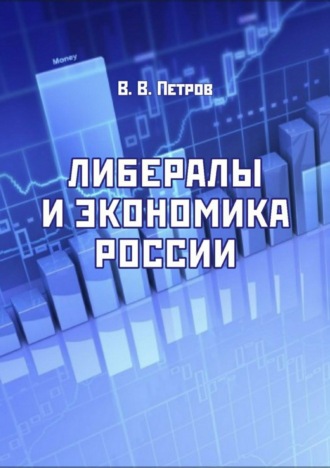 полная версия
полная версияЛибералы и экономика России. Издание переработанное и дополненное
Что касается рентгеновского телескопа РТ-1, то в истории ФИАНА на его сайте записано: участие в лунной программе дало нам бесценный опыт (но, видимо, не результаты). Работы по рентгеновскому телескопу позже были расширены.
Во время движения Лунохода было интересно наблюдать за действиями экипажа Лунохода, находящегося на Земле. Им было не позавидовать. Дело в том, что из-за низкого качества работы малокадрового телевидения смена кадров происходила за время 15-20 сек, плюс задержка распространения сигнала до Луны и обратно 4 сек. В это «мёртвое время» Луноход не управлялся, но двигался. Кроме того, качество картинки оставляло желать лучшего, и обзор был плохой из-за низкого расположения камер. Приведённое изображение посадочной ступени получено как раз с помощью малокадрового телевидения. Много раз в литературе описывалось, как Луноход угодил в небольшой кратер. Я непосредственно наблюдал за тем, как выбирался Луноход из этой ситуации. На НИП-10 была напряжённая тишина. Луноход выбрался задним ходом, и в зале раздались аплодисменты.
В общежитии мы жили рядом с экипажем. Были у нас и совместные чаепития. В НИП-10 для участников работы печатались фотографии лунных панорам. Эти панорамы получались с помощью телефотометров, установленных на Луноходе. Наш прибор работал в одном телеканале поочерёдно с телефотометром. Телефотометр работал по другому принципу, чем малокадровый телевизор – гораздо медленнее, но с большим разрешением и чёткостью. Вот такая панорама с подписями членов экипажа хранится у меня дома. Ребята из экипажа (новоиспечённые майоры) дали мне переписать магнитофонные записи Тани Ивановой, Зины Павловой и прочих эмигрантов.
Приехавшие Олег В. и Валерий С. привезли спирт. Я давно уже не встречался с Валерием. Во время застолья он наконец высказал мысли, долго томившие его: о том, что он еврей по отцу, о том, что он меня сразу узнал (имелось в виду его участие в моём исключении из комсомола). Потом переключился на то, что я оскорбляю его отца, – видимо, он уже слышал только себя. Но всё это не имело никакого значения – больше мы с ним не встречались. Что его взорвало (кроме спирта), остаётся только догадываться.
Возвращался я домой не с лучшим настроением. В поезде я оказался в одном купе с новоиспечённым кандидатам медицинских наук из Киева Валентином Заикиным. Защита проходила в Крымском Мединституте (Симферополь). У него было совершенно другое настроение, которое я ему совсем не хотел портить, и у нас была развесёлая дорога с симферопольским игристым вином из вагона-ресторана.
Грант рассчитывал получить за работу на Луноходе Ленинскую премию, и у него были все возможности получить её, если бы он выполнил эту работу. Запуск Лунохода-2 состоялся в 1973 году. Времени для отработки пропорциональных счётчиков и испытаний выносного блока было более чем достаточно. Нужно было лишь держать изготовление счётчиков под жёстким контролем: ну хотя бы, требовать ежемесячных отчётов перед остальными сотрудниками. Тогда бы, глядишь, и испытания им пришлось бы провести, и от скрытного рода работ отказаться.
Аппаратуру на Луноходе-2 разработчики Грант К., Сергей В. и Георгий К. назвали РИФМА-М. По наземной части аппаратуры ухитрился защититься Владимир Ч. Однако, по словам знакомых сотрудников ФТИ, «результаты получили неоднозначную оценку. Ещё хуже было с Луноходом-2, сопровождением которого занимался Юрий М., которого Грант потом убрал из института».
На банкете после моей защиты оппонент из ГЕОХИ задал такой вопрос:
– С диссертацией всё понятно, а скажи, Грант, наука-то там (в результатах эксперимента на Луноходе – мой комент.) есть?
– Очень много науки.
Ну, что ж,
Жираф большой, ему видней…
Грант предложил принять участие в заключении договора между моей новой организацией и ФТИ по проведению исследований по предсказанию вспышек на Солнце. Для космонавтов (и не только для них) предупреждение о вспышках имело бы большое значение. Однако у меня уже не было желания участвовать в этой работе. Поэтому я удовлетворился формальным ответом главного инженера, что эта работа не соответствует профилю института. Отстаивать работу я не стал.
Было бы неправильно, если бы я попытался избежать собственных оценок произошедшего.
Американцы принимали сигналы Лунохода-1 и обнаружили, что в канале телефотометра передаётся какая-то посторонняя информация, похожая на исследования лунного грунта. Т. е. они как бы подтвердили, что исследования лунного грунта проводятся. В таком случае за результаты можно было бы выдать любые спектры, полученные на Земле. Тем более что к этому времени лунный грунт был доставлен на Землю как нашими лунными аппаратами, так и американскими астронавтами по программе «Аполлон» и порода лунного грунта была уже известна. С другой стороны я не знаю, проводились ли испытания выносного блока вообще. Более того, я не знаю графика температур в выносном блоке – всё осталось в тайне. Не известно, как вели себя насыщенные тритием титановые пластины в безвоздушном пространстве при большом перепаде температур. А провести испытания можно было, хотя бы у разработчиков шасси Лунохода в Ленинграде.
Луноход был несомненным достижением нашей космонавтики. Аппарат подобного размера до сих пор не управлялся с Земли ни в одной стране. Однако работа по лунной программе превратилась в политизированную лунную гонку. В самом начале лунной гонки было понятно, что мы обречены на поражение. Наш экономический потенциал не позволял её выиграть, прежде всего из-за пренебрежения к разработке микросхем в радиоэлектронике. Мешала также конкуренция разработчиков ракет, переходящая в ненависть друг к другу. Но ничего не мешало сделать правильные выводы и продолжить освоение Луны.
В 2015 году я посетил то, что осталось от НИП-10. Это место называется посёлок Школьное рядом с Симферополем в направлении на Евпаторию. Поговорил с жителями посёлка, обменялся воспоминаниями. 25 лет оккупации Украиной. Грустно.

Памятная доска
Виды Байконура можно увидеть на сайте города Ленинска http://www.leninsk.ru/gallery/index.php
НПО Вектор.
После защиты мы с Людмилой отправились в отпуск. Людмиле на работе выделили участок для занятия садоводством на Синявинских болотах рядом с Ладожским озером. Вдоль озера было прорыто 2 канала. Первый прорыл Пётр I и проложил вдоль него дорогу. Вот здесь возле дороги мы поставили палатку и одними из первых приступили к освоению участка. Фотографии у меня не сохранилось, но эту мою деятельность я изобразил с использованием картины из Эрмитажа. Этот фотомонтаж – шутка лишь частично, Людмила, передвигаясь по брёвнышкам, потеряла там свой резиновый сапог, который так и не нашли.

Первое строение
Особенностью освоения садоводческих участков было то, что для дачников было практически невозможно через магазин приобрести самые необходимые для этого освоения вещи. Задумано это мероприятие для того, чтобы народ мог занять себя выращиванием растений, но ни в коем случае садовод не мог заниматься накоплением частной собственности, так ненавистной коммунистам. В частности, можно было возвести только дачный домик ограниченного размера, в котором можно перекусить и хранить лопаты и прочие орудия высокопроизводительного труда. Но даже на строительство дачного домика нужны строительные материалы, которые можно было найти с большим трудом и часто совсем не в магазинах. Поэтому большинство строительных материалов имели нелегальное происхождение.
Ещё хуже было с использованием строительной техники. Как вы понимаете, на болоте нет дорог. Их нужно сделать, а перед этим нужно осушить болото. Официально привлечь технику к строительству было нельзя. Председатель решил выкопать осушительные канавы лопатами. Вышло садоводство на общественные работы и быстро поняло, что это не реально, не говоря уж о том, что всё же время-то уже не петровское. Постепенно такие предприятия как Кировский завод, стали привлекать технику для мелиорации, и уже с ними стали договариваться о её привлечении для других садоводств. Нужно сказать, что эти садоводства возникали ото всех районов Ленинграда, и синявинский массив «Восход» – крупнейший садоводческий массив. Летом там с детьми собирается до 100 тысяч человек. И вот над ними решили поиздеваться коммунисты. Когда пришло время четвёртой за столетие революции в России, это было одной из причин, по которой КПСС развалилась без шума и пыли. Если бы они не издевались над людьми, то должны бы были подумать, как помочь садоводам в создании инфраструктуры и обеспечении их готовыми строительными конструкциями. Но что об этом говорить, если главной проблемой человека в России является жильё!
Я, как и все, искал возможности приобретения строительных материалов. Первое строение было построено без фундамента (на деревьях) из горбыля, который удалось «достать» на лесоторговой базе. Доставляли этот материал от дороги до участка на плечах. Дорог-то не было. Зато был учёт процента освоения каждого участка.

Конечно, вид садоводческих сооружений зависел от доступа к стройматериалам и технике. У большинства этот доступ был очень ограничен, поэтому большинство сооружений имело весьма непрезентабельный вид. Как-то секретарь ленинградского обкома КПСС Г. В. Романов проезжал мимо наших садоводств по Мурманскому шоссе:
– Это что такое, – возмутился секретарь.
– Убрать немедленно!
Но он даже не представлял себе размеры этого убожества. У него была совсем другая дача.
А что же liberals? После революции 1991 года они заявили будущим фермерам: мы за вас, берите лопату в руки и вперёд! Однако почему-то стали вымирать деревни. Тогда они заявили: русский мужик ленивый мужик, он – не немец. Только вот им невдомёк: немцы уже давно работают с другими орудиями труда и об инфраструктуре им задумываться не надо.
А между тем владельцы этих убогих сооружений гордо называли их дачами.

После получения диплома кандидата технических наук я был переведён в младшие научные сотрудники.
При описании дальнейшего я обязан учитывать, что участвовал в секретных и совершенно секретных работах. Моё положение упрощает тот факт, что «Вектор» в 1991 году прекратил своё существование. Работы имели явно завышенный гриф секретности, что определялось правилами игры. Я не занимался разработкой новых видов вооружения, моя аппаратура относилась к сфере радионаблюдений, что, конечно, не является секретом, точно так же как и то, что все страны чем-то вооружаются. Тактические параметры аппаратуры я не собираюсь указывать. Ну и, наконец, в качестве тризны по распавшемуся в результате революционных событий 1991 года НПО была выпущена книга «Научно-исследовательский институт «Вектор» – старейшее радиотехническое предприятие России. 1908-1998 гг.» Санкт-Петербург, 2000 г. Эта книга размещена в Интернете. Я буду придерживаться её контекста. В этой книге в главе 5 значительное место уделено НПО «Вектор», которое прекратило своё существование в 1991 году, и подробно описано, как это происходило. У меня цель несколько иная: показать, почему это произошло, связать это событие с процессами, происходящими в стране, и сделать выводы. Что происходит с частями бывшего НПО «Вектор», лежит вне темы этой книги. Связано это с тем, что я не могу раскрывать тематику этих предприятий.
В 1972 году, когда было создано НПО «Вектор», мне предложили заняться проблемами обнаружения радиосигналов, за которыми должно проводиться радионаблюдение. Это полностью совпадало с моими интересами и я, не раздумывая, согласился. Александр М., как честный человек, пытался меня отговорить: ну зачем мне такая ответственность? Но я же сам стремился сделать что-то серьёзное, а с ответственностью я уже был знаком по лунной программе.
Меня назначили начальником сектора. В моё распоряжение поступило около 20 человек. Это было неправильно, но таково было штатное расписание. Правильно было бы назначить меня старшим научным сотрудником и дать возможность в течение двух лет определиться с новой для меня тематикой, наметить пути решения задачи. Собственно, я этим и занялся, но параллельно я должен был обеспечить своих сотрудников какой-то работой. Правильнее сказать, сделать вид, что они что-то делают. Впрочем, это не было какой-то особенностью нашего сектора по сравнению с другими секторами НПО, которое определялось со своей структурой и занятостью.
Организационная структура была такова. Генеральным директором был назначен Н. С. Семёнов, перешедший на эту работу с поста секретаря Ленинградского горкома КПСС, начальником отделения НИО-4 – В. М. Чистяков, начальником лаборатории НИЛ-43 – А. С. Брянцев, начальником сектора НИС-432 – В. В. Петров. В порядке ознакомления с личным составом нового Генерального директора я оказался перед небольшой комиссией у него. Он задал мне такой вопрос:
– Вот из ваших личных данных я вижу, что вы не участвовали как комсомолец в важнейших событиях в стране. Где вы были в это время?
Я ответил:
– Я работал на Луноходе. У меня не было времени на общественную работу и у меня другие интересы. Разве учёный не может заниматься своей работой, не состоя в КПСС?
Надо сказать, что служащим было не так просто попасть в КПСС. Была очередь, и надо было предварительно доказать свою причастность на политинформациях.
Материальное положение моей семьи резко улучшилось. К этому времени мы разменяли квартиру Людмилы: в трёхкомнатной квартире жило две семьи (в каждой по ребёнку) и мать Людмилы, которой, как и положено, не нравились ни зять, ни невестка. Невестка Вера Г. была симпатичной, но простенькой девочкой, правда, себе на уме. Однажды она, не постучав в дверь, так, по-простому появилась в нашей комнате, когда мы с Людмилой были в состоянии ню. «Присоединяйся», – сказал я ей. В общем, жить дальше в одной квартире не представлялось возможным. Мы разменяли квартиру, и я с Людмилой перебрался в центр города (улица Жуковского), где мы оказались в старом доме в комнате, поделённой на три комнаты. Одну из них занимала моя тёща, которая решила, что из двух зол меньшее – я.
Мы с Людмилой съездили по туристической путёвке на Кавказ, как обеспеченные люди, и в 1974 году у нас родилась долгожданная дочка.
На работе я первым делом ознакомился с разработками Интеграла в области обнаружения, т.е. занялся чтением отчётов предприятия. На предприятии было произведено несколько ОКР. Главным обнаружителем в этих комплексах был человек – оператор. В его распоряжении были наушники и пара индикаторов: с отображением пеленга и частотного спектра. Чтобы обработать поток тревог, приходилось устанавливать большое число пультов операторов, и при этом нагрузка на оператора была очень высокой. Из этого вытекали главные задачи при создании нового обнаружителя: снижение потока тревог и повышение вероятности обнаружения.
Из своего предыдущего опыта работы на Луноходе я хорошо представлял себе, для чего нужен малогабаритный компьютер. В 1971 году был изобретён микропроцессор. В 1974 году фирма Intel выпустила микропроцессор i8080, ставший первым по-настоящему популярным. Вот-вот должен был появиться персональный компьютер. В СССР в это время копировали микросхемы средней интеграции. Готовился к выпуску ряд крупногабаритных ЕС ЭВМ, выпуском которого должен был заниматься весь социалистический блок. ЕС ЭВМ – аналоги серий System/360 и System/370 фирмы IBM, выпускавшихся в США c 1964 года.

Посетивший в конце 1970-х СССР классик программирования Э. Дейкстра сказал в своём публичном выступлении в Большом зале Академии наук в Ленинграде, что он считает крупнейшей победой США в холодной войне тот факт, что в Советском Союзе производятся компьютеры фирмы IBM. Действительно, вскоре все сделанные наработки программного обеспечения оказались никому не нужными в связи переходом на персональные компьютеры. Я бы ещё заметил, насколько мы тогда легкомысленно относились к созданию новых важнейших средств производства – компьютеров. За прошедшее время после перестройки мы стали ещё глупее: у нас до сих пор не появилось собственного семейства компьютеров. Санкции и усилившаяся холодная война против России нас ничему не учит. Спасибо партии за это!

Машины ряда ЕС принципиально не подходили для решения задач «Вектора», т. к. были ориентированы на решение счётных задач. В это же время готовилась серия СМ ЭВМ. Это были малые ЭВМ с приспособленными для управления и ввода-вывода информации развитыми каналами ввода-вывода. Но я прекрасно понимал, что для наших задач нужны были микроЭВМ.
Я договорился о командировке с главным инженером А. Н. Петровым, написал ТЗ на одноплатный компьютер и показал ему. Он попросил меня согласовать ТЗ с заинтересованными подразделениями института. Когда я начал это согласование, то сразу понял, что ребята не понимают, о чём идёт речь. Мне начали накатывать пожелания на большую ЭВМ, при этом угрожая, что иначе не подпишут. С трудом удалось отстоять содержание ТЗ, а было в нём следующее.
Я продумал такой минимальный набор команд, который позволял реализовывать остальные более сложные команды в виде подпрограмм. Быстродействие – 10 млн команд, которое можно было реализовать именно при сокращённом наборе команд (сейчас это быстродействие кажется смешным, но тогда боролись за 1 млн). Небольшая перезагружаемая память. Канал ввода-вывода. Я не надеялся, что компьютер будет реализован в виде микропроцессора, но всё же предложил к разработке набор БИС (больших интегральных схем).
Я посетил несколько ведущих организаций по разработке вычислительной техники. Переговоры о возможности реализации ТЗ свелись к следующему. Подобный компьютер нужен был бы и им самим, но они не могут приступить к реализации ТЗ, потому что работают по плану разработки (рядов ЕС или СМ). Им помимо денег на разработку нужны постановления ЦК (Центральный комитет) и СМ (Совет министров) одновременно. Я приехал и доложил А. Н. Петрову, что эта задача не моего уровня. Что называется, проехал face об table. Никто из руководства, конечно, этим заниматься не собирался.
Начали вырисовываться требования заказчиков. Заказчиками комплексов радионаблюдения были армия (стационарные и передвижные комплексы), КГБ и флот. Нужно было создать универсальные средства обнаружения для решения этих задач. Вступили в этап проведения НИР. Были подключены учебные институты: ЛЭТИ и ТРТИ (Таганрогский Радиотехнический Институт). И тут начали выясняться важные обстоятельства.
Учебные институты не могли быть серьёзными помощниками. Цель участников работы – написание статей. Их способ передвижения по служебной лестнице – защита диссертаций, в которых внедрение – чисто формальное действие в рамках правил игры. Второй способ движения – звания в учебном процессе – никак не связан с созданием новой техники. Совершенно немыслимо их участие в разработке изделия. Я попытался заключать с ними договоры на проведении оценки эффективности алгоритмов обнаружения, но это выливалось в многолетние исследования, не укладывающиеся в сроки проведения НИР. В конце концов, все эти исследования я заменил на моделирование работы алгоритмов обнаружения на ЭВМ. Это оказалось значительно быстрее и проще. В ТРТИ теоретические возможности по сравнению с ЛЭТИ были послабее, там попытались сделать макет, но это было больше похоже на изделие радиолюбителя. После моделирования различных решающих правил я пришёл к тому же выводу, что в ФТИ: выигрыш в характеристиках обнаружения сложных правил незначительный по сравнению с более простыми, но логически разумными правилами. Вениамин Алексеевич Богданович прислал на отзыв в «Вектор» свою докторскую диссертацию. Я этот отзыв подготавливал и представлял «Вектор» на защите. В отзыве я порекомендовал ему расширить исследования на более сложные классы сигналов и помех. Конечно, он не возражал, потому что это открывало широкое поле исследования (чем он в дальнейшем и занимался). Заодно обсудил с ним «упрощенческий» подход в создании реальной аппаратуры, с чем он согласился. На этом помощь учебных институтов была исчерпана.

В контактах с ЛЭТИ имели главное значение мои личные контакты, а вот сотрудничество с ТРТИ было фактически нам навязано. Тут сыграли главную роль личные контакты руководства ТРТИ с В. Д. Калмыковым, который был назначен с 1965 года министром радиопромышленности СССР. ТРТИ пришёл к нам со «своими деньгами». План работ они составляли сами для себя. Поэтому никаких особых хлопот они не создавали, лишь время от времени нужно было принимать у них этапы работ. В ТРТИ соблюдали правила приёма «высоких гостей» из Ленинграда. В первый приезд нам устроили экскурсию по городу с посещением домика А. П. Чехова. А дальше после приёмки работ устраивались элементарные пьянки, чаще всего в гостинице, но иногда и с выездами. Однажды мы съездили в Ростов, но больше всего запомнилась поездка на катере по Таганрогскому заливу до песчаной косы. На катере была красивая, обшитая красным деревом каюта, водка была тёплой, остудить её было негде. Когда приплыли на косу, то буквально вывалились за борт, и тёплые волны залива катали нас как брёвна по мелководью. При возращении проветривались на носу катера, держась за релинг.

Руководителем комиссии всегда был А. С. Брянцев.
Структура моего сектора была такова. Было несколько техников, рабочее назначение которых было совершенно не понятно. Большинство – инженеры женского пола. Старшие инженеры разного пола и пара ведущих инженеров. Для поиска путей решения поставленных перед сектором задач не было пригодно ни одного человека. Все они были исполнители. При этом по умолчанию считалось, что у меня полноценный состав, и он действительно, не отличался от других секторов «Вектора». В отличие от нынешнего времени я не мог сразу изменить состав сектора: уволить ненужных сотрудников и набрать нужных. Это можно было делать лишь постепенно и в рамках штатного расписания. Кстати, набрать нужных сотрудников при отсутствии в стране безработицы и в рамках штатного расписания было очень непросто. Для переучивания большинство сотрудников было непригодно. Приходилось выкручиваться.
Движение по лестнице инженер – старший инженер – ведущий инженер не даёт серьёзных стимулов к эффективной работе из-за низкого уровня средней по стране зарплаты. Я не имел возможностей переставлять по этой лестнице сотрудников в соответствии с их способностью выполнять нужную работу, я не имел возможностей менять зарплату сотрудников в зависимости от их способностей. Преградой стояла железобетонная защита отсиживающих время на работе сотрудников. Какую-то небольшую возможность давала квартальная премия, но деление этой премии напоминала военное сражение. Тем не менее я, как мог, использовал имеющиеся рычаги.
Была ещё одна ниточка для приёма новых сотрудников – отдел кадров. Этот путь должен был реализовывать начальник лаборатории, но за всё время работы я по этому пути не получил ни одного подходящего сотрудника. В основном нужных сотрудников приходилось разыскивать самому, но и здесь были свои особенности. Те сотрудники, которые попадали ко мне из ЛЭТИ, сначала оказывались в отделе кадров. Там они заявляли о своём желании работать в моём секторе, и отдел кадров направлял их мой сектор. Они приходили без предварительного разговора со мной и, следовательно, без каких-либо обязательств. Они вставали в режим ожидания предложения стать начальником сектора и, рано или поздно, дожидались. Таких сотрудников я не мог включать в разработку комплекса обнаружения. Были и другие такие же проходные фигуры. Из моего сектора вышло около десятка начальников разного уровня. Хуже было то, что эта процедура затронула и тех, кого я штучно отбирал для разработки. Один из ушедших в начальники мне говорил:
– Видишь, Валентин. Не надо принимать умных сотрудников. Нужно, чтобы они были так себе, и никто на них не будет покушаться.
Таким образом, не было надёжного способа привязать человека для участия в работе. Не было стимулов для доведения работы до завершения. Освобождаться от ненужных сотрудников было возможно лишь одним способом – ожидать, пока они сами устанут от безделья и уйдут. Сплетни, скандалы и т. п. – на это я не был способен.


