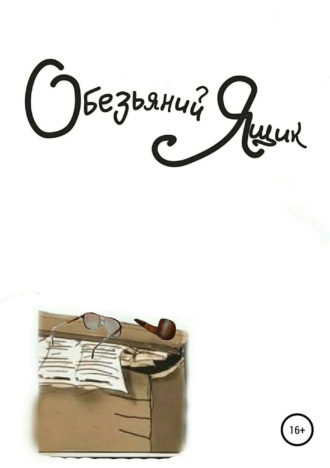 полная версия
полная версияОбезьяний ящик
Несколько лет назад в русский язык пришел великий концептуальный термин «КОНКРЕТНО, КОНКРЕТНЫЙ» и т.д. Внятно изъяснить его лексическое значение чрезвычайно трудно, оттенки смысла эфемерны и еле уловимы. Проиллюстрируем. «Конкретный мужик» – чувак, оппозиционер, композитор и т.д. Собеседник понимает, что дяденька, о котором идет речь, не женственный, успешный, самодостаточный, профессионал в своей сфере, уважаемый коллегами (дизайнер или бандит – без разницы). Или еще чудесный пример. Вчера выпили «конкретно», т.е. слушатель понимает, что уж никак не меньше, чем по 800 граммов на душу. И еще. «Конкретная телка», понятно, что имеется в виду барышня «приятная во всех отношениях».
Дорогой читатель, Ты, разумеется, знаешь, что нужно говорить: прецедент, инцидент, констатация. Однако сейчас повсюду (и из телевизора и радиоприемника) слышится: прецеНдент, инциНдент, констаНтация. Все понятно: такое произнесение удобнее для речевого аппарата. С середины 1960 до начала 1970-х я довольно-таки много «баловался» на Ленинградском телевидении. Так вот, тогда существовали специальные справочники для работников телевидения, где были учтены правильные ударения, сложные случаи спряжения, редкие падежные формы и т.д. Книги эти в продажу не поступали (гриф: «Для служебного пользования»). Кстати, дикторы-ведущие тогда в обязательном порядке имели театральное образование, владели четкой и ясной сценической речью, у них была отменная дикция. За редкие речевые ошибки их наказывали: лишали премии. Они были высочайшими профессионалами. Это было, это прошло, это никогда не вернется. Воспользуюсь случаем и передам привет несравненной (легендарной) телеведущей Раисе Васильевне Байбузенко, которая много раз выводила меня в эфир.
Сейчас стало модным (впрочем, так и всегда было) употреблять всякие «высокие» словечки для придания себе более высокого статуса, веса, самоуважения, что на современном языке именуется «понты кидать». Каждый день слышу: мистичный, романтичный. Правильно говорить так: мистиЧЕСкий, романТИЧеский. Неверное произнесение этих слов опять же объясняется чрезвычайно просто: так легче говорить, редуцируются кажущиеся лишними слоги (и всё).
А теперь про «надеть–одеть, надевать–одевать». Еще совсем недавно (ну, лет 10-15 тому назад) эти глаголы четко дифференцировались. Надеть шляпу, надеть кашне, надеть пальто, надеть бюстгальтер, юбку, шубку, презерватив и т.д., и т.п. Речь идет о том, что этот глагол обращен на «производителя действия». Он надел свои боевые ордена. Надевать сбрую на коня.
Но! Одеть ребенка, одеть любовницу, как куклу, одевать коня попоной. Максим Горький, имитируя просторечие (позднее это стали называть «сказом»), специально смешивал «надеть–одеть». Эта жесткая норма литературной устной речи давно стала размытой и, если честно, умерла. Ну, и Царствие ей Небесное.
Друг-читатель, надо говорить: чулок (единственное число), нет фильдеперсовых чулок, без чулок, пара чулок (родительный падеж множественного числа). И в то же время: носок (единственное число), нет носков, без носков, пара носков (родительный падеж множественного числа). Впрочем, в переносном значении (и только) можно было сказать: В зале было много синих чулков (т.е. умученных наукой и непомерными познаниями ученых барышень-тетенек). Устная речь неуклонно развивается в направлении упрощения и демократизации. Значит, так надо.
Существуют стили произношения: высокий, нейтральный, разговорный. Такое деление восходит к учению о «трех штилях», обоснованному М.В.Ломоносовым в его «Риторике». Можно сказать иначе: есть высокая, нейтральная и разговорная лексика. Нас интересует, в первую очередь, разговорная манера и лексика. О них ниже.
Подумал я, подумал и вернулся вновь к существенному различию произносительных норм в Питере и Москве. Читатель, как ты произносишь такие обыденные слова, как булоЧная, собаЧник (заводчик псов), яиЧница? Я произношу так, а Ты? Природный москвич непременно произнесет эти слова иначе: булоШная, собаШник, яиШница. Вот это остается пока. И еще. Москвичи «Икают» (ударение на первом слоге), т.е. в разговоре никогда не различают звуки «и» и «е»; в неударной позиции. Примеры: рИбИна, пИтАк, ЙИпОнец, мИснИк». В Питере в данной позиции все-таки чаще произносят звук, близкий к «е»: рЕбина, пЕтак и т.д. Приведу такой пример. Москвич произнесет: девушка мИла (краткое прилагательное) и девушка мИла (т.е. подметала пол, глагол прошедшего времени) совершенно одинаково (звук «и» и все). А питерец произнесет так: девушка мЕла пол. Звуки четко различаются. Вот еще пример: в Москве «нИинтереснА», в Питере «нЕинтереснА». Мы «акаем», т.е. не различаем в неударной позиции звуки «о» и «а» (произносим: кАрова, гАлава, хАрАшо (в отличие от носителей северно-русских говоров, где эти звуки четко различаются).
Есть в современной уличной устной речи презабавные феномены. К примеру, люди говорят: он звОнит (по телефону, в дверь; не звонИт). Почему так? Объяснению не подлежит. Видимо, так удобнее артикулировать. Об ударениях.
В русском языке ударение – динамическое, подвижное, разноместное, т.е. может приходиться на любой слог в слове (в отличие от французского, где ударение всегда приходится на последний слог, и от польского – ударение всегда на предпоследнем слоге). Русский язык благодаря этому особенно певуч и благозвучен (а уж тем паче русская поэзия). Я хочу сказать о том, что неверное ударение не всегда признак вульгарного просторечия. Есть такое понятие «профессиональное арго» (профессиональный язык, жаргон). К примеру, моряк скажет «рапОрт» (не рАпорт), «компАс» (не кОмпас); физик-химик: формУла (не фОрмула); сотрудник правоохранительных органов непременно скажет: «осУжденный» (не осуждЁнный). Ваш покорный слуга знает, что нужно говорить каталОг, однако, будучи архивной крысой, произносит катАлог (профессиональная привычка).
Русский язык в нашу баснословную эпоху кипит, бурлит, как тесто, прет из квашни. Происходят удивительные процессы. Читатель, обрати внимание: в газетах, по радио и телевидению постоянно, изо дня в день, слышно «позитив» (нечто хорошее) и «негатив» (нечто плохое). Еще совсем недавно это были фотографические термины (фотопроявка). В обиходе употреблялись прилагательные «позитивный» и «негативный».
Кое-что о дивных словечках: «колбасить» («колбаситься») и «плющить». Замечательные словечки из молодежного «сленга», понятные и исключительно экспрессивные и, главное, лексически богатые оттенками значений. Скажу о себе: я «прусь» от Виктора Пелевина, меня от него «колбасит» и «плющит». Думаю, что через годик я буду мастрячить свои заметки в таком языковом «формате». До новых встреч.
Октябрь-ноябрь 2005 г. Петергоф.
Чак Паланик, или Кнут и Пряник .
Чак Паланик. Уцелевший.
Роман. Перевод с английского
Т.Ю.Покидаевой. М., Издательство «Аст».
Серия «Альтернатива». 2005. 315 С. Тираж 5000 экз.
Читатель, поговорим о романе «культового» (как теперь принято изъясняться) американского писателя, «короля контркультурной прозы», как пишут о нем, крупнейшего представителя «альтернативной прозы».
Несколько слов об этих терминах, которые многие считают ответвлениями пресловутого постмодернизма. Мол, в произведениях Чака Паланика читатель подвергается писательской агрессии, в них нет некоего тоталитарного «послания», что характерно для классической литературы. Чушь это все собачья. На постмодернизме во всех его изводах лихие люди «срубили» лихие «зеленые» деньги. Нехорошо дурить доверчивых читателей.
В «Уцелевшем» – обратная нумерация глав и страниц (т.е. книга начинается с 47 главы и 315 страницы). Ну, ясное дело, «критики толстопузые» (Пушкин) сразу усмотрели в этой изящной литературной игре признаки «контркультурности» и «альтернативности». На самом деле бывает хорошая и очень хорошая литература, а все остальное – макулатура.
Как всегда, несколько фраз об авторе. Чак Паланик родился 21 февраля 1962 г. в городе Портленде (штат Орегон), где проживает и по сей день. В его жилах течет французская и украинская кровь. Правильнее было бы транскрибировать его фамилию по-русски: ПАЛАНЮК. Во всех анкетах писатель почему-то указывает, что его рост равен 180 см, а вес 86 кг. Не худенький! Будущий писатель окончил факультет журналистики Орегонского университета. Писать стал поздно, после тридцати годочков. В 1994 г., работая механиком-дизелистом, написал первый роман «Невидимки», который был отвергнут всеми издателями. Паланик разгневался и написал роман «Бойцовский клуб», ставший мировым бестселлером. Одноименный фильм Дэвида Фингера, поставленный по этому роману, справедливо считается одной из лучших кинокартин последнего десятилетия минувшего века. Журналисты выдумали (а, может быть, и не выдумали) легенду, что дед писателя застрелил несколько членов своей семьи.
«Уцелевший» – третий роман Паланика (яростный и великолепный, трагический и сатирический). О чем книга? Не просто рассказать, но попробую. Прежде всего, о рае и аде! Пожалуй, так! Серьезные мистики-визионеры серьезно полагают (точнее, знают), что рай – это не санаторий для партхозактива, а ад – не советский истребительно-трудовой лагерь (как пугают друг-дружку-подружку бывшие комсомолки, а ныне – церковные ревнительницы-охранительницы). Рай – полное молока и меда, веселое, вечное ощущение-понимание Богоприсутствия всегда и во всем. Ад – трагическое, зудящее и саднящее переживание Богооставленности. Так скажем.
Герои Паланика пакостничают, лгут, убивают, губят себя и других в смутной надежде обрести веру в спасение и искупление, пусть для этого придется отправиться в «Поход в Небеса». В кромешном отчаянии они горестно жаждут, что Господь протянет им пронзенную гвоздем руку, погладит по головке и простит… Ад – внутри них, внутри нас. В этом и коренится горячечный и пульсирующий трагизм книги.
В основе сюжета романа лежит история секты «Церковь Истинной Веры», якобы благостной, а на самом деле… . В общине оставались только сыновья-первенцы, которым специально находили жен. Всех остальных по достижении семнадцати лет принудительно отправляли в мир. Всех «Тендеров» (в переводе: «слуга») и «Бридди» (мужчины и женщины носили одинаковые имена) в общине долго обучали домоводству и этикету. В «людях» они становились домоправителями в семьях богатых людей, однако жалование отсылали домой, т.е. работали десятилетия лишь за еду и постель. Вот он, кнут. А пряник? Увы, пряника нет и не будет в юдоли нашей скорбной. Только на небесах. Финал Церкви Истинной Веры (нет, не скажу).., оставшиеся вне общины менеджеры-домоправители в течение десяти лет один за другим…
Внимание! Обращаюсь к замужним дамам и холостым дяденькам: книга изобилует чрезвычайно толковыми и абсолютно реальными советами по домоводству: как сделать, чтобы свечи не оплывали, как готовить омаров, чем собирать осколки стекла, как эффективно чистить щели между кафельной плиткой, как уничтожить отеки под глазами и т.д. и т.п. Это новое качество новой литературы: сообщать читателю новые ПРАКТИЧЕСКИЕ сведения из разных сфер. К примеру, Паланик даже рассказывает о том, как безнаказанно, используя кассовые чеки, жульничать в магазинах.
Над людьми, изгнанными из секты, витает какая-то мрачная эротическая тайна. Читатель начинает думать, что их кастрировали. Нет, на самом деле их заставляли…
Главные герои романа: Тендер Бренсон, брат-близнец Адам, который на три минуты его старше, но получивший совсем иную долю по этой причине, и Фертилити (в переводе с английского: «плодородие», «изобилие») Холлис, пророчица, ясновидящая, знающая будущее, суррогатная мать, которая не может… Адам сыграет демоническую, провокационную роль в трагическом финале… Все мужчины-старейшины носили имя Адам, все их жены были Сарами. Тайна секты коренится в том, что они … своих детей.
Трагические и невероятные, преступные и благородные приключения этой троицы и наполняют «тело» романа. Сюжет изящен, примитивен, прост и сложен одновременно. Сюжет раскрывать я ни в коем случае не намерен, читай и обрящешь.
В этой очень не смешной книге чрезвычайно силен сатирический элемент. Паланик просто с ювеналовой, щедринской мощью и злостью обрушивается на религиозную жизнь современной Америки, где конфессия становится торговой корпорацией, приносящей баснословные доходы в результате гнусных манипуляций над душами наивных и доверчивых обывателей. Акт исповедания веры – на стадионах в перерыве спортивного матча, в телевизоре, в коммерческих квазицерковных побрякушках.
Писатель яростно обрушивается (как новый Ницше) на либеральное общество с его обветшалой верой в разум и прогресс, на массовую мещанскую культуру. Многие страницы в этом скорбном романе уморительно ироничны.
Паланик и его герои экзистенциально переживают грядущую смерть и грядущее бессмертие. Они не думают о воздаянии в смутной надежде на недостижимое и непостижимое спасение… «Над кем витал самоубийства обворожительный дымок»… Горячий ветер чаемого и отвергаемого последнего (губительного, смертного) акта человеческой воли, как хамсин, дышит писателю и читателю в лицо, сжигая повествовательную ткань романа.
Книга лупит по голове, как деревянный молоток. Читатель переживает некий эстетический шок (употребим это дамское словечко). По словам Паланика, «весь мир – это несчастье, которое только и ждет, чтобы грянуть» (С. 50). Вот как он формулирует основную проблему современного общества: «Главный вопрос, который теперь задают себе люди, это не “В чем смысл существования?”… Главный вопрос – это “Откуда эта цитата?”» (С. 118).
Закругляюсь. В Америке сегодня чрезвычайно популярна теория «Разумного Дизайна», которая сводится к тому, что человек и социум настолько сложны, прихотливы, рациональны и иррациональны, что они не могли возникнуть случайно, по невероятной прихоти Природы. Следовательно, есть некий Дизайнер (пусть не Бог, но неведомый Кто – то, источник «креатива»), слепивший-создавший наш прекрасный и ужасный, нежный и грубый, возвышенный и похабный мир. К чему это я? А к тому, что Паланик исповедует и проповедует концепцию «Неразумного Дизайна»: мир невнятен и алогичен, как бред шизофреника.
Но писатель все же лукаво дарит призрачную надежду на… Тендер Бренсон вольно или невольно захватывает самолет и летит в… Кажется, … его неизбежна, но все же, все же, все же… «Не чувствуй зло. Не смотри на зло. Не слушай зла. Не бойся зла» – таков «мессидж» писателя к читателю (С. 73). Вот такая книга, своеобычная и незабываемая.
12 октября 2005 г. Петергоф.
Романтический шпионаж, или Антиштирлиц. Борис Акунин. Шпионский роман.
М., Издательство «Аст».
Серия «Жанры». 2005. 399 С. Тираж 150000 (сто пятьдесят тысяч) экз.
«Великий и ужасный» Борис Акунин (в такой тональности простодушные критики про него и пишут) предпринял небывалый в русской словесности проект: «Жанры». Автор вознамерился создать некий образцовый «тезаурус» прозаических жанров. Писатель уже издал «Детскую книгу», «Фантастику», вот-вот появятся «Семейная сага», «Производственный роман», «Триллер», «Исторический роман» и т.д. Грандиозные свершения, ей-Богу.
У нас пойдет разговор о «Шпионском романе». Название книги корреспондирует заглавию великого детектива Артура Хейли «Детектив».
Как всегда, несколько слов об авторе (к книгам Акунина мы не раз еще будем обращаться). Григорий Шалвович Чхартишвили, известный читателю как Борис Акунин (в переводе с японского – «плохой человек»), родился 20 мая 1956 г. в Тбилиси, ребенком был увезен в Москву. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки, дипломированный «японист». Много лет проработал заместителем главного редактора журнала «Иностранная литература». Легендарный («культовый») переводчик с японского. Его переводы замечательных романов Юкио Мисимы признаны образцовыми. Под его редакцией вышла двадцатитомная «Антология японской литературы». Автор глубокого исследования «Писатель и самоубийство» (М., 1999), цикла романов о сыщике Эрасте Фандорине, монахине Пелагии и многих других. Один из самых читаемых и почитаемых авторов в новой России.
Это моя шестая заметка об Акунине. Первые две вызвали отвержение-отторжение у моих коллег, мол, низко, бульварное чтиво и т.д. Теперь они сами взахлеб читают его книги. Первый роман Акунина «Азазель» – такого же качества, как и его последние книги. В чем же дело, братики-сестрички? Вы же профессионалы. Это высокая и, главное, поразительно интересная (до головокружения) новая русская литература. Почему занимательность-увлекательность книги – порок, ума не приложу. Много есть великих книг (к примеру, «Петербург» Андрея Белого, «Улисс» Джеймса Джойса, «Волшебная гора» Томаса Манна), которые современный человек прочитать не может (скучно, длинно, да и времени нет). Долгое раздумчивое чтение осталось в далеком прошлом. В этом нет мнимой заслуги радио – телевидения – интернета, но нет и метафизической вины.
Действие романа происходит в Москве, за несколько недель до начала Великой Отечественной войны. Читатель в первых же главах узнает о кровавой схватке, невидимом сражении между немецкой и советской разведкой («Абвер» Канариса и группа «Затея», непосредственно подчиненная Железному Наркому Л.П.Берии). Главные герои романа – старый чекист Октябрьский (такую фамилию он получил за революционные заслуги; его имя и отчество в книге не приводятся, руководитель группы), молодой «наркомвнуделец» Егор Дорин и немецкий агент Вассер.
Читатель, обрати внимание – Дорин. Ну, как не вспомнить Фандорина. Правильно! Егор рассказывает Октябрьскому: «Фамилия у меня по месту рождения, деревня Дорино. Бабушка рассказывала, помещики такие были – Фон Дорены (так!)… Те деревенские, у кого фамилия Дорин, пошли от Сладкого Барина – жил сто лет назад такой помещик, большой охотник до баб» (С. 116). Намек прозрачен. Великий Фандорин обретает бессмертие в своем потомке.
Роман начинается со встречи Гитлера с руководителями Абвера и последующей доверительной беседы Канариса со своим заместителем, сын которого… Для возглавителей немецкой разведки Гитлер «свинья», пусть «гениальная», но презренная «свинья». Для советских контрразведчиков Сталин – богоданный Вождь, окутанный мистическим ореолом, вызывающий одновременно самый искренний религиозный экстаз и животный страх. Почувствуйте разницу, как говорится в пошлой рекламе.
Автор тщательно и умело воссоздает удушливую атмосферу предвоенной Москвы: страхи, фобии, предчувствие грядущих апокалипсических ужасов, мелкую суету, доносы, ненависть к «интеллигентам».
Почему в заголовке «Романтический шпионаж»? Образ главного героя Егора Дорина дан в развитии (как писали в советских учебниках литературы): переживая тяжелейшие испытания, он мужает, страдает и думает, отковывает дух и постепенно превращается в Мужчину (с большой буквы). Дорин романтически влюбляется в прелестную барышню-дворянку Надежду, со страхом и подсознательным восхищением узнав, что она не «комсомолка» и «ходит в церковь». Такие были времена, хорошо, чтобы не вернулись. Узнав, что Дорин – из «органов», Надежда дважды… (не скажу, сами читайте). Надежда, честная, искренняя, доверчивая, представляется Дорину посланцем иного мира, где нет лжи, фальши, подлости, измены. Вот его, сына крестьянина и немки-колонистки, первое впечатление от встречи с Наденькой: «”Интеллигенция”, определил про себя Егор, потому что нормальные девушки таким тоном не говорят и выражений типа “благодарю вас” не употребляют. Ему сразу захотелось уйти в отрыв – охота была тратить время на цирлихи-манирлихи» (С. 40). Однако он остался и влюбился до гробовой доски.
Увы, и немецкие, и русские разведчики исповедуют примитивную головорезную идеологию, которая сводится к «сухому остатку»: «Нравственно все, что на пользу дела. Безнравственно все, что делу во вред» (С. 60); «Доброта – не всеобщий эквивалент. Она, как и все на свете, понятие классовое, политическое. Что плохо для врага, то хорошо для нас» (С. 123); «Либерализм и демократия – сладкая сказочка для жирных и беззубых» (С. 133-134). У смертельных врагов – русских и немцев – одно и то же «кредо». Из-за этих нехитрых постулатов реки крови пролились на Руси-Матушке. Кстати, эти фразы произносит старший майор госбезопасности Октябрьский, репрессированный, подвергнутый страшным пыткам, возвращенный в органы всесильным Берией, умный, честный, все понимающий, но ослепленный примитивным «марксизмом» и палаческим энтузиазмом. Люди жили тогда в каком-то добровольном помрачении, с одной стороны, понимали все (казни, тотальная государственная ложь, звериная жестокость), а с другой – не понимали НИЧЕГО.
О Железном Наркоме. Берия, перед которым испытывают давящий страх как простые люди, так и его сослуживцы (в большей степени) пресмыкается перед Сталиным, скрывая из подлого, холопского страха сверхважную информацию о нападении Германии.
Интрига романа состоит вот в чем. Почему Сталин, многократно предупрежденный (в том числе и Черчиллем) о ДАТЕ начала войны с нацистским Рейхом, поверил Гитлеру, не принял соответствующих мер, помешал военачальникам развернуть войска против Германии. Акунин предлагает пусть и фантасмагорическую, но чрезвычайно элегантную и хитроумную версию.
Немецкий агент Вассер, занимающий важный пост в аппарате (не скажу) проникает к Сталину и в результате дерзкой провокации убеждает его в том, что война начнется (опять не скажу). Вот почему в заголовке «Антиштирлиц»! Немецкий агент успешно совершает самую грандиозную операцию-провокацию в истории разведки. Масштаб успеха Вассера «в разы» (как теперь принято говорить) превосходит подвиги Штирлица.
Вот этого-то Вассера и ловят Октябрьский и Дорин и, в конце концов, захватывают с поличным. В чекистской «Спецлаборатории» Вассеру вводят «сыворотку правды» и он «раскалывается», назвав подлинную дату (молчок). Колоссальный успех по захвату самого важного агента немецкой разведки заканчивается полным провалом. Вассера освобождают и с извинениями доставляют в Германию потому, что Нарком испугался за свою шкуру, скрыв от Сталина правду, изложенную в донесении Октябрьского. Старый чекист, опасаясь нового ареста и новых пыток, добровольно уходит из жизни. Дорин отправляется в отпуск до 23 июня. Ну, а что началось 22 июня, читатель знает… Занавес опускается. Дорин остается на распутье в преддверии исторической катастрофы. Автор не ставит финальную точку в его судьбе. Линия «Фандориных», возможно еще протянется…
Вот такая книга. Открой – не оторвешься. Все хоронят недобросовестные доброхоты русскую словесность. Неужели не надоели байки про «самую читающую страну в мире» в советские годочки. Люди тогда читали только то, что было дозволено-разрешено. Сейчас и книг-то выходит несравненно больше, чем тогда, и люди читают то, что хотят. Не надо их учить и им мешать…Vale!
19 октября 2005 г. Петергоф.
Тайный орден, или Орденская тайна. Дэн Браун. Ангелы и демоны. Роман.
Перевод Г.Б.Косова.
М., Издательство «Аст». 2005. 606 С.
Дополнительный тираж 20 000 экз.
Произведения Дэна Брауна переводятся и издаются в разных странах совсем не в той последовательности, в какой они были написаны. Это объясняется мировым успехом романа «Код да Винчи», после которого стали переводить предыдущие романы Брауна. Книга «Ангелы и демоны» (2000 г.) предшествует «Точке обмана» (2001 г.) и «Коду да Винчи» (2003 г.).
Беру быка за тестикулы: «Ангелы и демоны» ни в чем не уступают «Коду да Винчи». И что чрезвычайно интересно: главным героем этих книг является сорокапятилетний Роберт Лэнгдон, профессор Гарвардского университета, специалист по религиозной символике. Я писал, что опусы Дэна Брауна являются интеллектуально-развлекательными триллерами. Все так, все именно так.
Сюжет «Ангелов и демонов» не просто головоломен, но головоПРОломен, ей-богу. Убийства, казни, погони, перестрелки, взрывы, невероятные приключения, обманы, ложные ходы, обличения-разоблачения. Автор следует нормативной классицистской поэтике (как Расин, Сумароков, Грибоедов). В книге соблюдены «единство времени» (действие романа занимает одни сутки), «единство места» (практически все события происходят в Риме) и «единство действия» (все подчинено одной, ошеломительной интриге). Рим – древний, но вечный – один из главных героев романа. Упоительный Рим: прекрасный и смертельно опасный, небесный и земной. Помимо прочего, роман Дэна Брауна – превосходный бедекер-путеводитель по Вечному Городу.
Приведу краткое уведомление «От автора»: «В книге упоминаются реальные гробницы, склепы, подземные ходы, произведения искусства и архитектурные памятники Рима… Их и сегодня можно видеть в этом древнем городе. Братство “Иллюминати” (так!) также существует по сию пору» (С. 9). Древний орден иллюминатов (от латинского «illuminatio» – свет, освещение, просвещение; иллюминаты – просвещенные) имеет богатую родословную. Например, одним из самых известных иллюминатов в истории был Галилео Галилей. Информированные люди полагают, что иллюминаты и по сей день тайно возглавляют всемирную масонскую сеть, причем рядовые масоны об этом и понятия не имеют.

