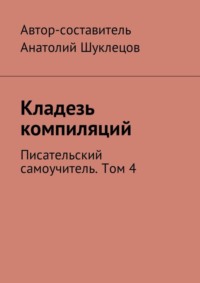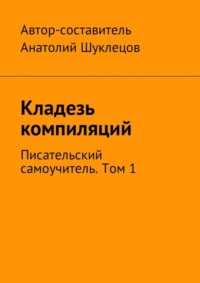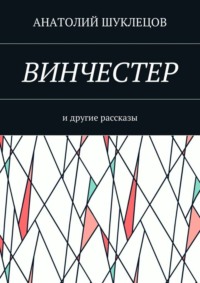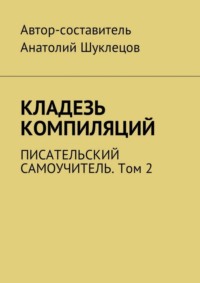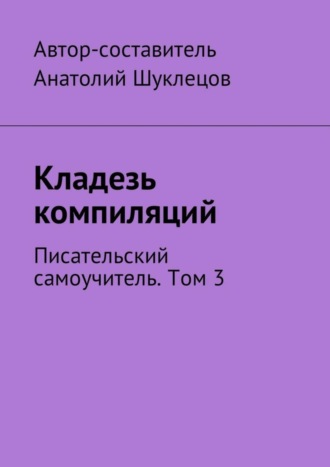
Полная версия
Кладезь компиляций. Писательский самоучитель. Том 3
79.13. Настоящее слишком раздражает…
Чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо было для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно переходит в сатиру. // Смотри, чтобы впечатление . Посмотреть и сразу после этого описывать – не наилучший метод. Чересчур много занимаешься деталями, колоритом и недостаточно – его духом. Сколько раз, увлечённый тем, что было у меня перед глазами, я спешил это вставить в своё произведение, а потом обнаруживал, что всё надо убрать! Колорит, подобно пище, должен быть переварен и впитан в кровь мысли. // Я оставил этот план, потому что творчество требует спокойного наблюдения уже установившихся и успокоившихся форм жизни, а современная жизнь слишком нова, она трепещет в процессе брожения, слагается сегодня, разлагается завтра и видоизменяется не по дням, а по часам. Нынешние герои непохожи на завтрашних и могут отражаться только в зеркале сатиры, лёгкого очерка, а не в больших эпических произведениях. Рисовать трудно, да и нельзя с жизни ещё не сложившейся, где формы её не устоялись, лица не наслоились в типы. Писать самый процесс брожения нельзя: в нём личности видоизменяются почти каждый день – и будут неуловимы для пера. // Я ещё не отдалился от описываемых событий настолько, чтобы выработать на них разумную точку зрения. Со мною ещё не произошло многое из того, что впоследствии обогатило мою книгу. Я всегда давал материалу отстояться у меня в мозгу, прежде чем перенести его на бумагу. Первый из тех рассказов, для которых я делал заготовки в Полинезии, был написан лишь через четыре года после того, как я там побывал. // Толстой писал с отдаления, и более олимпийски. Вы в злободневности, пестроте, в боли вчерашней. Вам труднее. Кроме пафоса обличительного, чаще всего уводящего от высокого художества, Вас могут упрекнуть и в другом: вообще в перевесе документального, choses vues, над вымыслом творческим. Николай Гоголь. не повлияло слишком сильно Гюстав Флобер. Иван Гончаров. Сомерсет Моэм. Борис Зайцев – в письме Солженицыну.
79.14. Нужно отойти от событий…
Чем скорее и стремительнее высказывается впечатление, тем чаще оно оказывается поверхностным и мимолётным. // Чтобы рассмотреть холмик, надо приблизиться к нему. Чтобы увидеть гору, надо отойти от неё подальше. // Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстояньи. // Самое недоступное прошлое – вчерашний день. // О лете можно хорошо написать только зимой, когда этого лета очень хочется. Я должен отойти от впечатления, чтобы изобразить его. Я умею писать только по воспоминаниям, и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично. // Почти у всех писателей, которые не лишены , есть способность, которую я не назову воображением, – способность представлять предметы отсутствующие так живо, как будто они пред нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда, когда мы отдалимся от предметов, которые описываем. Прошедшее, отрывая нас от всего, что ни есть вокруг нас, приводит душу в то тихое, спокойное настроение, которое необходимо для труда. Мне нужно было это удаление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России. // События и люди, когда мы от них удаляемся, постепенно увеличиваются в нашем воображении, точно скалы во мгле. // Всё близкое отходит вдаль, а дальнее, приблизившись, приобретает ясность. // Нужно немного отойти от событий, или, как говорил Бальзак, нужно, чтобы всё хорошенько отстоялось. «Поэзия – это такое переживание, о котором вспоминают, уже успокоившись». Если ты только что потерял возлюбленную, не садись сразу за роман. Рана ещё кровоточит, её нужно перевязать, а не бередить. Когда она затянется, ты испытаешь горькое удовольствие, прикоснувшись к ней. Боль будет не настолько сильна, чтобы исторгнуть у тебя стон, но рана будет ещё достаточно ныть, чтобы побудить тебя запеть. Слово «запеть» применимо не только к поэту, но и к романисту. // В течение нескольких лет материал этот казался мне слишком хорошо знакомым, чтобы можно было писать о нём. Николай Добролюбов. Эмиль Кроткий. Сергей Есенин. Сергей Аверинцев. Антон Чехов. творчества Николай Гоголь. Виктор Гюго. Иоганн Гёте. Андре Моруа. Вениамин Каверин.
79.15. В силах воскресить всё…
Иногда подвернётся какая-нибудь интересная новенькая мысль – откладываю её в долгий ящик памяти, которая, как я обнаружил, работает лучше, чем ожидал. Удивляюсь, как это прежде совершенно ей не доверял и всякую мелочь записывал. // Не во власти человека терять что-то из памяти. // Но что же такое эта самая память? Не что иное, как действие воли. Это видно из того, что мы помним не более того, что желаем вспомнить. // Я отчётливо понимаю, что в силах воскресить в своей памяти всё бесконечное множество виденных за все шестьдесят лет картин. Где-то в мозгу хранятся бесконечные ленты с этими сведениями, и волевым усилием я могу заставить себя вспомнить всё, что я видел в жизни, в любой день её и час моих шестидесяти лет. В мозгу ничего не стирается. Работа эта мучительна, но возможна. Тут всё зависит от напряжения и сосредоточения воли. Но дело в том, что напряжение иногда приносит ненужные картины – а для насыщения, удовлетворения, наполнения ежедневной страсти творческой достаточно немногих картин. Однажды не использованные картины опять наслаиваются, чтобы быть вызванными через десять или двадцать лет. // Нужно очень сосредоточиться – тогда из памяти начнёт всплывать. // Есть некая глубоко забытая точка, из которой лучатся воспоминания. // Верная и деятельная память удваивает жизнь. // Всё существует до тех пор, пока кто-то об этом помнит. // Память – это преодоление отсутствия. // Память людей – это незаметный след той борозды, который каждый из нас оставляет в лоне бесконечности. // Память противостоит уничтожающей силе времени. // Память – грозное оружие. Испокон века против течения Леты движется многоводная и неиссякаемая река человеческой памяти. // Когда спросят нас, что мы делаем, мы ответим: мы вспоминаем. Да, мы память человечества, поэтому мы в конце концов непременно победим! // В этом мире всё приходит и всё уходит. Что было вчера – того нет сегодня. В этом мире только звёзды извечны, что правят свой путь при извечной луне, только вечное солнце извечно с востока встаёт, только земля черногрудая на извечном месте своём. А на земле только память людская живёт дольше всех, а самому ж человеку путь отмерен короткий – как расстояние между бровями. Только мысль бессмертна, от человека к человеку идущая, только слово извечно, от потомков к потомкам идущее. // О, погреб памяти! Давно я не был в нём. /// Александр Солженицын. Тацит. Пётр Чаадаев. Варлам Шаламов. Александр Солженицын. Морис Бланшо. Оноре Мирабо. Джоди Пиколт. Пьер Жане. Жозеф Ренан. Дмитрий Лихачёв. Сергей Довлатов. Рей Брэдбери. «Манас». Велимир Хлебников.
80. ПЕРЕВОД
Перепёр он нам Шекспира на язык родных осин.
Иван Тургенев.
80.1 – 80.15: Почтовые лошади просвещения. – Самый внимательный читатель. – Всегда несовершенен. – Разница между языками. – Невозможно перевести без потерь. – Славянский менталитет. – Издевательство над поэзией. – Нужна конгениальность. – Перевыразить по-русски. – Правило переводчиков. – Советская переводческая школа. – Утекает творческая энергия. – Пою дуэтом. – Всё больше понятных мест. – Переводы поистине художественные.
80.1. Почтовые лошади просвещения…
Переводы являются тем, что даёт возможность каждому народу черпать в сокровищницах другого, обмениваться своим прошлым, делить своё настоящее и вместе выковывать будущее. // Работаю с неслыханной охотою я только потому над переводами, что переводы кажутся пехотою, взрывающей валы между народами… Пучины розни разделяют страны. Дорога нелегка и далека. Перевожу, как через океаны, поэзию в язык из языка. // Переводчики – почтовые лошади просвещения. // Я перевёл Шекспировы сонеты, пускай поэт, покинув старый дом, заговорит на языке другом, в другие дни, в другом краю планеты. // И так да переводят, которые цветут из наших искусством языков, всё что достойнейшее в чужих языках, на наш Российский язык. // Есть люди, которым оригинальное творчество почему-то не даётся. Зато по чужой канве они вышивают с блеском; органическая способность к перевоплощению. В этой области есть свои гиганты, посредственности, неудачники, шедевры и провалы. // Особый характер таланта «переводческий». Маршаку всегда нужно нечто, начатое не им, существующее как некий поэтический образ. То, что он делает «сам» на голом месте, всегда слабее. За исключением может быть некоторых блёстков сатиры и поздней лирики, хотя она тоже от «переводов». Татьяна Щепкина-Куперник. Борис Слуцкий. Александр Пушкин. Самуил Маршак. Василий Тредиаковский. Сергей Довлатов. Александр Твардовский.
80.2. Самый внимательный читатель…
Каждодневное продвижение по тексту ставит переводчика в былое положение автора. Он день за днём производит движения, проделанные великим прообразом. Не в теории, а на деле сближаешься с некоторыми тайнами автора, ощутимо в них посвящаешься. // То, что ускользнуло от читателя, не может укрыться от переводчика. // Спустя какое-то время писатель, которого ты переводишь, как будто течёт в твоих венах, тебе кажется, ты его знаешь, ты побывал у него в гостях. // Мне кажется, что в большинстве случаев переводчик начинает работу перевода сразу, как только книга попала ему в руки, не прочитав её предварительно и не имея представления о её особенностях. Но и по одной, хорошо прочитанной книге нельзя получить должного знакомства со всеми техническими приемами творчества автора и характером его фразы. Следует читать всё, что написано данным автором или хотя бы все его книги, признанные лучшими публикой и критикой. Переводчик должен знать не только историю литературы, но так же историю развития творческой личности автора. Только тогда он воспроизведёт более или менее точно дух каждой книги в формах русской речи. Требование тяжкое, однако необходимое. // Переводчик, по определению, самый внимательный читатель и глубина его прочтения зависит от его языка, культуры и от степени знакомства с тем писателем, который переводится. У меня всегда была возможность глубоко вникать и изучать творчество тех писателей, которых я переводила. // Если вы не первая переводите что-нибудь, не читайте работу своего предшественника, пока вы не закончите свою, а то память может сыграть с вами злую шутку. Борис Пастернак. Плиний Младший. Аннелиза Аллева. Максим Горький. Барбара Лённквист. Михаил Лозинский – Ахматовой.
80.3. Всегда несовершенен…
Перевод что женщина: если она красива, она неверна, если верна – некрасива. // Никакие слова, в которые мы пытаемся облечь мысль, не могут полностью передать присущую ей неуловимую красоту. Поэтому-то перевод всегда несовершенен, и тот, кто не говорит на чужом языке, ощущает это сильнее знающего язык. // Оригинал неверен по отношению к переводу. // Бывают прекрасные переводы. Но точных не бывает. // Перевод – это искусство неточности. // Вода и наичистейшего источника, пройдя через несколько сосудов, загрязняется (о переводах). // Перевод есть не более чем гравюра: колорит неподражаем. Переводы весьма часто похожи на оборотную сторону вышитых на ковре узоров. // …чтение переводов – это как разглядывание обратной стороны гобелена. // Переводы – всё равно что медные монеты, которые могут представлять собою ту же ценность, что и червонец, и даже имеют большее хождение в народе, но они всегда неполновесны и низкопробны. // Переводы – это цветы под стеклом. // Переводчик напоминает сводню, которая, расхваливая достоинства прикрытой вуалью красавицы, вызывает непреоборимое желание познакомиться с оригиналом. // Всякий переводчик – интерпретатор. Всякий перевод уже является истолкованием. // Перевод – это всегда интерпретация. // Музыка одна является мировым языком и не нуждается в переводе, ибо говорит душе. // Интерпретация – это месть интеллекта искусству. // Переводы – это удачные переодевания, когда они не бывают карикатурными. // Перевод плох, если он яснее, понятнее оригинала. Значит, он не сумел сохранить многозначительность авторского текста, а переводчик спрямил путь, совершив преступление. // Легче сделать более чем то же. // Буквальный перевод: передача точного контекстуального значения оригинала, столь близко, сколь это позволяют сделать ассоциативные и синтаксические возможности другого языка. Только такой перевод можно считать истинным. // Всякий перевод представляется безусловной попыткой разрешить невыполнимую задачу, ибо каждый переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух подводных камней, слишком точно придерживаясь либо подлинника за счёт вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счёт подлинника. Генрих Гейне. Натаниэль Готорн. Хорхе Борхес. Анатоль Франс. Владимир Гандельсман. Арабская мудрость. Пьер Буаст. Мигель Сервантес. Шарль Монтескьё. Вольфганг Менцель. Иоганн Гёте. Георг Гадамер. Барбара Лённквист. Бертольд Ауэрбах. Сьюзан Зонтаг. Пьер Буаст. Эмиль Чоран. Квинтилиан. Владимир Набоков. Вильгельм Гумбольдт.
80.4. Разница между языками…
Требование верности оригиналу, которое мы предъявляем к переводу, не снимает принципиального различия между языками. Всякий перевод, всерьёз относящийся к своей задаче, яснее и примитивнее оригинала. // Языки не накладываются друг на друга, как калька, к тому же они текучи. Поэтому у каждого переводчика свой Шекспир, свой Гейне, свой Блейк. // Разница между языками столь велика, что одно и то же выражение кажется грубым в одном языке и возвышенным в другом. // Каждый язык имеет своё собственное стихосложение, и размер, мягкий на одном языке, может показаться грубым, если перевести его на другой. // Там, где требуется перевод, там приходится мириться с несоответствием между точным смыслом сказанного на одном и воспроизведённого на другом языке. // Русские слова в целом длиннее английских, но короче финских. Это особенно ощутимо при переводах поэтических текстов с одного языка на другой. Переводя «Песнь о Гайавате» Иван Бунин говорил: английские слова слишком короткие, а русские, по сравнению с ними, очень длинные, поэтому русский стих как бы отстаёт от английского. Переводя «Калевалу» Л. Бельский сетовал: русские слова слишком короткие, по сравнению с финскими, и русский стих постоянно уходит вперёд. // Немецкий язык более громоздкий. Русская фраза, состоящая из пяти слов, может быть переведена на немецкий только как предложение из десяти слов. // Некоторые немецкие слова настолько длинны, что их можно наблюдать в перспективе. Когда смотришь вдоль такого слова, оно сужается к концу, как рельсы железнодорожного пути. // Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами. // Подлинное знание чужого языка заключается не в умении переводить с него, а в осознании его непереводимости. // И вдруг он (датский литературный критик Георг Брандес) разражается гневом против переводов, доказывая, что произведения, написанные на каком-нибудь определённом языке, непереводимы на другой язык, что мы не можем получить ни малейшего представления о языке Ибсена, так же как о языке Стриндберга. // Это лишь перевод, а хороших переводчиков никогда не бывало. // Я научился читать по-английски раньше, чем по-русски. Русские переводчики с английского – ослы просвещения. // Переводчик по отношению к автору – то же, что обезьяна по отношению к человеку. // Переводчик нередко – жестокий музыкант, берущийся исполнять на флейте мелодию, написанную для скрипки. // Прочтите, что пишут американцы о Толстом, или французы о Чехове, или англичане о Мопассане – и вы поймёте, что духовное сближение наций – это беседа глухонемых. // Перевести произведение с одного языка на другой – всё равно что снять с него кожу, перевести через границу и там нарядить в национальный костюм. Георг Гадамер. Джон Драйден. Валерий Брюсов. Георг Гадамер. Полина Дашкова. Марк Твен. Александр Пушкин. Иосиф Левин. с пеной у рта Эдмон Гонкур. Оноре Бальзак. Владимир Набоков. Генрих Гейне. Безымянный автор. Корней Чуковский. Карл Краус.
80.5. Невозможно перевести без потерь…
Ни один из наших критиков не указал литераторам, что язык, которым они пишут, или трудно доступен или совершенно невозможен для перевода на иностранные языки. // Здесь можно решать скромные профессиональные задачи, а можно штурмовать неприступные стены. Льва Толстого, например, переводить легче, чем Гоголя; скажем, Тургенева проще, чем Лескова. А ведь есть русские писатели, всё творчество которых основано на словесных аргументах. Оно погружено в корнесловие, насыщено метафорами, изобилует всяческой каламбуристикой, аллитерациями, цеховыми речениями, диалектизмами. Достаточно вспомнить Хлебникова, Замятина, Ремизова, писателей орнаментальной школы. // …писатели-деревенщики. Им трудно получить всемирное признание, ибо нельзя замыкаться узким кругом проблем. Надо понимать, что местные диалекты непереводимы на иностранные языки. // Хороших переводов моих текстов почти нет. Кроме «Крохоток» и рассказа «Матрёнин двор» вообще нет сколько-нибудь похожего. На английском языке меня просто не существует! Не понимаю, почему такие тиражи и так читают. // …в России успех был не только общественным, но и литературным, ибо повесть «Один день Ивана Денисовича» была написана многоцветным живым языком, где уникальные фольклорные метафоры перемешивались с лагерным жаргоном. Это порой терялось при переводе, и репутация Солженицына на Западе, к сожалению, только политическая. // Полностью адекватный перевод солженицынского очень сложного слога и новых словообразований на английский невозможен. // Его стилистическое разнообразие основано на такой разговорной естественности, на такой словесной изобразительности, что Лескова, по моему глубокому убеждению, невозможно перевести на иностранный язык без неисчислимых потерь. // Вот потому и Василий Шукшин на родине всеми обожаем, но не понят в большинстве стран мира. // Наши беды непереводимы. // Юмор – первое, что теряется в переводе. // Михаил Зощенко, я думаю, непереводим. Он создаёт переводчикам удвоенные трудности. Ставит перед ними двойную задачу. Во-первых, как стилист. И ещё как выразитель специфической отечественной реальности. Наконец, у Зощенко свой особый язык. Как выразить на английском его гениальные языковые «погрешности»? // Велимир Хлебников, конечно, непереводим. Я его не переводила, а изучала из-за любви к живому слову, слову изменчивому, слову «в плавлении». // Есть ещё один тип поэтов трудно переводимых – это мастера простых слов. Таким был Роберт Фрост. Он не получил Нобелевской премии, потому что его стихи сильно теряли в переводах. // Многое и существенное теряется при переводах, ибо он (Сёрен Киркегор) был художником выдающегося языкового и стилистического чутья с чрезвычайно тонким слухом на языковую мелодию, и многие его филигранные языковые тонкости просто не поддаются переводу. // …но перевод – утрата по определению. // Хороший перевод сохраняет семьдесят процентов подлинника. Максим Горький. Сергей Довлатов. Леонид Леонов. Александр Солженицын. Евгений Евтушенко. Жорес Медведев. Вениамин Каверин. Никита Михалков. Михаил Жванецкий. Вирджиния Вулф. Сергей Довлатов. Барбара Лённквист. У. Д. Смит, американский поэт. Петер Роде. Иосиф Бродский. Давид Самойлов.
80.6. Славянский менталитет…
Переводчики всегда бывают далеки от буквального текста, потому что происхождение идей не одинаково у различных народов. // Издавая «Лолиту» по-русски, я преследовал очень простую цель. Хочу, чтобы моя лучшая английская книга была правильно переведена на мой родной язык. // Несмотря на колоссальную роль, которую сыграла русская классика прошлого века в западной интеллектуальной жизни, адекватных оригиналам английских текстов Гоголя, Достоевского и Толстого нет. // Владимир Набоков отмечал, что в Англии не умеют переводить русскую классику. Иосиф Бродский, другой двуязычный писатель, высказался категоричней: да ведь это невозможно. Английский не в состоянии передать богатства русского, всех его ходов, а наоборот – пожалуйста! Порой неверно и представление о краткости английского в состязании с русским. // Одни только русские говорят, что Пушкин выше Достоевского, Тургенева и Толстого, а европейскому читателю это непонятно. // Красоту же тургеневского слога, столь ценимую русскими, я в переводе не почувствовал. // Книги переведены, и это очень хорошо, но в основном все переводы существуют на славянских языках: чешский, словацкий, украинский, русский. Попытки перевести на другие языки – немецкий, итальянский, французский, датский – совершенно не удались, книги не поддаются переводу или их просто никто не понимает. Видимо, они доступны только языкам, существующим в славянской группе. Славянский менталитет. // Думать на иностранном языке легче, чем на этом языке чувствовать. // Я сам всего менее занимаюсь участью своих сочинений, особенно в переводах. Никогда не только не поощрял, но сколько от меня зависело, даже удерживал переводчиков от передачи моих сочинений на иностранные языки. Это происходило – частию, не скажу от скромности (это было бы претензия), а скорее от своего рода – застенчивости, от недоверия к себе, а больше, кажется, от того, что все действующие лица в моих сочинениях, нравы, местность, колорит – слишком национальные, русские – и от того, казалось мне всегда, они будут мало понятны в чужих странах, мало знакомых с русскою жизнию! От того я никогда не интересовался быть известным за границею – только по имени. // Я много писал о русском языке. Последняя работа о его непереводимости и непонятности для иностранцев: «Ол-райт, – сказал Емеля». // Буквальные переводы с русского невозможны. Тут вы должны переводить не слово – словом и не фразу – фразой, а юмор – юмором, любовь – любовью, горе – горем. // Разве наш язык по богатству можно сравнить с любым иностранным? Там все – вундербар, или – о-кэй. «Как вам нравится наш русский лес?» – «О-кэй!» – «А наша русская зима?» – «О-кэй!» – «А наши девушки?» Всё равно «о-кэй». В Берлине один немецкий драматург, собираясь в Москву, попросил меня подсказать универсальное слово, на любой случай. Подыскал. «Как вам русский лес?» – «Чудесно!» – «А девушки?» – «Чудесно!..» Решил он всерьёз русским языком овладеть. Читает по самоучителю: «Я поехал в Украину». Поправляю: «По-русски надо сказать – на Украину». – «Я поехал на Крым». – «Не на Крым, а в Крым». – «Ага, понял. Я поехал в Кавказ». – «В Кавказ не говорят. Правильно: на Кавказ». – «Ясно. Я поехал на Сибирь». Рассвирепел он: «Доннер-веттер, когда – на, когда – в? Какие же здесь правила?» – «А нет правил. Просто – на Кавказ и в Сибирь, на Украину и в Крым. Без всяких правил!..» Нет, брат, ни одному иностранцу никогда не выучиться настоящему русскому языку! Это всё запоминается с детства. У них – о-кэй, вундербар, а у нас на это двадцать слов с различными оттенками. Чудесно, обворожительно, прекрасно, великолепно, волшебно, восхитительно, сказочно, бесподобно, дивно, и бог знает сколько ещё найдётся. // Живые языки для тех иностранцев, которые не жили среди данного народа, в наибольшей части своей мертвы. // Дух языка отчётливее всего выражается в непереводимых словах. // Ну как это перевести «скиглит чайка»? А ведь как выражено. Это именно те звуки. А вот, например: «За байраком, байраком, – в поли могила. Из могилы встае казак сивый, похилий». «Похилий» – как сказано! А перевести нельзя, невозможно сохранить первозданную силу и прелесть. Я пробовал переводить Тараса Шевченко. Не то! Так же и поляков, Мицкевича. Самые близкие «смежные» языки труднее всего поддаются переводу. Происходит это оттого, что они ещё слишком близки к природе, они ещё в диком состоянии – откуда их прелесть – и при переводе не входят в семью языков, культурно развившихся. Пьер Буаст. Владимир Набоков. Лев Лосев. Джон Бейли, английский автор известнейшего путеводителя по творчеству Пушкина. Сомерсет Моэм. Иоанна Хмелевская. Томас Элиот. Иван Гончаров. Владимир Крупин. Сергей Довлатов. Сергей Есенин. Георг Лихтенберг. Мария Эбнер-Эшенбах. Иван Бунин.