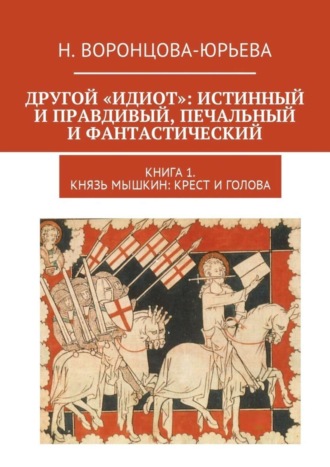
Полная версия
Другой «Идиот»: истинный и правдивый, печальный и фантастический. Книга 1. Князь Мышкин: Крест и Голова
Достоевский прекрасно знал библейские тексты. И отнюдь не случайно он сделал Лебедева толкователем Апокалипсиса («Я же в толковании Апокалипсиса силен и толкую пятнадцатый год»). Поэтому, когда Лебедев, с лукавством высказывая свое наблюдение, что Настасья Филипповна боится князя еще больше, чем Рогожина, употребляет при этом типично библейское выражение («здесь – премудрость!»), – нет сомнений, что говорит он это с особым смыслом. С каким же? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны найти это выражение там, куда чаще всего заглядывает сам Лебедев, – в Апокалипсисе. И мы это выражение там находим!
Откровение Иоанна Богослова, тринадцатая глава (курсив мой): « Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13:18). Здесь мудрость.
Как видим, фраза Лебедева идентична выражению из Апокалипсиса, хотя звучит и с легким синонимичным искажением, не влияющим на смысл (премудрость – мудрость).
Как известно, речь в этой строфе Апокалипсиса идет об антихристе. Что это может значить? Только то, что Настасья Филипповна чувствует в тихом, смиренном Мышкине его губительную антихристианскую сущность. Мышкин – масонский антихрист, фанатичный разрушитель христианства. Это и страшит в князе православную Настасью Филипповну.
– Вы меня за маленького принимаете, Лебедев. Скажите, серьезно она оставила его теперь-то, в Москве-то?
– Серьезно, серьезно, опять из-под самого венца. Тот уже минуты считал, а она сюда в Петербург и прямо ко мне: «Спаси, сохрани, Лукьян, и князю не говори…» Она, князь, вас еще более его боится,и ! здесь – премудрость
И Лебедев лукаво приложил палец ко лбу.
Число зверя
Число 666 из Апокалипсиса, число зверя, на которое намекает фраза Лебедева, сама являющаяся цитатой из Откровения Иоанна, – есть ли это число в романе? Конечно. Правда, существует оно там нарочно в разделенном виде, однако его легко обнаружить, поскольку связано это число неизменно с самыми дьявольскими вещами – с деньгами и зверствами.
1) Число 600 – это который Павлищев ежегодно платил Шнейдеру за князя («Шнейдер получал по шестисот рублей в год»). Та же сумма повторяется и при уплате Павлищевым за содержание второго своего воспитанника – Антипа Бурдовского; шестьсот рублей,
2) Число 60 – это копеек за ножик с оленьим черенком, которым Рогожин зарежет Настасью Филипповну («Вот и этот предмет в шестьдесят копеек. „Конечно, в шестьдесят копеек, не стоит больше!“ – подтвердил он теперь, и засмеялся»). Показательно, что именно в тот момент, когда ножик видит в витрине лавки князь, в нем оживает его внутренний демон: шестьдесят
С этой же цифрой соотносится в романе и рыцарь-тамплиер XII столетия, людоед, съевший католических монахов («умертвил и съел лично и в глубочайшем секрете шестьдесят монахов»). шестьдесят
3) Число 6 – это дважды убитые в романе детей. Это прежде всего всё тот же людоед-тамплиер, убивший и съевший «несколько светских младенцев, – штук шесть, но не более». А также закоренелый душегуб (из рассказа Ипполита), из чистого удовольствия заколовший шестерых детей («Какой-нибудь из «несчастных», <…> заколовший шесть штук детей, единственно для своего удовольствия…»). шесть
СНОСКИ К ГЛАВЕ 6:
Фостер Бейли. Дух масонства. М.: Свет, Амрита-Русь. 2015. – 224 с. 1)
Местергази Е. Г. Вера и князь Мышкин. Опыт «наивного» чтения романа «Идиот». / Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения: Сб. работ отечеств. и зарубеж. ученых / Под ред. Т. А. Касаткиной. М.: Наследие, 2001. – 560 с. – Стр. 291—318. 2)
Но он выбежал из воксала и очнулся только пред лавкой ножовщика в ту минуту, как стоял и оценивал в шестьдесят копеек один предмет, с оленьим черенком. Странный и ужасный демон привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его более.
ГЛАВА 7
Про двойственное значение имени князя Мышкина написано немало трудов, они общеизвестны, так что останавливаться на них не буду. Вкратце же ставшее классическим пояснение имени князя, без сомненья, включает в себя два библейских толкования: это и Иисус Христос – «лев от колена Иудина, корень Давидов» (Отк. 5:5), это и дьявол – «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петра 5:8).
Добавлю свой вариант.
Имя Льва
Имя князя Льва Николаевича Мышкина являет собой крайне значимый масонский символ. Лев – «один из самых могущественных и значительных масонских символов: это и «львиное пожатие», и лев на знамени колена Иуды», так говорит об этом известный американский масон Карл Х. Клауди. Львиное пожатие – специфическое заключение друг друга в объятия, основанное на масонских ритуалах и символах: «объятия пяти точек братского соприкосновения (рука в руку, стопа к стопе, колено к колену, грудь к груди и рука через плечо) «. 1) 2)
Львы входили в называния лож. Например, в Санкт-Петербурге была ложа Александра Златого Льва – как поясняет С. Карпачев, эта ложа «работала в Петербурге с 1816 года по высшим градусам». Именно в этой ложе принял посвящение в масоны Сергей Львович Пушкин, отец поэта. 3)
Особые львы включались и в архитектурный ансамбль масонских домов. Например, известный московский Музей революции (Тверская, 21) – в этом доме во времена Достоевского располагался на праве собственности Английский клуб, хорошо известный собраниями масонов (курсив мой): «…Это здание изначально принадлежало Михаилу Матвеевичу Хераскову – русскому поэтому эпохи Просвещения, а по совместителю одному из самых известных и деятельных масонов XVIII века. Поэтому естественно, что здесь проходили заседания масонской ложи, а сама архитектура здания до сих пор сохранила ряд масонской символики <…> с левой стороны от центральной колоннады можно увидеть окно в обрамлении двух колонн (Яхин и Боаз), Химеры на воротах и на самом здании, триединый венок, с человеческими лицами, с кольцами в зубах («львы молчания»)». львы львы 4)
Эти же масонские львы упомянуты Пушкиным, прекрасно осведомленном об их масонском значении, в «Евгении Онегине» («Балконы, львы на воротах…»).
Родовые львы Мышкиных
О том, что предки князя были масонами, говорит их родовое имя Лев. Отца князя (Льва Николаевича Мышкина) звали Лев Николаевич. О том же, что и дед князя был также еще одним Львом, проговаривается генерал Иволгин при первом знакомстве с князем:
На первый взгляд, генерал Иволгин говорит здесь полную ерунду. Ведь отца князя звали вовсе не Львом, его звали Николаем! В чем же тут дело? Достоеведы всегда обходили этот вопрос молчанием, либо попросту всё списывали на очередные фантазии Ардалиона Александровича.
А между тем генерал Иволгин здесь ничего не соврал – просто он знал двух старших Мышкиных: отца князя (Николая Львовича) и деда князя (Льва Николаевича). Видимо, внешнее сходство князя с отцом было очень сильным. И вот теперь, увидев перед собой некоего взрослого Мышкина, у генерала Иволгина, находящегося в перманентно помутнении сознания (в подпитии), произошла мешанина в голове, и он спутал этих двух старших Мышкиных разом.
– С Иваном Федоровичем Епанчиным я действительно бывал в большой дружбе, – разливался генерал на вопросы Настасьи Филипповны. – Я, он и покойный князь Лев Николаевич Мышкин, сына которого я обнял сегодня после двадцатилетней разлуки, мы были трое неразлучные, так сказать, кавалькада: Атос, Портос и Арамис.
В Карамзина «Истории»
Достоевский не случайно наделил Мышкиных этим беспрерывно повторяющимся именем. Под этим бесконечным именем льва автор сокрыл ту истину, что все Мышкины не просто масоны, а что это древнейшийрод масонских львов! Их историческую древность и подтверждает фраза Лебедева на первых же страницах романа:
Т. А. Касаткина, разбирая восклицание Лебедева, указала на работу Г. А. Федорова «Се человек» Яна Мостарта», где со ссылкой на труд Н. Карамзина было установлено, что «Мышкин у Карамзина – один из двух главных архитекторов церкви Успения Богородицы, которая, «едва складенная до сводов <…> с ужасным треском упала, к великому огорчению Государя и народа». Итак, перед нами неудачник-строитель храма Богородицы». 5) 6) 7)
Что ж, определение дано – предок Мышкина, живший во время правления Великого князя Иоанна III Васильевича (с 1462 по 1505 год), один из главных архитекторов храма, неудачник-строитель. Но можно ли назвать его неудачником? Если в смысле падения недостроенного храма – то да. Но что если у этого предка была совсем другая цель? Например, чтобы недостроенная православная церковь и вправду взяла да и рухнула… Что тогда? Можно ли тогда считать его неудачником?
А вот еще интересный нюанс. Предок Мышкина, согласно «Истории» Карамзина, был строителем – то есть Больше того – И даже еще больше – он был одним из архитекторов! Случайность ли это со стороны Достоевского, что данный предок соотносится сразу с двумя принципиальными масонскими терминами – каменщик и архитектор? каменщиком. архитектором. главных
Мало того. Предок-то Мышкина, каменщик-архитектор, строил не что-нибудь, он строил храмы – по-французски говоря. Неужели еще одна случайность?.. тампли,
А теперь давайте посмотрим на плоды рук этого «неудачника» – и рухнувшегоправославного . И для начала зададимся вопросом: а как вообще могло так случиться, чтобы эта церковь упала? Ведь это был не просто храм. Его строительству придавалось огромное политическое значение – это должен был быть «храм, достойный быть первым в Российской державе», ибо такого в Москве пока еще не было. Стало быть, и кандидатуры двух главных архитекторов отбирались тщательно. А церковь вяла да и развалилась… да еще и с ужасным треском. строителя архитектора тампля 8)
Как же так?
Да очень просто – если задачей этого предка-архитектора было вовсе не построить церковь Успения Богородицы, а как раз наоборот – всеми силами не допустить ее постройки. Тогда получается, что этот предок-архитектор прекрасно справился со своей задачей… Могло ли такое быть? Запросто. Давайте посмотрим, что написано у Карамзина про эту церковь.
Ее строительство в Москве начал митрополит Филипп, он очень радел об этом храме, был его духовным зачинателем. «Долго готовились; вызывали отовсюду строителей», – подчеркивает Карамзин. И когда храм еще только заложили (с колоколами и в присутствии всей княжеской фамилии), то сразу же перенесли туда «гробы Князя Георгия Данииловича и всех Митрополитов». При этом, как пишет Карамзин, «сам Государь, сын его, братья, знатнейшие люди несли мощи Св. Чудотворца Петра; особенного покровителя Москвы». 9)
На этом удача словно отвернулась от церкви. Сначала пострадал митрополит Филипп. Внезапный пожар «обратил в пепел» его кремлевский дом. Затем самого владыку разбил паралич: как пишет Карамзин, «обливаясь слезами над гробом Св. Петра и с любовию утешаемый Великим Князем, Филипп почувствовал слабость в руке от паралича». Через сутки митрополит скончался – «до последней минуты говорив Иоанну о совершении новой церкви». 10) 11)
За дело взялся его преемник митрополит Геронтий. И вроде бы дело пошло. И вот уже стены церкви достигли уровня сводов, как вдруг… «она с ужасным треском упала, к великому огорчению Государя и народа». Одним словом – бесовщина какая-то. 12)
В общем, заказчикам стало окончательно ясно: нанятые для такой величественной стройки архитекторы и их рабочие оказались, мягко говоря, сомнительного уровня. Пришлось искать других специалистов. «Видя необходимость иметь лучших художников, чтобы воздвигнуть храм, достойный быть первым в Российской державе, Иоанн послал во Псков за тамошними каменщиками, учениками Немцев», пишет Карамзин. 13)
Был выписан и новый архитектор. Его нашли в Венеции – итальянца «Фиоравенти Аристотеля, которого Магомет II звал тогда в Царьград для строения Султанских палат, но который захотел лучше ехать в Россию». Это был замечательный знаток своего дела, и отпустили его из Республики исключительно «в угождение Государю Московскому». 14) 15)
Прибыв в Москву, новый архитектор осмотрел развалины храма. И установил причину крушения. В чем же она заключалась? Прочитав сухие строки Н. Карамзина, лично я сделала вывод: да практически во всем! Причиной оказалось ужасное качество вообще всего, из чего только можно было хоть что-нибудь строить, – качество извести, камня, кирпича, глины.
Оказалось, как пишет Н. Карамзин, что «известь наша не имеет достаточной вязкости, а камень не тверд, и что лучше делать своды из плит». Кирпич тоже оказался вообще не той меры и не того обжига – и новый архитектор «дал меру кирпича; указал, как надобно обжигать его». Выяснилось, что даже известь и ту не умели растворять – и новый специалист указал, «как растворять известь». Глина тоже оказалась так себе, поэтому новый архитектор пошел искать другую – и «нашел лучшую глину за Андроньевым монастырем». 16) 17) 18) 19)
В общем, такое откровенно халтурное строительство, такой масштаб порчи материалов и нарушения технологий я бы назвала заведомым вредительством. При таком безобразном строительстве не рухни церковь сейчас – непременно упала бы позже, да еще и придавила бы собой, не дай бог, каких-нибудь московских царей или митрополитов. Вот тебе и каменщик, вот тебе и главный архитектор – потомок Мышкина…
СНОСКИ К ГЛАВЕ 7:
Карл Х. Клауди. Книга мастера. / ttp://memphis-misraim.ru/wp-content/ uploads/ 2013/ 06/ kniga-mastera. pdf / Дата обращ. 07.07.2015. 1)
Бокс Губерт С. Природа франкмасонства. – Л.: Августин-Пресс, 1952. 2)
Карпачев С. П. Масоны. Словарь. Великое искусство каменщиков. М.: АСТ, Олимп, 2008. – 634 с. – Стр. 21. 3)
http://tatiana-gayduk.livejournal.com/36454.html / дата обращ. 11.09.2015. 4)
Федоров Г. А. «Се человек» Яна Мостарта. В кн.: Этюды о картинах. М.: Искусство, 1986. Стр. 55—85. 5)
Н. М. Карамзин. История государства Российского. Т. 6. СПб., 1819. Стр. 73—74, примеч. на стр. 30. 6)
Касаткина Т. А. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф. М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». М.: ИМЛИ РАН, 2004. – 480 с. 7)
Н. М. Карамзин. История государства Российского. Т. 6. СПб., 1819. С. 73—74. 8)
Там же. 9 – 19)
– Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с, – отвечал в раздумье чиновник, – то есть я не об имени, имя историческое, в Карамзина «Истории» найти можно и должно, я об лице-с, да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слух затих-с.
ГЛАВА 8
Исследовательница Е. Местергази утверждает: «О Мышкине известно, что он крещен в православной вере и носит крест». Это не совсем верно. Крещен Мышкин действительно в православной вере – об этом говорит его готовность венчаться в православном храме. Вот только креста на вернувшемся в Россию Мышкине нет, причем никакого, и не будет еще целых полгода. Да и в церковь Мышкин совсем не торопится. 1)
Почему Мышкин не ходит в церковь?
Почему Мышкин не ходит в церковь? Вообще ни в какую. Ни в протестантскую в Швейцарии, ни в православную в России. Ни в католическую. Почему?
Эту странность отмечали многие достоеведы. Еще в 1990 г. известный российский философ и писатель Г. Померанц удивлялся: «Мышкин тянется к «идее православия», как Достоевский однажды (в «Дневнике») обмолвился. Но в историческую русскую церковь он как-то не торопится. Трудно представить, чтобы совсем не заходил в храмы, кроме одного единственного случая, как в загс – повенчаться. Наверно, побывал на литургии; может быть, и на исповеди. Почему Достоевский ничего не говорит об этом? Хотя бы столько, сколько рассказывают о своих героях католические писатели? Боялся унизить идею? Многих православных читателей это смущает». 2)
Увы. Жаль разочаровывать последователей Г. Померанца, но ни на литургии, ни на исповеди Мышкин, конечно же, не бывал, это всё фантазии Померанца. И в православные храмы не заходил совсем, разве что дважды, и то по необходимости, а не по зову души. Первый раз – на похоронах генерала Иволгина: там князь признается Лебедеву «в ответ на какой-то его вопрос, что в первый раз присутствует при православном отпевании и только в детстве помнит еще другое отпевание в какой-то деревенской церкви». Второй раз мы застаем Мышкина в православной церкви в ожидании собственного венчания, причем князь «не хотел пропустить ни одного из принятых обычаев и обыкновений; всё делалось гласно, явно, открыто и „как следует“».
Из-за старательности князя может сложиться впечатление, что Мышкин все-таки тянулся к идее православия, но это не так. Все тонкости обряда князь старался соблюдать вовсе не из тяги к православной вере, а только лишь потому, что полного соблюдения всех православных правил требовала Настасья Филипповна.
Также мы ни разу не видим Мышкина и молящимся. Он не молится никогда и нигде. Вот Лебедев, к примеру, тот молится – за свою умершую пять недель тому назад жену Елену, за казненную графиню Дюбарри, показательную жертву организованной масонами Французской революции. А Мышкин ну хотя бы за Настасью Филипповну – не молится. Вместо молитв за облегчение ее страданий он некими масонскими практиками несколько раз «доводил» ее до некоего света («Иногда я доводил ее до того, что она как бы опять видела кругом себя свет»), но неудачно, мрак каждый раз возвращался.
Мысль о молитве («красота и молитва») возникает у Мышкина исключительно в момент его рассуждений о том, что в некую секунду перед припадком он ощущает свое слияние с богом – с высшим синтезом жизни, по выражению князя. То есть свое молитвенное состояние князь, как и положено масону, соотносит исключительно с моментом ощущения себя избранным, сверхчеловеком, наделенным божественностью.
Нательный крест
Нет на Мышкине и нательного креста. Вообще никакого. Впервые крест на нем появляется лишь спустя полгода после его возвращения из Швейцарии. Но даже и тогда – что это за крест? Его продал Мышкину «пьяный солдат, в совершенно растерзанном виде». То есть христопродавец.
Удивительно: за все полгода Мышкин так и не обнаружил желания купить себе в церковной лавке крестик, а потом зайти в церковь и его освятить. А вот крест пьяницы-христопродавца, да еще на такой неприятной «крепко заношенной ленточке», купил сразу же – и «тут же на себя надел». Почему?
Выясняется и еще один примечательный факт. Оказывается, Мышкин прекрасно разбирается в эстетике крестов. Про купленный у солдата крест он с одного взгляда понял, что крест не серебряный, а оловянный, что он «осьмиконечный, полного византийского рисунка», то есть с титлом и подножием. А, например, по виду креста, который в годе Лионе священник подносил к губам приговоренного к казни, Мышкин тотчас же определил, что это был крест «серебряный, четырехконечный», то есть латинский.
Стало быть, изучал, интересовался. Да и олово от серебра отличил мгновенно. А креста не имел. Почему?
Пасха
Достоевский в романе дважды говорит о том, что Аглая получила от князя записку «на святой». Первый раз, когда записку передает Коля: «Один раз, – это было на святой, – улучив минуту наедине, Коля подал Аглае письмо, сказав только, что велено передать ей одной». И второй раз – уже в Павловске, репликой Лизаветы Прокофьевны: «Позволь тебя спросить: изволил ты прислать, месяца два или два с половиной тому, около святой, к Аглае письмо?»
Почему Достоевскому было так важно, чтобы мы запомнили этот факт – что записка от князя была получена Аглаей на святой? Попробуем понять.
«На святой» – означает на пасхальной неделе, Светлой седмице, т.е. на саму Пасху, ибо справляли Пасху семь дней. Когда Мышкин отправлял Коле письмо с вложенной запиской для Аглаи, Пасха либо уже наступила, либо шли не менее важные предпасхальные дни, о чем Мышкин просто не мог не знать или не вспомнить. Всеобщие повсеместные приготовления к Пасхе, бытовые разговоры о ней, простые упоминания вскользь, посвященные грядущему событию статьи в газетах, и т. д. – Пасхой в эти дни, конечно, было в России наполнено всё. Это большой христианский, православный праздник. Люди радуются, святят куличи и обращаются друг к другу с традиционным христианским приветствием: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес».
И если в эти дни пишут кому-то письма, то обязательно поздравляют адресата с Пасхой – либо начиная этим свое письмо, либо непременно этим заканчивая. Непременно! Потому что в такие дни иначе в России никогда не бывало, не поздравить с Пасхой – это считалось не по-божески, не по-русски. Да и вообще не по-людски.
Поздравил ли Мышкин Аглаю с Пасхой? Нет! Вот вам и ответ на вопрос, зачем Достоевскому понадобилось дважды уточнять, что письмо было получено Аглаей на Святой. Нет, не поздравил. Умолчал, пренебрег, не счел нужным – при этом отправив свое письмо аккурат в пасхальные дни. Подписавшись по-масонски – братом…
СНОСКИ К ГЛАВЕ 8:
Местергази Е. Г. Вера и князь Мышкин. Опыт «наивного» чтения романа «Идиот». / Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения: Сб. работ отечеств. и зарубеж. ученых / Под ред. Т. А. Касаткиной. М.: Наследие, 2001. – 560 с. – Стр. 291—318. 1)
Померанц Г. С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М.: Советский писатель, 1990. – 384 с. – Стр. 282. 2)
ГЛАВА 9
«Вера нехристианская!»
Достоеведами неоднократно разбиралась резкая, обвинительная речь Мышкина (на его смотринах у Епанчиных) в адрес католической церкви. Речь эта оказалась настолько нетипичной для всегда, казалось бы, смиренного Мышкина, настолько пылкой и гневной, что неоднократно вводила достоеведов в состояние крайнего недоумения. Вот этот яростный мышкинский монолог (курсив мой):
Загадочность несоответствия здесь Мышкина самому себе, как его понимали большинство исследователей, справедливо отмечала, например, Е. Местергази: «…Загадочной выглядит длинная тирада князя против католичества <…> тем более странными они кажутся в устах Мышкина <…>. Надо признаться, здесь мы сталкиваемся с одним из самых «темных» мест в романе». 1)
А, к примеру, Григорий Померанц этот же гневный монолог Мышкина даже не стал называть загадкой – попросту назвав всю эту речь ошибкой Достоевского! По мнению Померанца, Достоевский буквально вынудил Мышкина сказать то, чего сам Мышкин не мог сказать в принципе, а мог произнести только сам Достоевский, известный своим негативным взглядом на католичество. Вот как пишет об этом Померанц (курсив мой): «Здесь мне хочется отметить одну сделанную в обрисовке Мышкина. Это очень дерзко звучит (сам ведь говорил, что исправить Достоевского невозможно <…> Мышкин, принимающий в свою душу Лебедева и Келлера, не может начисто отвергнуть крупнейшую из христианских церквей, с тяжелой, грешной, но все же великой историей и со множеством святых. <…> Нет, и навязал Мышкину то, что должен был сказать другими устами». ошибку, Достоевским Достоевский спутал свои ипостаси 2)
Ну, во-первых, почему Мышкин действительно принимает в свою душу отвратных Келлера и Лебедева, понятно – потому что они тоже масоны, вот почему. Но об этом потом. Сейчас же я вынуждена защитить Достоевского от Г. Померанца.
Нет, никакие свои ипостаси Достоевский не спутал! Ибо то, что Померанц видит лишь как какие-то спутанные ипостаси, Достоевский задумывал как программный мышкинский монолог, а потому и высказать его должен был именно Мышкин! Причем именно тот Мышкин, каким его создал Достоевский, а не выдумал Померанц. Потому что это всего лишь у Померанца Мышкин «не может начисто отвергнуть крупнейшую из христианских церквей». А вот у Достоевского – может отвергнуть, и еще как отвергает!
Почему? Потому что, в соответствии с авторским замыслом, Мышкин масон. Преданный ордену фанатик, тамплиер в душе, с детства впитавший ненависть к католицизму и христианству в целом. Поэтому именно Мышкин, только он, и больше никто, и должен был произнести эту обвинительную антикатолическую – а главное, антихристианскую! – речь. Только масон Мышкин и мог утверждать, что повальное европейское безверие возникло «». из ненависти к церкви и ко христианству
Вот, оказывается, к чему в финале своего монолога подвел Мышкин – ненависть к христианству! Никто из пришедших на смотрины и глазом не успел моргнуть, а уж Мышкин давно вышел за рамки католичества – и теперь прямо обвиняет в атеизме всё христианство в целом! То есть и православие тоже.
И для масона Мышкина ничего странного, или тёмного, или ошибочного в его яростном антикатолическом и антихристианском монологе нет. Ибо разрушение христианства – первая масонская цель. Как сформулировал О. Платонов: «Замысел масонов подчинить себе русскую церковь был просто чудовищен. По сути дела, это означало перевернуть церковь, а идеи, с которыми она боролась, сделать господствующими и таким образом разрушить Православие». 3)



