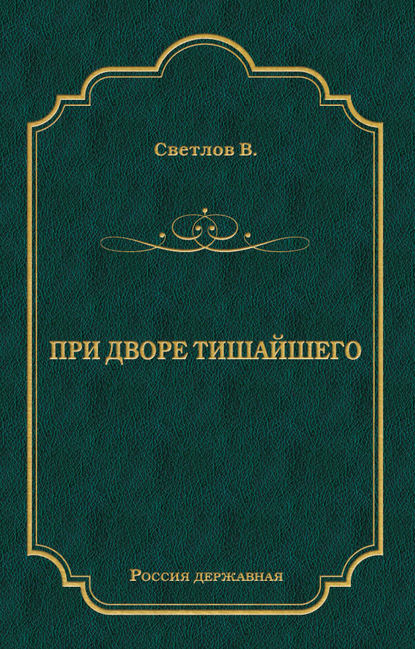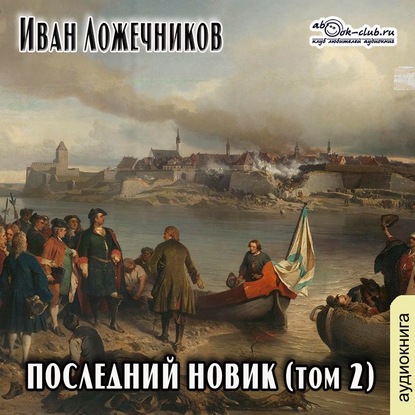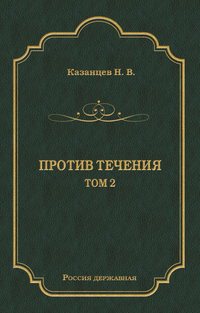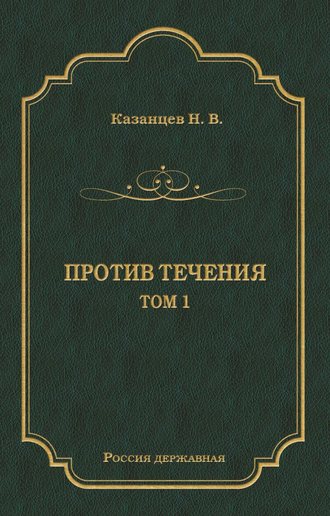
Полная версия
Против течения. Том 1
Большая гостиная палата была убрана с особенной тщательностью: полы устланы коврами, в переднем углу блистали в резных киотах иконы в серебряных ризах. Широкие лавки обиты тюфяками, крытыми кармазинным[18] сукном с золотыми кистями. Стулья с такими же подушками. Резные столы покрыты разноцветными скатертями. Стены палаты были обшиты тесом с резьбой. У потолка шли также резные карнизы. Косяки окон украшены резьбой из орехового дерева. В углу помещалась большая печь, вся из изразца, с яркими узорами. Прочие палаты и терема были убраны также хорошо и в таком же вкусе, но они по отделке далеко уступали большой палате, назначенной исключительно для приема почетных гостей. Сбоку передних сеней была еще пристройка для боярычей, состоящая из двух комнат. Нижний подвальный этаж дома был занят подвалом и кладовыми, в которых хранилось много добра, привезенного с собой из Москвы и Украины и нажитого здесь, в Артамоновке.
Дом двумя сторонами выходил на двор, так что из окон его были видны весь двор и все избы холопов. Третья сторона выходила на площадь села: и церковь, и село, и дом попа были как на ладони. Четвертая сторона выходила в сад или, вернее, в огород. В этой стороне был пристрой для боярычей. Прямо перед окнами был устроен маленький цветник, дальше шли огородные овощи. По краям огорода росли кусты акаций и яблони, между которыми были рассажены крыжовник и малина. Дальше к берегу Волги шли уже дикорастущие вековые деревья и образовывали небольшую рощу. Эта сторона дома и была опасна в случае нападения жигулевских разбойников; но боярин принял меры, и три дворовых холопа, вооруженные мушкетами, каждую ночь охраняли дом; кроме того, все окна дома запирались на ночь ставнями с железными болтами; в него трудно было попасть.
Боярин Сергей Федорович был человек лет около шестидесяти, с большой седой бородой, с большой лысиной и остатками седых волос на голове. Он был высок и худощав, держался прямо и бодро; взгляд имел сердитый и надменный. Он очень гордился своей придворной службой и званием стольника и в разговорах с кем-нибудь не забывал упомянуть об этом. «А вот в бытность мою при дворе…» – начинал он рассказ о своей прежней жизни. Боярин любил также хвалиться своим знакомством с тогдашними сановниками и в разговорах о них упоминал, что он служил вместе с ними.
Все местные власти, от подьячего до губного и воеводы, уважали боярина Сергея Федоровича, но сам он уважал только одного воеводу, а прочих чинов, в том числе и губного старосту, принимал запросто в своей деловой палате, где принимал и отца Григория. Только по большим праздникам отец Григорий входил в большую гостиную палату, вытерев предварительно в передней ноги, чтобы не замарать ковров, и выбив щеткой рясу, чтобы не запылить дорогих покровов на скамьях и стульях. По праздникам же и губной и даже дьяк воеводы принимались в большой палате.
Сергей Федорович сам заведовал своим хозяйством. Он нашел удобным половину вотчины оставить на работе, барщине, а другую половину, именно Волжскую улицу и Артамоновские выселки, посадить на оброк, так что имел всегда и рабочие руки и верный доход в случае неурожая или низких цен на хлеб.
Митяй был старостой оброчных крестьян Волжской улицы. Боярин любил Митяя за его исполнительность. В свою очередь, Митяй, живя на оброке и не имея частых столкновений с боярином, любил своего господина и отзывался о нем так: «Наш боярин крутенек, и когда сердит, то уж лучше молчи или в ноги падай, известно, большой именитый боярин; но напрасно не обидит сам и другому тебя в обиду не даст. А коли нужда какая придет, поможет». Так отзывались о боярине и другие крестьяне его вотчин.
Поручая надзор за работами старостам из крестьян и дворовых людей, боярин не держал управителя и хозяйством распоряжался сам: каждый вечер выслушивал доклады старост и отдавал им свои приказания. Характер у боярина был вспыльчивый. Когда боярин был в духе, то благосклонно выслушивал доклады старост и, не торопясь, отдавал приказания, но когда был рассержен, то часто прогонял их с глаз, топая ногами. Впрочем, такие минуты находили на него редко, вследствие какого-нибудь потрясения или неудачи. И в эти минуты в доме боярина все ходили, как говорится, на цыпочках. Но Сергей Федорович громил больше криком и топаньем, драться он не любил, и уж разве когда был очень рассержен и виновный попадался ему прямо на глаза, то награждал его двумя-тремя ударами палки, а если палки не было под рукой, то кулаком давал виновному так называемую зуботычину или тумака. Розгами он наказывал редко, только за большую вину, и в таком случае поручал производить наказание старосте или дворецкому, под наблюдением своего старого слуги Никиты, который прислуживал самому боярину и всегда находился при его особе.
Дворня боярина жила в изобилии, ни в чем не нуждалась, особенно люди, служившие в самых хоромах боярина; в пище и одежде не было недостатка. Провинившихся холопов боярин посылал как бы в ссылку в Самару к кому-нибудь из чиновников в услужение, на исправление, как выражался он и как выражались сами холопы. Были и такие случаи, что боярин провинившегося дворового холопа в виде наказания отпускал на волю. Эта мера применялась только к заслуженным и пользовавшимся прежде расположением боярина холопам, которые попадали за что-нибудь в немилость к боярину. Холопы считали это наказанием, плакали и валялись в ногах, прося простить их и оставить при себе. Да и что было им делать: к полевой работе они не были приучены и не могли на воле вести своего хозяйства и самостоятельной жизни; оставалось вновь идти к кому-нибудь в батраки, а пробатрачив полгода у одного хозяина, вольноотпущенный становился вновь крепостным холопом. Крестьянами распоряжались поставленные боярином старосты, и сам он редко входил в разбор крестьянских дел. Старосты расправлялись сами и, не доводя до боярина, давали щедро зуботычины и палочные удары; но розгами наказывали не иначе как с разрешения и по приказу боярина.
Жена Сергея Федоровича, боярыня Прасковья Павловна, была настоящая русская боярыня: белая, дородная, среднего роста, лет пятидесяти. Надменная и сердитая. Она была дочь именитого боярина. В детстве жила в деревне, потом в Москве, где и вышла замуж. Года четыре после замужества жила в Москве, а потом переехала в деревню, сперва на Украину, а потом на Волгу, в Артамоновку. Она редко выезжала из дома и даже редко выходила, возясь день-деньской с вышиваньем, вязаньем и наблюдая за своими мастерицами, сенными девушками, постоянный надзор над которыми был поручен старой вдове Агашке, или Агапке, крепостной холопке самой боярыни, пришедшей за ней в приданое от ее отца; ей же было поручено наблюдение над нравственностью сенных девушек. Боярыня чаще своего супруга была не в духе, и в это время особенно круто приходилось бывшим в ее непосредственном распоряжении сенным девушкам; даже любимице Агапке доставалось в эти минуты. В это время боярыня часто награждала сенных девушек оплеухами и кулаками и, как женщина изнеженная и нервная, долго после того ходила по комнате, отмахиваясь руками и жалуясь на боль в кулаках, причиненную ей скверной рожей холопки.
Боярыня была очень религиозна и каждое воскресенье ходила в церковь к заутрене и обедне и часто беседовала с отцом Григорием, человеком начитанным по-своему и знавшим наизусть несколько текстов Священного Писания, которыми он и подкрашивал свои речи в разговорах с боярыней, что боярыне очень нравилось. Боярыня была добра в отношении своей прислуги, но добра относительно: она любила хорошо одевать своих сенных девушек, и сенные боярыни Артамоновой были всегда одеты лучше всех других сенных Самарского округа. Как женщина религиозная и строгих правил, она неусыпно старалась, чтобы ее сенные вели себя достойно и были бы богомольны и старательны в деле. За всякий непристойный поступок, а в то время считалось безнравственным даже поговорить наедине с молодым холопом, виновную ждало наказание.
Случалось, хотя не часто, что какая-нибудь сенная девушка, несмотря на строгие правила боярыни, поведет себя «нехорошо» и начнет полнеть в талии. Тогда боярыня страшно сердилась на виновницу и на смотрительницу Агапку. Агапке доставалось несколько пощечин, а виновную секли розгами на конюшне, обрезали ей косу и отсылали в деревню к родне. При этом боярыня старалась также узнать и имя виновника, и если узнавала, то и на его долю доставалось от боярина. Такой проступок считался самым важным преступлением в сенях боярыни. Строго наказывали также за кражу или неисполнение приказания. Наказывали, хотя не так строго, за непонятие в рукоделье. Других преступлений почти не было: о грубости или неповиновении не было и помину. Да можно ли было не послушаться или нагрубить такой важной, строгой боярыне! Отдавать в замужество своих сенных боярыня не любила и отдавала довольно редко. Конечно, при этом сама назначала по своему выбору жениха, по общему совету с боярином.
Наблюдением за женской прислугой и главными приказаниями по части огорода, соленья, варенья и деланья меду ограничивалась ее деятельность по хозяйству. Не более обширная деятельность была и по воспитанию детей. Она наблюдала, чтобы дети были сытно накормлены и одежды было бы у них вдоволь. За нравственностью детей она также следила и поручила отцу Григорию выучить их молитвам, толковала им, что нужно оказывать почтение старшим, и строго блюла, чтобы глаза постороннего мужчины не видали боярышни.
Старший сын боярина, боярич Александр, служил в Москве и участвовал в последней кампании против Литвы, где был больше посылаем от начальства по письменной части, так как он хорошо знал грамоту, потому что обучался в Заиконо-спасском училище, лучшем в то время учебном заведении, и, после обучения, для науки, послан был на два года в немецкую и итальянскую земли. Во время заключения Андрусовского договора, он состоял дьяком при посольстве, за что заслужил чин драгунского подполковника и милостивое слово царя. Он недавно прислал в Артамоновку письмо, которым уведомлял, что взял отпуск и скоро будет домой; приезда боярича ждали с часу на час.
Второму сыну, Степану, шел двадцатый год. Он нигде еще не служил. Грамоту хотя и знал, но плохо (учил его отец Григорий), и прошел азбуку Бурцева, Псалтырь и мог кое-как писать. Боярин хотел было для Степы взять учителя из Заиконо-спасской школы, но боярыня восстала против этого. Старший брат писал, чтобы прислали Степу в Москву, записать на службу, и боярин был не прочь, но боярыня сказала, что последнего сына у ней и сам царь не отнимет и его она ни за что не отдаст. Боярин покричал, а потом махнул рукой. Так и жил Степа дома и ничем не занимался, кроме охоты да ухаживанья, втихомолку от боярыни, за сенными девушками.
Старшая боярышня, Ольга, была восемнадцати лет. Она была очень красива, бела и румяна, с длинной черной косой и походила на мать и лицом и нравом. Она также знала немного грамоту: училась у отца Григория. Жила уединенно в своем тереме с младшей сестрой, мамушкой Михеевной и сенными девушками. Редко, только по большим праздникам, она выезжала с боярыней к соседям, где были ровесницы-подружки, а иногда в Артамоновку собирались соседние самарские боярыни с дочерьми, и тогда оживал девичий терем: песни и игры в нем не умолкали. Из мужчин она встречалась только с своим отцом, братом, прислужниками, холопами и отцом Григорием.
Младшая боярышня, Надя, была милый ребенок, тринадцати лет, со светло-русыми кудрями. Она недавно еще начала узнавать грамоту. Сама же боярыня Прасковья Павловна, хотя когда-то в молодости училась, но теперь все забыла, «да и не к чему», говорила она, «и без грамоты прожила век благополучно».
Из соседей в Артамоновке бывали: вдова боярыня Шихобалова, у которой была дочь ровесница и подруга Ольги. Дворянин Гаврила Гаврилович Каменев с семейством. Самарский воевода Алфимов и губной староста с семействами также заезжали в Артамоновку, хотя не очень часто. Из соседних мелких дворян бывали у боярина Андрей Степанович Липин, однодворец[19], кум боярина, и приехавший года два тому назад из Москвы боярский сын Арсений Михайлович Кузьмин. Других соседей почти и не было: край недавно был заселен. Ближайший сосед боярина, князь Бухран-Туруков, бывший товарищ старшего боярина по службе и товарищ его по детству, давно уже не бывал в Артамоновке – боярин не любил князя за его выходки, хотя никакой формальной ссоры между ними не было.
VIВ деловой избе боярина Сергея Федоровича горел уже огонь. Восковая свеча домашнего приготовления, мигая, освещает большую избу, обставленную столами и скамьями, и ярко отражается в стеклах резных киотов, стоящих на полках в переднем углу избы. На одном из столов стоит стопа меду и закуска, которая никогда не сходит со стола на случай прихода или приезда гостя: боярин любит гостеприимство и знает, что первое дело после дороги – выпить и закусить. На боярине шелковый летний кафтан, уже с потертыми несколько рукавами, и красные сапожки. На голове небольшая меховая шапочка-тафья[20], которую боярин носит всегда даже в комнате, чтобы мухи не беспокоили его голову, лишенную волос. Сергей Федорович ходит по деловой избе и слушает доклад старосты полевых работ Семена Шишиги. Шишига, старик лет пятидесяти, стоит, вытянувшись в струнку, у дверей и докладывает о плохих всходах ярового хлеба.
– Отчего же плохо? Семена украли, недосмотрел, бестия? – грозно вопрошал боярин, остановясь перед старостой.
– Никак нет, боярин, как перед Богом не виноваты, – отвечал Шишига, – ноне везде плохи хлеба, хоть у кого изволь спросить. Вон у князя, уж на что были прежде хлеба, а ноне и у него плохи.
– Мне князь не указ, – с сердцем отвечал боярин, – он выкрест[21] и, почитай, не христианин, ему бы только охота да лошади да еще… – Боярин прервал речь и продолжал: – А я не таков, я везде и во всем люблю порядок. Так ты не суй мне своим князем.
– Как угодно твоей милости.
– А вот завтра молебствие сделать по всем полям, и если я завтра увижу, что крестьянские хлеба лучше моих, тогда берегись. А Митяй здесь?
– Он давно ждет на крыльце.
– Ступай с глаз моих и позови его.
По случаю доклада о плохих всходах боярин был не в духе. Вошел известный нам Митяй и, отвесив низкий поклон боярину, стал у дверей.
– Оброк принес?
– Принес, боярин, половину, другую не собрал, немного обожди.
– Как! Я велел весь! – в сердцах крикнул боярин.
– Да все, вишь, не в собранье, половину-то я принес. – И Митяй вытащил из-за пазухи кафтана узелок и подал боярину.
– Негодяй, – крикнул боярин, – на что ты поставлен, какой ты староста, когда третью неделю не можешь собрать оброка! Я тебя сменю и велю наказать.
– Прости, кормилец, через неделю все сполна доставим. – И Митяй повалился в ноги.
– Подай узел сюда, а через неделю чтобы все было готово. Слышишь? Вставай! – И боярин ткнул Митяя ногой.
– Спасибо, кормилец, как не слыхать, – бормотал Митяй, вставая.
– А то береги свою шкуру, коли недоимщиков будешь беречь.
– Вестимо, так.
Боярин сел к столу, пересчитал серебряные и медные монеты и сказал:
– Тут не все.
– За тех, боярин, кои в бегах, – нетути, за три семьи.
– Ага! А кто им велел бегать? Именье есть – продай, а нет – пусть миром заплатят: зачем не смотрели. Пошел!
Митяй вышел. «Вот добрый боярин, – говорил он сам с собой, – хоть покричал, поругал, а сроку все же дал. Однако, – продолжал он, подходя к воротам, – недоимку-то надо крепко выбивать через неделю, а то он, пожалуй, меня того…»
В деловую избу боярина вошел дворецкий Федор и поклонился боярину.
– Ну, что у тебя?
– Да Андрей Степаныч приехал, просил, не примешь ли его, боярин, ему до тебя дело есть.
– Ну, ладно, пусть придет, а еще что?
– Еще в табуне неблагополучно, боярин, – отвечал дворецкий, почесав за ухом.
– Что?
– Да пара коней пропала, подпаски-то сейчас на дворе воют, а пастух-то Сидор утек.
– Куда?
– Неведомо, с обеда, говорят, утек; подпаски сказывали, как на водопое хватился, что нет коней, так и утек.
– Розыск послал?
– Нет, как твоя милость велит.
– Вот что велит моя милость, – сказал боярин, ткнув в зубы дворецкому, – действуй, лови, ищи, а не беспокой изо всякой малости, изо всякого Сидора.
Дворецкий мгновенно исчез.
– Ну, уж денек сегодня вышел! Неприятность за неприятностью, – сказал боярин, садясь на лавку. – Вот и этот куманек-то, Липин, чай, пришел клянчить чего-нибудь, – молвил боярин сам себе.
Вошел человек небольшого роста, средних лет, с сильно загорелым лицом. С первого раза трудно было определить, кто это: барин или мужик. Одежда была небогатая, но чистая; кафтан и ферязь походили на боярские, а на ногах были большие крестьянские сапоги. Большая русая борода была расчесана, и волосы приглажены на голове, но грубые заскорузлые руки показывали, что ему знакомы черные полевые работы. Это был бедный дворянин Липин, близкий сосед боярина. Он назывался однодворцем, потому что у него был один только двор – его собственный, в котором жил он со своей семьей и несколькими дворовыми холопами. Он низко поклонился боярину и стал, отойдя несколько шагов от дверей.
– А, Андрей Степаныч, давненько тебя не видать, – сказал важным покровительственным голосом боярин, едва кивнув головой на поклон Липина. – Садись, братец, – добавил он, указывая на лавку против себя.
Липин нерешительно подошел к лавке и сел на нее.
– Все дела по хозяйству, – отвечал он, – ведь я сам, боярин, с холопами заодно работаю.
– Как быть-то, Андрей Степаныч, не всем старцам в игумнах быть, надо кому-нибудь и строителем пожить, – ласково сказал боярин. – Ну что, как поживаете, что старуха твоя? Что моя крестница?
– Покорно благодарю за память, боярин, старуха моя и твоя крестница, Маша, прислали низкий поклон тебе, боярин.
– Свадьба скоро у вас?
– Хотели было поскорее, да в мае-то свадьбу играть не доводится, так отложили: после Петрова дня, видно, будет.
– Что, Маша-то, чай, приданое готовит?
– Собираются кой-как со старухой.
– А ведь жених-то молодец у крестницы-то.
– Нечего Бога гневить, недурен, одно не хорошо: тяжба, говорят, у него. Как бы чего не было! Спрашивал я у него: ничего, говорит, не будет; именье, говорит, мое, а не Сомова.
– Ничего, Андрей Степаныч, барыней заживет Маша.
– А я к твоей милости, боярин, за делом, – засуетился Липин, вставая.
– Дело делом, а прежде, по русскому обычаю, выпей и закуси. – И боярин наполнил кубок медом.
Липин нерешительно подошел к столу, взял кубок, перекрестился на иконы и сказал:
– Сто лет жить и здравствовать тебе, боярин, и твоему семейству. – Выпив кубок, Липин вновь поклонился.
– Ну, теперь потолкуем о деле, – сказал боярин, садясь вновь на лавку.
– Да вот что, боярин, как говорится, стыдно сказать, да грех утаить, я не то что в обиду твоей милости что сказать, а милости твоей пришел просить. Ишь, какое дельце-то вышло: пастухи твои не знай проспали, не знай проиграли да и потравили у меня два загона овса. Как есть в лоск положили, – грустно заключил Липин.
– Да ведь хлеб-от плох, чай, был?
– Оно, конечно, плох, да все же твоей милости доложить надо.
– Разумеется, – важно сказал боярин. Потом, взяв палочку, ударил ею по серебряной дощечке.
– Позвать дворецкого, – сказал боярин вошедшему слуге.
Через три минуты является дворецкий.
– Пастуха Еремку и подпасков завтра же поутру наказать, а Андрею Степановичу отпустить пятьдесят мер овса из семенного и завтра же отправить к нему на хутор.
– Спасибо, боярин, – чуть не крикнул Липин, вскакивая с лавки. – Дай Бог тебе добра и всякого благополучия. Прости, что обеспокоил твою милость.
– Всякому своего жаль, – отвечал боярин, – я не даю потачки озорникам и в обиду никого не дам. Ну, до свидания. Если случится какое дело или просьба – заходи.
– Много доволен, боярин, твоей милостью, – сказал Липин и, отвесив низкий поклон, вышел из избы.
По уходе Липина боярин прошелся раза три по комнате и пошел в столовую избу, где его ждали ужинать.
В столовой избе, большой, просторной комнате с тремя стрельчатыми окнами, был уже приготовлен стол на пять приборов. За столом сидели и ждали боярина сама боярыня и обе боярышни. В переднем углу было приготовлено кресло для боярина, а рядом, на таком же кресле, сидела боярыня. На боярыне был шелковый, почти новый сарафан и парчовая душегрейка, опушенная мехом. За ее креслом стояли две сенные девушки. Боярышни, Ольга и Надя, сидели по другую сторону стола. На них были шелковые сарафаны и белые рукава. Черные волосы Ольги были заплетены в толстую косу, украшенную алой лентой; на лбу была надета шелковая перевязь, унизанная жемчугом, а на шее два разноцветных борка. Белокурые волосы Нади лежали кольцами по плечам: она не заплетала еще косы. За каждой боярышней стояла сенная девушка. Сенные, по случаю буден, были в клетчатых сарафанах и белых рукавах из тонкого льняного домашнего холста. Недалеко от стола стоял большой шкаф, на полках которого красовались различные кубки, стопы, ковши, блюда и мисы.
Боярин начал молиться; его примеру последовала и вся семья. Помолясь, боярин сел на свое место и, окинув взглядом всех присутствующих, спросил:
– А Степан где?
– Где он! – торопливо отвечала боярыня. – Голубей ушел ловить, думал, ты долго там пробудешь с Андреем Степановичем и замешкался с забавой-то, потому ребенок еще.
Боярин поморщился.
– Он знает, что я не люблю этого, – громко сказал он.
– Ну, пусть останется без ужина за свое баловство, – сказала тихо боярыня.
– Ну, денек! Все непорядки, – сквозь зубы процедил боярин. – Набалуешь ты его, Прасковья, – добавил он, обращаясь к боярыне.
Боярыня заметила, что боярин не в духе: потупилась и замолчала. Начали ужинать. После первой перемены вошел Степан и, бросив взгляд на мать, а потом на отца, который не удостоил его даже взглядом, понял, с которой стороны ветер, и робко сел на свое место за столом. Все чинно ужинали. Холопы проворно и молча переменяли кушанья. Подали третью перемену; вдруг в столовую палату впопыхах вбежал холоп Данилка и крикнул:
– Боярич Александр Сергеевич приехал.
Все повскакали из-за стола и бросились навстречу бояричу. В дверях стоял молодой человек лет тридцати, высокий, белокурый, с кроткими умными глазами, длинными усами и небольшой бородой. Боярич не был дома, в Артамоновке, более пяти лет: понятно, с каким восторгом вся семья обнимала приезжего. Боярыня и боярышни плакали от радости. Степа рад был приезду брата еще и потому, что, по случаю этого приезда, отец забыл о том, что он не поспел вовремя к ужину, и уши его остались не выдраны сильною рукою боярина. Вся дворня сбежалась хотя бы в дверь взглянуть на молодого боярича. По двору носился крик:
– Боярич приехал, боярич приехал.
Все были веселы. Боярин позабыл о вечерних неприятностях. Прерванный ужин начался снова.
Александр рассказывал о новостях Москвы, передавал боярину поклоны московских бояр, которые не забыли еще своего старого товарища, Сергея Федоровича. По случаю приезда боярича семейство боярина просидело дольше положенного часа, и когда разошлись спать, то пробило уже двенадцать часов – час, до которого в хоромах боярина никогда не сиживали, ни летом, ни зимой.
Приезжему бояричу отвели два боковых покоя, которые прежде занимал Степан. Последнего хотели перевести в большие хоромы, но Александр просил его не тревожить, и братья остались вместе. Они поместились в большой горнице, а в другой комнате, служащей вместо прихожей, поместился дядька Степана, старик Яков, и любимый слуга Александра, Иван, одних с ним лет, бывший с ним неотлучно на службе.
Когда Александр и Степа остались одни в комнате, то погасили свечу и сели рядом. Степа ласкался к брату, и разговорам их не было конца.
– А что, учишься ли ты? – спросил Александр.
– Как же, братец, я уж выучился всему у отца Григория, – отвечал Степа.
– Чему же ты выучился?
– Азбуку Бурцева выучил, всю как есть. Евангелие читал, Священную историю учил. Всякую книгу могу читать и писать учился: батюшка из Москвы прописи достал.
– А знаешь ты, где город Варшава?
– Этого, братец, я не учил, это, видно, не наш, не православный город, наши-то города я знаю: Казань, Саратов, Симбирск, Царицын, Астрахань, откуда струги[22] по Волге идут, а дальше Москва, где ты, братец, служил.
– Ну а дальше-то что?
Степа расставил руки.
– Дальше, – сказал он, – должно быть, Украина, откуда батюшка сюда переехал.
– А дальше, за Украиной что?
– Дальше-то? А я почем знаю, братец, я там не был, дальше, чай, неверные живут.
– Эх, брат, нужно бы тебя в Заиконоспасское училище отдать, лучше бы было: тогда бы ты больше научился, чем у отца Григория.
– Что ты, братец, меня матушка не пустит, ведь я один остался.
– Ну, сюда бы учителя взять.
– Как можно, братец, в свои хоромы взять чужого человека, – у нас сестры.