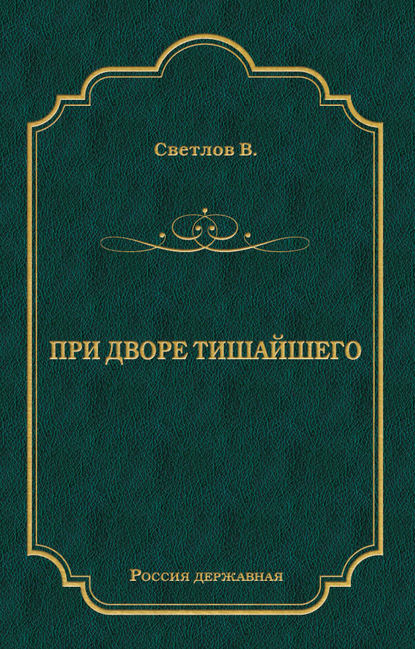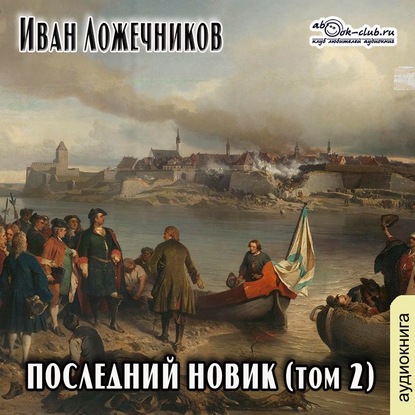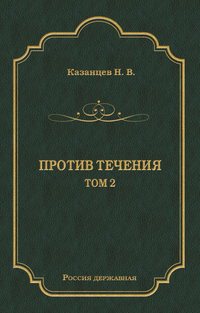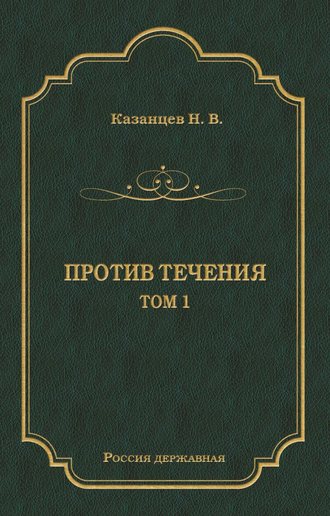
Полная версия
Против течения. Том 1
– Пожалуй, что так, – согласились погорельцы.
– Я и допрежь говорил, что надо лучше князю поклониться, – сказал Егор, – да подьячий научил: «Челобитную, говорит, подайте». А теперь он тут же в приказе сидит да ухмыляется, разбойник.
Вечером того же дня целовальник Еремей Тихонов и посадский человек Василий Сапоженков сидели в новой и просторной избе Тихонова, соседа Сапоженкова, и разговаривали между собой.
– Так ты говоришь, меня пытать будут, коли этот мошенник завтра, под пыткой, оговорит меня? – спрашивал Сапоженков.
– Да, губной сам сказывал, и дьяк Павел Васильевич тоже говорит, – отвечал Еремей, – сегодня хотели тебя взять, да я заручился, значит, а завтра непременно призовут к допросу. Пожалуй, и бабу и ребят позовут.
– Господи, за что это на меня беда такая вышла, – говорил Сапоженков, – вроде я ничем особенно не грешил: посты как следует соблюдаю и нищую братию по праздникам не забываю… За что Господь наказывает?
– Эх, шабер, – отвечал Еремей, – наше дело торговое, что ни скажешь, то и согрешишь. Вот, примерно, ткань, какую продаешь, ситец ли, сукно ли, оно с изъяном, гнилое или лежалое, а мы божимся, что хорошо; и твое-то дело: хоть ты и мелочью торгуешь, а не без греха. Вот недалеко ходить, на прошедшей неделе моя хозяйка у тебя масло деревянное брала, для лампадки, для Господа, значит. Ты заверил, что масло хорошее, а вышло дрянь, да и бутылка-то с трещиной, а она не поглядела, тебе поверила. Оно мелочи, а грех.
– Что и говорить, что ступили, то и согрешили, наше дело такое, торговое, – грустно отозвался Сапоженков.
– А ты лучше дело-то делай, – советовал Еремей, – завтра пораньше к дьяку-то сбегай да поклонись ему чем, – свечей с пуд отвези али мыла и поговори с ним: он уже сам с губным-то поговорит, ну а мы-то свои люди.
– Господи, Господи, не только пуд, три-четыре пуда не пожалею, только бы вылезти из беды.
– Это я сказал пуд на первый раз, когда придешь с поклоном, а то придешь с пустыми руками, он и говорить с тобой не станет. Нет, ты не жалей уж товару-то, пока твое дело не кончено, все губному и дьяку без денег отпущай.
– Вот грех-то, – убивался Сапоженков, – и все это по сердцам Вакулка меня облаял. Он давно на меня злится. Еще когда мы с ним в Лыскове жили, там вздорили, и в тюрьму-то в первый-то раз он через меня угодил, а говорит, я его притон держал.
– Свечей у нас нет, – сказала, войдя в избу, дородная супруга Еремея Тихонова, – послать бы кого к Василью Савельевичу, да малые-то все в разброде.
– Я сам пришлю со своими мальцами, сколько нужно, – сказал Сапоженков, вставая.
– Да хоть с полпуда али уж пуд пришли, чтобы не часто брать, – отвечал Еремей Тихонов.
– Сейчас пришлю, – сказал Сапоженков.
Выйдя на улицу, он долго молился на церковь и потом пошел домой.
«Разорят, в корень разорят, – говорил он сам с собой. – Вот и шабер и приятель, вместе хлеб-соль водим, а на первый же раз свечей просит, даром ведь, не заплатит: за труды скажет, даром не велик труд – молча сидеть в приказе. Всяк бы ушел эдак-то трудиться».
Всю ночь не спал бедный Сапоженков, а рано поутру побежал к дьяку с поклоном.
IVЖигулевские горы живописно протянулись по правому нагорному берегу Волги от Симбирска вплоть до Самары. Крутые скалы их местами почти отвесно стоят над водой. Дики, прекрасны эти скалы. Они очень разнообразны: то покрытые зеленой травой, то поросшие густым вековым лиственным лесом, они представляют великолепный ковер зелени; то вдруг выступают глыбы белого известняка. Причудливы формы этих скал. Иные похожи на башни и замки или, вернее, на развалины замков и башен. То открывается целый ряд холмов, красиво образующих великолепные долины, поросшие сочной, в сажень вышиной, травою, которой не знакома была в то время коса, или вековыми лесами лиственных пород, не знакомыми с топором и пилой. Многие из долин кажутся мрачны даже днем, до того они тесны и окружающие их горы круты, а деревья ветвисты и высоки. Некоторые долины, широкие у Волги, выше суживаются и разветвляются на несколько долин, как бы давая убежище приютившемуся тут люду от преследования. Глубокие затоны Волги подходят к долинам, а некоторые входят в самые долины, образуя тихие бассейны вод. Затоны эти поросли густой водяной травой и камышами, в которых живут миллионы разных пород водяных птиц, вьющих гнезда в непроходимой чаще высокого тростника.
Любыми породами птиц изобилуют волжские затоны! Краса водяных птиц, белые красноносые лебеди, красуются на их волнах. Серые дикие гуси огромными стаями купаются в их водах. Казарки, или казара, мелкие гуси с коротким клювом и черными перьями на хвосте тысячами летят на ночлег в волжские камыши. Всех пород утки находят здесь себе приют. Раздается громкий крик кряквы; слышно злобное шипенье утки головни или свирька; бледно-серый чирок храбро летает у берега; крахарь, постоянный житель вод, выставляет из воды свою головку с тонким цилиндрическим клювом. Порою он вспорхнет, но скоро вновь садится в воду; на земле ему нет места: ноги его прикреплены слишком близко к заду и не позволяют ему свободно ходить; но зато ему удобно плавать. Маленькие, покрытые желтоватым пухом утята ныряют тут же. Ушастая поганка весело выставляет свою головку с красным хохолком из прибрежного тростника. Длинноносый кулик прогуливается по песчаной отмели. Крикун-коростель надрывается от крика в прибрежном кустарнике, быстро перебегая с места на место на своих длинных тонких ногах. А в кочкарнике перепархивают бойкие бекасы. Белокрылые мартышки, перевертываясь, кружатся над водой. Порою белый пеликан, или баба-птица, с мешком у длинного желтого клюва, летит с Волги в Жигули и несет детям воду и рыбу в своем растяжимом мешочке.
В диких лесных долинах Жигулей также немало жильцов. Вот тетерев-глухарь угрюмо сидит на вершине столетнего дуба Тетерев-косач, с красными бровями и косицами в хвосте, с шумом перелетает с места на место. Стая серых куропаток копошится у корней деревьев. Длинношеий журавль охорашивается среди широкой лесной поляны. Хитрая красная лисица незаметно скользит между деревьями, посматривая во все стороны и помахивая своим пушистым хвостом. Порою слышится треск кустарника. Это житель дремучих лесов, наш русский бурый медведь-стервятник, пробирается сквозь чащу кустарника. В грязи камыша слышится злобное хрюканье кабана. А вот и серый заяц, беззащитный житель лесов, поднялся на задние лапки и прислушивается к шуму, насторожив уши и озираясь во все стороны. А вверху надо всем этим белоголовый орел-беркут, распластав крылья, плавает в воздухе, зорко высматривая добычу.
Этих жителей лесов и камышей редко кто беспокоит в их уединении.
А жигулевские леса! Как величественно и красиво они раскинули свой мрачный покров в горных долинах. Вот группы вековых дубов. Они далеко и широко выкинули свои могучие сучья с длинными темно-зелеными листьями. Вот липы, соткавшие зеленый шатер из густых круглых листьев. Далеко-далеко несется запах липовых цветов. Они манят отдохнуть под свою густую тень. Вот стройная осина гордо высится своей пирамидальной верхушкой, шелестя листьями на тонких длинных стеблях. А там – стройный клен оспаривает первенство между другими деревьями. Внизу кусты шиповника, волчьих ягод и курушатника, переплелись, перемешались и затрудняют путь. Ближе к берегу группами растут красные ольхи и раскидистые ветлы. Высокий вяз высится среди мелких молодых ив. Хороши жигулевские леса! Здесь, кажется, сама природа зовет к себе людей, которым тесно жить в селах и городах. Действительно, в горах есть пещеры, вырытые как бы рукою человека, но на самом деле – это произведение самой созидающей природы.
На другой, левой, луговой стороне Волги – обширные, малозаселенные степи могут также дать приют бездомному бродяге. По Волге идут купеческие струги. Жигулевским молодцам нет надобности грабить и убивать: хозяева стругов сами отдают добровольно молодцам выкуп с каждого струга.
Но ныне что-то стало меньше вольницы в Жигулевских горах: большая часть ее в запрошлом году потянулась на Хвалынское море[16], вслед за батюшкой Степаном Тимофеевичем. Оставшиеся в Жигулях удальцы образовали новые шайки из новых пришельцев; но их все же меньше, чем было прежде.
Вечер. Ветер стих. Тиха и спокойна Волга. Не шумят жигулевские леса и волжские камыши. Не шелохнется трава. Солнце село, оставив за собой багряную полосу вечерней зари, ярко отражавшуюся в тихих, спокойных водах величественной реки. С севера надвигались громадные синие тучи. Они медленно раздвигают свои темные крылья. Деревья, отбрасывая тень, сгущались в темные массы, покрывая темным кружевом растущие под ними цветы и травы. В воздухе проносилась уже струя свежего сырого воздуха; но росы не было, как обыкновенно бывает вечером перед дождем. С противоположного тучам края неба начала показываться луна, обрисовывая на синеве неба громадный огненный полукруг.
В одной из самых диких долин Жигулей, неподалеку от глубокого затона, ярко горел большой костер. Два человека возились около костра, приготовляя ужин. Над костром висел большой котел, из которого клубами валил пар. Около костра лежали разные кухонные принадлежности: сковороды, котелки и прочая утварь. Тут же лежал мешок с крупой, голова быка и окровавленный топор. Три других человека, как видно только что пришедшие из дальнего пути, лежали неподалеку от костра, не принимая участия в стряпне. Около них лежали их узелки и топоры. Вглядевшись пристальнее в их лица, мы в двоих из них узнаем Синицу и Косулю, третий же был татарин, старый жигулевский бродяга, проводивший их в Жигули, в шайку своего атамана Парфена Еремеева.
– А будет ныне гроза, – сказал Синица.
– Да и дождь будет, – отвечал татарин. – Вы, бачка[17], напрасно тут разводишь огонь, – добавил он, обращаясь к кухарям.
– Атаман приказал, – объяснил кухарь.
– А что-то долго атаман замешкался на Волге, – вставил другой кухарь.
– Видно, управляется, – отвечал его товарищ.
– А вот она идет, – крикнул зоркий татарин.
Действительно, скоро раздался ясный звук весел, ударявших о водную поверхность. Зашумели камыши, – и к берегу причалили две лодки с еремеевскими молодцами. На носу передней лодки стоял человек средних лет, высокого роста, с рыжей окладистой бородой, в красной рубахе и кафтане, обшитом галунами. К кушаку прицеплена длинная казацкая сабля. Высокая шапка надета набекрень. Он стоял опершись на ружье. Это был сам атаман Еремеев. Рядом с ним стоял седой старик, помощник атамана, есаул, старинный житель Жигулей. Имя его давно забыли и звали просто дедушка Осетр.
– Готов ли ужин? – крикнул атаман поварам.
– Готов, атаман, – отвечали они.
– Это, бачка, как сегодняшний улов? – спросил татарин.
– Как и всегда, получил выкуп, – отвечал атаман. – А ты, Усманка, что делал?
– Видишь, двух согласников привела, – отвечал Усманка.
– Где они?
Синица и Косуля предстали перед атаманом. Он смерил их строгим взглядом и спросил:
– Бывали вы где на удали?
– Нет, окромя своей деревни, почитай, нигде не бывали, – отвечал Косуля.
– Ну, завтра мы вас попробуем на деле, а теперь поднести им по стакану горелки, что взял у купца, и ужинать. Все, что привезли с стругов, убрать в пещеру, – распорядился атаман.
Приехавшие молодцы, числом около двадцати человек, перетащили из лодок в пещеру привезенное добро и возвратились ужинать. За ними вышла из пещеры молодая женщина, краснощекая, с длинной светло-русой косой и высокой полной грудью; за нею еще женщина, постарше, одетая также богато. Первая была Дуняша, любовница атамана Еремеева, вторая – Анфиска, любовница Осетра.
– Много, атаман, было ноне народу на стругах? – спросил один из поваров, выпив ковш вина.
– Всего было три струга небольших, на них хозяева, человек десять приказчиков и кормчих да лямотников человек шестьдесят, – отвечал атаман.
– Не дрались?
– Куда драться!
– Послушай, брат, – сказал Синица одному разбойнику после выпивки вина, отчего язык у него развязался, – мне вот что невдомек, как это семьдесят человек не могут справиться с двадцатью, а даром отдают свое добро…
– Ах ты голова! – отвечал разбойник. – Кто семьдесят-то? Одно – это хозяева, приказчики да кормчие, а лямочники-то не в счет. Разве они станут драться, им-то что: добро не их, да и хозяева-то их гонют как лошадей да морят на одном хлебе: за что они будут вступаться-то!
– Когда бы они кормили хорошо своих рабочих, тогда бы те вступились, – сказал Косуля. – Вот, к примеру, теперь я сыт и пьян от своего хозяина, – так разве я дам его в обиду?
– Молодец, – похвалил атаман. – А ты, Усманка, ничего не слыхал о Вакуле?
– Ничего, – отвечал Усманка, пережевывая кусок говядины.
– О Вакуле? Да его при нас схватили в Самаре, – сказал Синица.
– Ну!
– Право. «Слово и дело» закричал кто-то, мы утекли, а его схватили.
– Ну, пропадет Вакула, – сказал один из разбойников.
Атаман задумался.
– Пропасть-то не пропадет, – сказал он, – не такой он парень, чтобы пропасть, а круто ему придется в лапах губного. Надо бы его выручить, да не знаю как.
– Послать разве кого?
– А как посланный-то попадется?
– У меня в Самаре есть знакомец, – сказал молодой разбойник, черные курчавые волосы которого и тип лица заставляли предполагать в нем иерусалимского дворянина. – Коли бы побольше денег дать, я бы мог его выручить.
– За деньгами дело не станет, – отвечал атаман, – да ведь ты и деньги-то украдешь, и Вакулу-то не выручишь!
Разбойники захохотали. Иерусалимский дворянин замолчал.
– Вот как у нас велось исстари, – сказал старый седой Осетр. – Коли кто послан атаманом или кругом да попадется, – иди его выручать; а коли кто своей охотой куда пошел да попался, так вырывайся как знаешь.
– Я не давал Вакуле никакого поручения, он сам за своим делом пошел в Самару, – отвечал атаман.
– Стало быть, и посылать выручку не след, не так ли, детки? – прибавил Осетр, обращаясь ко всему кругу.
– Верно, дедушка, – отвечали разбойники.
– А что-то мало сегодня привезли добра, – заметила Дуняша.
– Ишь, ненасытная, тебе все мало, – засмеялся атаман.
– Знамо мало, – продолжала Дуняшка, – вот кабы на Павловку идти, так там в одну ночь можно бы забрать столько добра, сколько здесь в месяц не наберешь.
– Ишь, ей больно охота Шихобалиху-то придушить, – засмеялся Осетр.
– Поспеем и в Павловку, – сказал атаман, – вот что скажут разведчики: если все тихо, можно на днях и на Павловку грянуть, только после-то уж придется бежать отсюда куда подальше.
– Не знаю, когда мы соберемся в Павловку, – с сердцем сказала Дуняша.
Стал накрапывать дождь и грозился перейти в ливень. Поужинав, разбойники помолились Богу и ушли в пещеру. Пещера была довольно обширна. Вход в нее был из ямы, поросшей густым кустарником и высокой травой. Из этой пещеры, через довольно узкий коридор, был ход в другую пещеру, поменьше первой. В первой помещались на ночь в ненастную пору разбойники; во второй хранилось награбленное добро. И чего тут только не было: и оружие, и церковная утварь, и парчовые поповские ризы, и хламиды еврейские, и шелковые ткани, и дорогие меха, и табак, это зелье сатанинское, употребляемое разбойниками, и мука, и соленая говядина. Не просто живут Еремеев и Осетр с своими молодцами в Жигулевских горах: у них и мушкеты есть, десятка полтора наберется, а топор и кистень, почитай, у всякого. У кого ничего нет, с пустыми руками придет, тому атаман дает какое-нибудь оружие. Для забавы у жигулевских молодцов есть водка и бабы. Водку они промышляют на стругах, которые идут по Волге вниз по течению на веслах или вверх против течения на лямках бедных бурлаков. Баб промышляют в соседних деревнях и селах охотой и неохотой; но чаще охотой: разгульным женщинам нравится веселая вольная жизнь жигулевских обитателей, и они уходят к ним добровольно. Здесь живет, как мы видели, Дуняша, любовница атамана, бывшая сенная девушка боярыни Шихобаловой, бежавшая от своей боярыни после того, как боярыня высекла ее розгами среди двора, перед глазами всей дворни, на страх прочим сенным девушкам и всему холопству. Живет также Анфиска, любовница есаула, бежавшая из одного черносошного села от лихого мужа. Весело живут бабы в Жигулях: пьют водку, поют песни, ничего не делают, только охраняют награбленное добро да рядятся в богатые шелковые и парчовые наряды. Особенно летом им раздолье: тепло и хорошо, – во всякой пещере есть приют. Зимой не так хорошо: надо искать убежища, в лесу холодно; надо идти в хутор или в умет, заплатить деньгами или добром хозяину и жить без дела до весны. Впрочем, некоторые живут в Жигулях и зиму. Пристроют к пещере дверь, устроют печи и живут, зимуют тут; но это не легко, надо посылать за провизией иногда очень далеко, а как пойдет метель, то и посланный-то заплутается в горах или где-нибудь попадется, а тут сиди без хлеба.
Рано поднялись на другой день разбойники, выпили по чарке водки и стали завтракать по-вчерашнему, на берегу. К завтраку возвратились посланные вверх разведчики и принесли недобрые вести. Атаман тотчас собрал круг.
– Известно стало, – говорил он товарищам, – что собирается рать из Симбирска, которая поплывет вниз и будет искать нашего брата в горах и затонах: нам здесь несдобровать. Ниже Волга еще шире, берега еще пустыннее; поплывем туда, а может быть, и доберемся до Хвалынского моря и повстречаем там Степана Тимофеевича: он должен ныне к осени из персидской земли воротиться.
– Как же мы проберемся мимо Самары? – насторожился Синица. – Там, говорят, разъезд ходит.
– Проберемся ночью, правее; да что долго думать, сегодня же в путь, – говорил атаман.
– Сегодня, сегодня! – кричали разбойники. – Не попадаться же в лапы к губному.
– Ну, Дуняшка, сегодня идем, собирайся, – сказал Еремеев, входя в пещеру, где на постели лежала только что проснувшаяся девушка.
– Куда, в Павловку? – радостно вскрикнула она, вскакивая с постели в одной рубашке и хватаясь за свое платье.
– Ну тебя с Павловкой-то, идем к Саратову, а потом к Астрахани.
– А когда же Шихобалиху-то давить? – спросила девушка, опуская руки.
– До Шихобалихи ли твоей теперь, когда из Симбирска сыск идет да Степана Тимофеевича ждут в Астрахань.
Дуняша надула губы.
– Еще хотел Шихобалиху удавить, – говорила она, – а сам бежит; а я-то, дура, поверила и ждала не дождалась этого дня… – Она злобно сверкнула глазами. Но атаман уже не слушал ее и ушел давать последние распоряжения.
– Не отомщу я, видно, своей Шихобалихе, – говорила Дуняша, собираясь и укладывая в тюки свое добро. – А уж как бы хотелось всю бы на кусочки ее разрезать, как она сама меня тиранила. Сколько раз секла, а в последний-то раз и вспомнить страшно, ух! Ну, что мне в этом… – И девушка толкнула тюк с нарядами ногой. – Мне не это нужно, – продолжала она, – я и связалась-то с ним затем, чтобы он Шихобалиху удавил. Зимой говорил: все до лета, а вот и лето прошло, а он бежит. Да нет, я не поеду, чего мне делать в Астрахани. Парфен Еремеич, – крикнула она.
– Чего еще тебе надо? – сказал атаман, показываясь у входа.
– Милый мой, – Дуняша бросилась к нему на шею, – заедем в Павловку по дороге, а?
– Дура, чего еще выдумала, буду я для твоей Шихобалихи головы своих молодцов терять. Тоже деревня не маленькая, не сдадутся сразу.
– Сдадутся, милый, сдадутся все холопы, согласники будут, только поедем!
– Пустяки.
– Ну, так я не поеду с тобой.
– Что? – крикнул атаман. – Ни слова больше: едем, а не то Волга-то близко. – И атаман грозно сверкнул глазами.
Дуняша смолкла.
VМитяй тем временем приехал домой, в село Артамоновку.
Село Артамоновка была вотчина боярина Сергея Федоровича Артамонова. Вотчина эта была пожалована царем Михаилом Федоровичем отцу боярина за его походы на Литву и на крымцев. Дед боярина хотя и заседал в думе, но особенно ничем не прославился. Отец же его, боярин Федор Артамонов, служил при дворе Михаила Федоровича и неоднократно бывал в походах, был даже посылаем к польскому королю с приговорами и умер в одном украинском городе, куда был послан на воеводство. Сына своего, Сергея, боярин также представил ко двору; но Сергей Федорович не выслужился до крупных чинов и скоро вышел в отставку, получив, впрочем, чин стольника, о чем похлопотал один из бояр, имевших силу при дворе, приятель и кум его отца. Боярин Федор не заглянул в пожалованную ему на Волге вотчину. Сам Сергей Федорович, по выходе в отставку, приехал жить в новую вотчину, где крестьяне встретили с хлебом и солью своего нового боярина. У боярина была еще родовая вотчина на Украине; но украинская вотчина не могла дать спокойного пристанища: беспрерывные войны с Литвой, набеги крымцев и разбой вольницы не давали покоя, потому боярин решился поселиться навсегда на берегах Волги. Конечно, и здесь могли беспокоить боярина жигулевские разбойники; но они не смели нападать на усадьбу боярина, у которого в селе было до двухсот дворов крестьян и много дворни. И благодаря Богу во все двадцать лет проживания боярина в Артамоновке нападений – ни на усадьбу, ни на село – со стороны жигулевской вольницы не было.
Большинство артамоновских крестьян были пожалованы отцу боярина; но были и переведенцы из украинской вотчины. Кроме этого села у боярина была еще небольшая вотчина, верстах в восьми от Артамоновки, известная под названием Артамоновских выселок.
Село раскинулось на возвышенности, с которой видна была Волга, но строители, как видно, мало заботились о прелестных видах, и село, повернувшись задами к Волге, растянулось вдоль небольшой речки. По хозяйственному расчету строителей, оказалось выгоднее устроить село так, а не иначе: ближе было брать воду и поить скот в маленькой речке, чем спускаться к Волге и потом еще идти песчаным берегом, затопляемым полою водой. В селе было две улицы: одна, большая, шла по берегу небольшой речки, другая называлась Волжская, потому что шла параллельно по берегу Волги; но не лицом к красавице реке, а задами. Среди села, на небольшой, поросшей травою площадке, возвышалась церковь. Церковь небольшая, деревянная, выкрашенная желтой охрой, выстроена была боярином Сергеем Федоровичем, человеком религиозным. Но церковь долгое время стояла заперта, так как боярин повздорил с архиереем о попе. Присланный в Артамоновку поп был малограмотный и любил выпить; боярин прогнал его и просил архиерея выслать ему другого; но вновь присланный поп оказался хуже первого. Он читал чуть не по складам, пил водку и вдобавок часто дрался с дьячками и холопами боярина. Раз вечером он разодрался с дворовыми холопами на дворе боярина, недалеко от боярских хором. Поднявшийся крик перепугал боярскую семью. Тогда Сергей Федорович велел привести к себе вздорного попа и, отвесив ему по спине удара три палкой из своих рук, приказал холопам немедля выгнать его из села, что и было тотчас исполнено, несмотря на темную ночь. После того боярин писал архиерею, чтобы он выслал ему попа, «грамотного, который бы книги мог читать как следует, и учить народ слову Божию, и чтобы за ним ни пьянства, ни буянства, ни других художеств не было». На это архиерей отвечал, что на него, столичного московского боярина, не угодишь, и года два не давал попа, почему церковь стояла заперта, а требы исправлял самарский поп, приезжая за тридцать пять верст. Наконец боярин написал просьбу в Москву, и в Артамоновку был прислан новый поп, отец Григорий, бывший прежде певчим в хоре патриарха. Грамоту он знал порядочно и умел даже писать; водку хотя и пивал, но в пьяном виде буйств никаких не делал и, напившись, спал у себя дома. Боярин полюбил отца Григория за его грамотность и скромный нрав, поручил ему учить детей и выстроил для него, неподалеку от церкви, две новые избы.
Хоромы самого боярина стояли поодаль от крестьянских изб; они были окружены избами, в которых жили дворовые люди. Не очень красиво были выстроены хоромы боярина, но за красотой постройки в то время не гнались, повторяя пословицу: «Не красна изба углами, красна пирогами». И дом боярина вполне оправдывал эту пословицу: и в будни и в праздник приезжий гость находил в них радушный прием и сытное угощение. Дом боярина считался в округе самым большим. Он, как говорится, был неловко скроен, да крепко сшит. Передние ворота были исполинских размеров и по своей тяжести смахивали на крепостные; столбы дубовые, обхвата в два толщиною, каждая петля полотен весила по пуду, доски на полотнах ворот были в вершок толщины. Подъезд крыльца также не отличался красотой и симметрией, но он был устроен из толстого соснового леса, привезенного с верховьев Волги. Из соснового же леса были выстроены и самые хоромы. Дом был крыт тесом, чем резко отличался от всех построек двора, крытых соломой.
Внутри дом был устроен и убран на манер столичного. Гость входил в большую переднюю, где постоянно находились человека два или три холопов-прислужников. Из передней большая дверь вела в проходную палату, из которой было трое дверей: одни вели в большую гостиную, или золотую палату. Двери эти были громадных размеров, но они отворялись только в особенно торжественных случаях, при приеме гостей, для прислуги же было сделано в этих дверях что-то вроде калитки, через которую и проходили запросто в большую палату. Другая дверь вела в столовую палату, соединенную с большой палатой тоже громадною дверью с подобной же калиткой. Третья дверь вела в деловую избу боярина, где боярин принимал гостей запросто и куда приходили к нему с докладом дворецкий и старосты его вотчин, для которых была устроена небольшая дверь в прихожую, чтобы старосты не марали полов в проходной палате. Дальше был терем боярыни, за ним опочивальня и наконец сени, или девичья, где помещались прислуживающие боярыне сенные девушки. Из этих сеней вела лестница во второй этаж, где были устроены еще две большие комнаты – терем боярышень и девичий терем. В последнем занимались работой сенные девушки, а по праздникам и во время приезда гостей боярышень в этом же тереме устраивались игры.