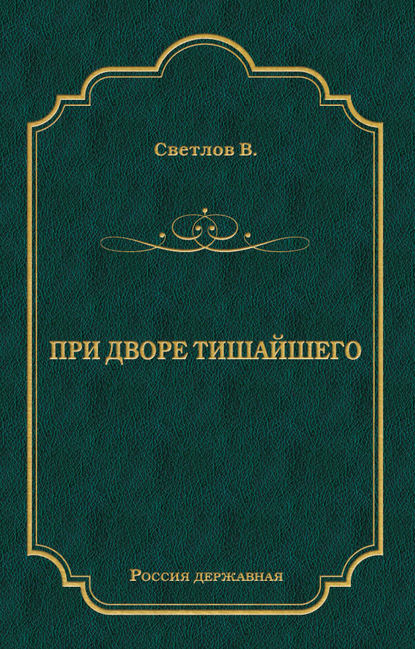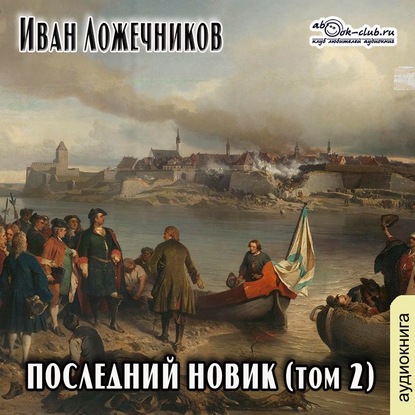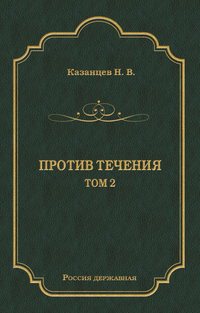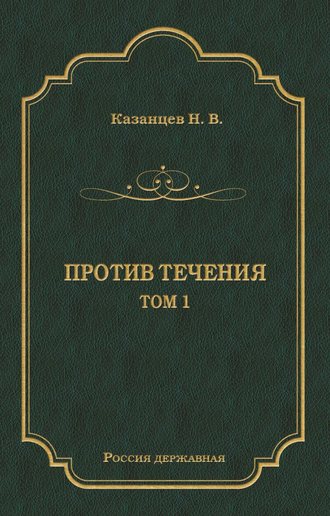
Полная версия
Против течения. Том 1
– А сестер-то съест, что ли, учитель-то; нет, посмотрели бы вы, как в других землях люди живут, у них не так.
– Да ведь там, братец, неверные, известно, у них другие порядки.
Александр засмеялся:
– Ну а скажи-ка мне, верный человек, с кем ты здесь занимаешься? С кем дружишь?
– Как с кем, мало ли у нас холопов, молодые ребята есть; вот Данилка, Витька, Васька – я с ними верхом езжу и охочусь. Сенные девушки тоже есть, с ними играю, только это, чур, тихонько от батюшки и матушки.
– А из соседей-то есть кто-нибудь? Ведь почти всех позабыл.
– Как же, братец, есть: вот Каменевы, сын воеводы Яша; Арсений Михайлович Кузьмин, этот из небогатых; Липин – тоже из небогатых, да еще князь Дмитрий Юрьевич.
– Ах да, князь Бухран-Туруков, мой бывший товарищ. Ну что, каков он нынче?
– Хороший такой, братец; роду знатного, веселый; у него весело, много лошадей, а сенные девушки какие хорошие! Только батюшка его не любит, сам не ездит и меня не пускает в Бухрановку.
– А больше-то никого нет?
– Как же нет! Вот боярыня Шихобалова с дочерью приезжает, из Самары гости тоже бывают. Вот бы, братец, тебе невеста-то!
– Кто, гости-то, что ли?
– Нет, боярышня-то Шихобалова: она богатая и роду знатного.
– Эх вы, мясники, только и слышишь от вас «знатный род да знатный род», а ты, чай, сам-то боярышню Шихобалову только сквозь покрывало видал?
– Известно, братец, теперь она большая, без покрывала разве будет ходить; известно, под покрывалом. Ну а прежде-то, когда маленькие были, играли вместе, ведь мы одних лет, почитай, вместе росли.
– Ну, ладно, придет время, всех увижу, а теперь спать пора.
Помолчав, Степа вновь спросил брата:
– А ты, братец, надолго к нам?
– Поживу, доколе царь не позовет на службу.
Боярин и боярыня, отправившись в опочивальню, также долго разговаривали о сыне.
– Вот, Прасковья, – говорил боярин, – ты все не чаяла видеть сына, а он приехал к нам; вот какая теперь радость. Вот и Степка эдак выслужился бы да приехал. Отпустим-ка его в Москву, чем ему шилоберничать-то?
– Нет, боярин, Христа ради не тревожь его: он еще молод, куда ему в Москву, – отвечала боярыня. – К тому же он один у меня, как порох в глазу. Сашка-то, ты думаешь, надолго приехал, он опять удерет. Девки непрочный товар: один Степка мне остается.
– Да пойми же ты, ведь он воротится и будет жить опять с тобой.
– Нет, нет, я не спорила с тобой о Сашке, когда ты его в науку отдавал, ни слова не говорила, – не разбивай ты остатки моего материнского сердца, не отнимай у меня последнего сына! – умоляла боярыня.
– Ну, видно, с тобой не сговоришься, спать уж, видно, лучше, – сказал боярин.
Боярыня ударила палочкой в серебряную дощечку. Это изобретение Запада начало прививаться и в России. Боярич Александр прислал две такие дощечки отцу и матери, и они им понравились. На зов вошла сенная девушка, которая сидела в соседней горнице, на случай если позовет боярыня.
Девушка задула стоящую на столе около кровати свечу и ушла из комнаты; но боярыня долго еще не спала.
– Вот что, Сергей Федорыч, – сказала она, – надо бы женить Сашку, он бы охотнее дома стал жить.
– Что ж, я бы тоже не прочь, только по его желанию, а принуждать я его не хочу.
– Что ж, стало, он из воли родительской вышел? – возмутилась боярыня. – Хоть и учился он в чужих краях, а из воли родительской выходить не должен. На ком женить – отец с матерью лучше знают; ты много воли ему даешь, Сергей Федорович.
– Все не то ты толкуешь, Прасковья, – отвечал боярин. – Конечно, воля родителей, и я тоже говорю, и делаю так. Не буду я спрашивать дочерей, хотят или не хотят они идти за жениха, какой будет сватать – это дело наше; не буду спрашивать и Степана: оттого что они еще молоды, глупы, и мы опытнее их; но Александр – другое дело, он не ребенок и сам учился больше моего и, надо правду сказать, поумнее нас с тобой, и нам неволить его не приходится.
– Ну, так Степку женим?
– Молод еще.
– Видно, мне не видать и внучков, – жаловалась боярыня. – Чего еще надо: и большак приехал, любого сына жени, а ты не хочешь: один молод, другой стар. А и невесту-то не искать. Вот боярыни Шихобаловой дочь, одна дочь и рядной записи хоть не пиши: все ее будет и рода знатного!
– Перестань, Прасковья, – сказал боярин, и боярыня умолкла.
Вся Артамоновка погрузилась в крепкий сон. По случаю позднего успокоения все проспали поутру обычный час, даже холопы проспали лишний час, потому что боярин весел и, стало, браниться не станет.
Поутру служащий в доме Артамонова холоп Данилка, родной брат приезжего холопа боярича, Ивана, сидел с ним на крыльце боярских хором и разговаривал о бояриче и о дальних сторонах, из которых возвратился Иван.
– Наш боярич, – говорил Иван, – все такой же смиренник, еще даже лучше стал, словом тебя не обидит, разве только дураком назовет да пристыдит тебя. А умный какой – страсть, все знает, и по-польскому и по-немецкому. А дорогой-то едет, все примечает да в книжку записывает – слышь, боярину Матвееву эту книжку-то послать хочет. Ну и к церкви Божьей прилежание имеет. Не знай, в кого он такой уродился. Ну а меньшой-то боярич, каков стал?
– И, беда. Так-то ничего, кажись, добрый, только бранится и дерется страсть: в боярыню пошел. Ну, коли угодишь ему чем насчет сенных или другого чего прочего потрафишь – скажет так ласково и подарок даст, а не протрафишь ему – всю рожу своими руками изобьет. Чего сделаешь? – жаловаться боязно.
– Ну а старый-то боярин все такой же?
– Все так же, больше криком берет. Нет, у нас еще жить можно, а вот у князя – страсть.
– Што, плохо?
– Оно так-то, пожалуй, лучше нашего: водки пей, что хочешь, и обряжает хорошо; только уж берегись. Хуже всего, что часто так, зря, без дела бьет. И больно бьет: кошками[23] сечет. Сегодня наградил, а завтра все отнимет. Жен отнимает от мужей: молчат, а то запорит…
– Ну, теперь достанется сенным, – с пошлой улыбкой добавил Данилка, – допрежь один боярич был, а теперь двое.
– И, нет, брат, – отвечал Иван, – прежде-то он смолоду смирен на эти дела был, а теперь, вот года три будет, и смотреть не хочет, а какие красавицы были на Украине.
– Что же это?
– Бог ведает, а мне невдомек, только вот третий год пошел, как произошла в нем перемена большая. Он и прежде смирен был, но все же ину пору развеселится, а теперь ходит грустный такой, индо жаль его.
– Разве хворает?
– Нет, здоров, только грустит о чем-то. Ничего не говорит. Наше дело холопское, разве скажет, чего у него на сердце.
– Ну а у вас чего нового на Волге? – спросил Иван брата.
– Мало ли чего! В Жигулях неспокойно, всё разбойники; да еще в запрошлом году Стенька какой-то Яик взял да воеводу тамошнего повесил. Тут пошла передряга, рать хотели собирать, да, слышь, Стенька-то ушел в Хвалынское море.
– Ну, я об этом еще не слыхал хорошенько-то, – сказал Иван. – Вон оно что – воеводу повесил… – повторил он вполголоса.
– После того, – продолжал Данила, – пошел в народе нехороший слух: слышь, Стенька рать набирает, бояр всех порешить хочет и волю всем даст. Наших человека четыре из крестьян бежали. У князя из дворни кой-кто утек. У боярыни Шихобалихи тоже много бежали. Ее сенная Дуняшка, вот близко год будет, как убежала, и отыскать не могут.
– Дуняшка, это та, с коей она все ездила, вострая такая девчонка?
– Она самая.
– А наши-то дворовые, чай, не побегут, – убежденно сказал Иван.
– Куда! У князя-то да у Шихобалихи накладно жить-то; ну а у нас-то обиды нет. И крестьяне-то бежали больше от оброка.
VIIПосле сытного завтрака, из только что наловленной речной рыбы (день был постный, а посты в Артамоновке строго соблюдались), Степа утащил брата в конюшню, показал ему жеребцов: и Сокола, и Кречета, и Серяка, и Гнедка, одним словом, всех бывших в конюшне лошадей, объясняя качества каждой из них; а после осмотра добавил с грустью, что у них нет таких лошадей, как у князя Бухран-Турукова. Позже Александр постоял несколько минут перед рядами яблонь и акаций: он помнил их кустиками, некоторые он сажал в детстве, а теперь они разрослись и стали деревьями. Из огорода перешли в рощу и вышли на берег Волги.
Александр засмотрелся на чудную красавицу Волгу, на ее громадное водное пространство, на ее поросшие травой и камышами берега, на высоченные осокори и ивы, осеняющие ее берега, и на синеющие на другом берегу Жигули. Все это было ему когда-то хорошо знакомо. Вспомнил Александр то время, когда он еще ребенком гулял тут и катался в лодке с отцом и дядькой. Воспоминания минувших дней нашего детства всегда дороги сердцу: они наводят на нас какую-то тихую радость и в то же время какую-то непонятную грусть об утраченных навсегда счастливых, беспечных, тихих и беззаботных днях.
Долго и пристально глядел Александр на величественную Волгу. «И я был когда-то счастлив здесь, – думал он, – жизнь моя не была тогда еще разбита, и я был спокоен и доволен. Авось успокоюсь я и теперь, при виде любимых картин природы и вспоминая давно минувшие счастливые дни». Неподалеку от места, где стояли Александр и Степа, за кустами раздались веселые голоса и плеск воды; но Александр не замечал этого; он был погружен в свои думы и в созерцание величественных красот природы: он был художник и поэт в душе; но Степа был более прозаичен и потому, насторожив уши, пристально посматривал в ту сторону, откуда раздавались голоса.
– Хороша ты, Волга, – сказал наконец Александр.
– Не знаю, братец, что ты находишь в ней хорошего – речка как речка, – отвечал Степа.
– Не речка, а река, лучшая в мире река, – с увлечением продолжал Александр. – Я ездил и по России, и по чужим землям, видел и Дунай и Вислу, а такой реки, как наша Волга, нигде не видал, да и вряд ли найдешь где такую красавицу реку.
– Нет, вот что хорошо, братец: там, за кустами, девки купаются; пойдем, братец, туда, – просил Степа.
– Зачем их тревожить, посидим лучше здесь, и здесь хорошо, – отвечал Александр.
– Вот ты какой, братец, – не то с упреком, не то с сожалением сказал Степа. – Нет, я всегда так делаю, подкрадусь к ним из-за кустов да вдруг и выскочу: они испугаются, побегут, я за ними, смеху-то сколько, весело, а ты говоришь – не надо.
– А тебе хочется?
– Еще бы! Пойдем, братец!
– Пожалуй, пойдем, раз тебе так хочется.
Братья пошли через кусты к тому месту, откуда слышались голоса. Там, в одном из затонов Волги, купалось в воде несколько деревенских девушек. На берегу лежала их незатейливая одежда: рубахи и сарафаны из толстого домашнего холста. Степа хотел было броситься к купающимся и утащить подальше их одежду, уверяя брата, что это будет очень весело; но Александр удержал его.
– Не делай этого хоть для меня, сиди смирно, – сказал он.
Купающиеся девушки были в нескольких шагах от них; они плавали, ныряли вглубь и вновь появлялись оттуда, покрытые сверкающими брызгами от бегущей по их распущенным волосам воды. Они, сами не замечая, давали наблюдателю рассмотреть их торс, плечи, окутанные мокрыми волосами, их трепещущие упругие груди. Картина была достойна кисти великого художника. Александр засмотрелся на эту картину, но как художник и поэт. Степа кипел и едва справлялся с собой, чтобы удержаться на месте. Он как горячая молодая легавая собака посматривал на брата.
– Кто это хорошенькая? Вон сейчас вынырнула из воды? – спросил Александр брата.
– Которая, толстая-то, что ли, круглолицая, с черными бровями? – указал Степа.
– Нет, вон ближе-то, тоненькая с белокурыми волосами.
– Не знаю, братец, тут их много, не знаю, которая тебе показалась.
Девушки вышли и начали одеваться.
– Уйдем, а то нас увидят, – сказал Александр.
– Которая же тебе показалась? – добивался Степа. – Сядем, братец, там, на дороге: они мимо пойдут, и ты укажи мне.
Братья прошли несколько шагов и сели около дорожки, под сенью густой ивы. Степа знал все дорожки и тропинки: девушки действительно пошли мимо них. Увидя бояричей, они сначала испугались и хотели повернуть в сторону; но, увидя, что Степа не один, а с ним сидит приехавший из Москвы боярич, которого они еще не видели, но уже слышали о его приезде, из любопытства решились пройти мимо бояричей, чтобы посмотреть на приезжего, о котором галдело все село. Проходя мимо бояричей, девушки отвесили им низкий поклон. Впереди шла молоденькая девушка лет пятнадцати или шестнадцати, с очень тонкими и миленькими чертами лица. Небольшое бледноватое личико, обрамленное повязанным на голове белым платком, от которого казалась еще бледнее, правильный носик, розовые губки и опущенные книзу глаза так и просились на полотно художника. Белокурые волосы, не заплетенные в косу, выбились из-под платка и чудной волной падали на плечи. Ее стан был тонок и гибок. Ее грудь не вполне еще развилась, но уже обрисовывала упругие выпуклости, плотно охваченные рубахой. Это была чисто идиллическая красота и невинность. Сарафан и рубаха ее были из толстого холста, но безукоризненно чисты. За нею шло еще до десяти деревенских девушек, но они были перед нею, как ночи перед днем.
– Здравствуйте, девушки, – ласково сказал Александр, – вот и я приехал к вам, а вы, чай, забыли и не узнали меня.
– Нет, боярич, мы тебя сейчас узнали, как только увидали, – отвечали сразу несколько девушек.
– А я вот вас и не узнаю, вы выросли, остановитесь-ка на часик.
Девушки остановились и полузакрылись платками. Они слышали от своих подруг, а некоторые постарше и сами помнили, что уехавший на Украину старший боярич был смирный, не то что Степа, а потому, не стесняясь, остановились; к тому же им хотелось хорошенько рассмотреть приехавшего боярича.
– Вот ты, кажется, дочь кузнеца Митрофана? – продолжал Александр, обращаясь к самой старшей, дородной чернобровой девушке; он не хотел прямо указать на белокурую красавицу.
– Нет, братец, это Акулька, дочь Вахрамки Кривого, – отвечал Степа.
– А ты чья? – спросил Александр, обращаясь к белокурой девушке.
Та покраснела и, потупя глаза, отвечала:
– Старосты Митяя дочь.
– А как тебя зовут?
– Анютой.
– Ну, мы с вами познакомимся в Троицу: по венки пойдем, – обещал Александр девушкам. – Я по-прежнему смирный боярич, не такой, как этот озорник, – добавил он, указывая на Степу.
Степан и девушки засмеялись.
– Братец, коли она нравится тебе, попроси Ольгу взять ее в сенные, – предложил Степа после ухода девушек.
– Нет, зачем же отнимать у Митяя дочь, – отвечал Александр.
– Вот ты какой чудной, братец, ведь она холопка наша, стало быть, и воля над ней наша.
– А по-твоему, холопы – не люди? – отвечал Александр, улыбнувшись.
Они пошли домой той же дорогой, через рощу и огород.
– Не знаю, чем она тебе показалась, братец, – говорил Степа дорогой, – тоненькая такая. Вон – Акулька, много лучше, толстая да краснощекая, али вон сенные наши – те хоть нарядные.
– У всякого свой вкус, – отвечал Александр. – Да она не то чтобы очень понравилась мне, а я так спросил, все же она лучше других.
Около цветника их встретили сестры с Михеевной.
– Куда вы пропали? А мы весь огород, всю рощу исходили, искавши вас, – начала Ольга, взяв Александра за руку.
– Мы были на Волге.
– Злой Степа отнял у нас братца, – сказала Надя, взяв Александра за другую руку.
– Не бранитесь, после обеда буду сидеть у вас в светлице, – отвечал Александр.
На крыльце их встретил боярин.
– Вот вы где, а мы вас к обеду ждем, – весело сказал он.
Кончился обед, ушли холопы, и вся семья, по обыкновению, уселась на мягких лавках столовой отдохнуть и поговорить немного перед послеобеденным сном. Боярыня вновь начала разговор об интересующем ее предмете.
– Мы уж тебя, Саша, отсюда не пустим, – сказала она.
– Я и сам не уеду, если не позовут опять на службу, а если позовут, то долг присяги требует принести все в жертву отечеству, – отвечал Александр.
– Да мы тебя здесь женим, вот ты и не уедешь от нас, не бросишь молодую жену для какой-то службы.
По лицу Александра промелькнула грустная улыбка, точно воскресло какое-то воспоминание, но через минуту она изгладилась, и Александр покорно отвечал:
– Воля твоя, матушка, жени; только невесту приищи хорошую, а не то дозволь самому выбрать. А может, прежде Степана пристройте.
Боярыня засмеялась; видно было, что ей по сердцу было такое предложение.
– Между нами будет сказано, у меня есть на примете невеста Степке, хорошая невеста, да и жених Ольге есть на примете.
Степан и Ольга покраснели и потупились.
– Хочешь, Степа, жениться, я тебе невесту уж сыскала? – спросила развеселившаяся боярыня.
– Воля родительская, – сказал, раскрасневшись, Степа.
– А ты, Ольга, пойдешь за жениха, которого тебе приискала мать? – обратился боярин к дочери.
– Надо прежде узнать, кто жених, а потом и отвечать, – вступился Александр за смутившуюся сестру.
– Это еще что? – грозно сказала боярыня, лицо которой в одну секунду изменило веселое выражение на суровое. – Ты не вздумай еще и сестру научать из воли родительской выходить; сам-то, почитай, от рук отбился с своим-то ученьем, от дому отстал да и сестру-то сбить с толку хочешь.
– Полно, – перебил ее боярин. – Ты уж браниться начинаешь. Что это такое – не успел сын приехать, как она ссору заводит.
Александр, чтобы замять дело, начал разговор о другом. Общая беседа продолжалась с полчаса, после чего боярин и боярыня ушли в опочивальню, а боярышни в светлицу.
– Я приду к вам через полчаса, – сказал Александр сестрам.
Придя в свою комнату, он прилег на кровать и взял книгу. Но читать не хотелось; он положил книгу на стол и задумался. Его немного взволновал последний разговор с матерью.
«Что она какая сердитая, – думал Александр. – Да, впрочем, она была всегда такая. Я и здесь не найду счастья и покоя; и здесь мне придется бороться с вековыми предрассудками и плыть против течения. Впрочем, мне всю жизнь приходилось жить так, а не иначе». Тут воспоминания детства и юности промелькнули перед Александром. Образы один за другим рисовались в его воображении. Он видел отца и мать, какими помнил их в детстве; потом учителей Заиконоспасской школы и профессоров чужеземных школ. Вспомнил он свое катанье по Волге со стариком-дядькой; вдруг воображение обрисовало перед ним хорошенькое личико с белокурыми волосами, явившееся перед ним на берегу Волги несколько часов тому назад. Потом воображение явило другую красивую головку, с длинными, темно-русыми волосами, с черными, полными огня глазами и с прекрасным чисто южным типом лица. Вспомнил Александр Украину, город на берегу большой реки, польского пана, живущего в этом городе с шестнадцатилетней дочерью красавицей. Вот он в первый раз встретился с панной; он загляделся на нее. Она не потупила перед ним очей, как делают русские боярышни, а прямо, бойко и гордо смотрела на него. От первого ее взгляда сильно стукнуло сердце, заиграла кровь. Он, кажется, не спал всю ночь. А потом? Потом он постарался познакомиться с паном, проникнуть к нему в дом…
Любовь – великое слово; дар небес. Не все были любимы, да и не все так любили, как любил он. Вспомнил Александр то мгновение, когда он впервые сказал ей роковое слово, слово «люблю». Оно вырвалось у него прямо из сердца. Без слов, опустив свою чудную головку, слушала она его пылкие уверения; ее рука дрожала в его руке. Как она восхитительно хороша была в эту минуту! Все бы на свете отдал он, чтобы только эта минута повторилась. Пану нужно было ехать в другой город. Как они прощались, обещая навсегда принадлежать друг другу! Он не мог перенести долгой разлуки, послал своего верного Ивана к ней с письмом. Письмо дышало нежностью и любовью; он ждал от нее того же; но письмо ее было не таково: «Прощайте, позабудьте меня!» И причины разрыва, кажется, были написаны; но что в них: она не любит его больше. Слова: «Прощайте, позабудьте меня», – звучали в его ушах и болезненно отзывались в сердце, терзая его невыносимо. В пылу отчаяния он хотел умереть, но напрасно искал смерти. Несколько раз мысль о самоубийстве приходила ему в голову, но религия удержала его. Говорят, самоубийство – страшный грех.
Но вот в Москве он получает весть о том, что она выходит замуж за другого. Этого не мог он перенести и заболел очень опасно. Молодость взяла свое, он остался жив, но жил не на радость себе. Он еще раз был на Украине, видел много красавиц, но ни одна из них не затронула его сердце. Вот уже скоро три года, как он в последний раз виделся с нею, и, странное дело, во все эти три года он не обращал никакого внимания на женщин. «Все кончено», – думал он.
Но сегодня в первый раз заметил хорошенькую девушку. Неужели он полюбит или полюбил ее, как любил ту… Белокурая головка очень хороша. Да, она действительно хороша, но, к несчастью, она холопка, с нею счастие невозможно.
– Александр, ты что нейдешь к нам, а еще обещался сидеть у нас в светелке, – сказала Ольга, входя в комнату брата.
– Сейчас приду к вам, а теперь посиди у меня, – отвечал Александр.
– Что это у тебя, книга? Да, должно быть, не наша? – Ольга взяла со стола книгу.
– Да, это по-польски. Сядь здесь, Ольга, потолкуем; мы еще в первый раз с тобой одни. Скажи мне, как ты жила в эти годы?
– Жила, братец, все так же в тереме.
– И тебе не скучно?
– Я привыкла.
– Есть, по крайней мере, у тебя подруга?
– Как же, есть: вот боярыня Шихобалова, дочери Гаврила Гавриловича; из именитых-то, почитай, только они одни. Маша Липина, да дочь губного кой-когда приезжает из Самары, да еще кое-кто из небогатых.
– А жених-то у тебя кто, скажи?
– Что это, и ты, братец, за то же? – с упреком сказала Ольга.
– Нет, я не шутя думал, правда, что ж тут дурного.
Ольга зажала рот брату.
– Скажи, матушка всегда так строга? – спросил Александр.
– Разве ты забыл, она добрая, только уж делай и говори по ней, а то рассердится.
– Ну а отец-то, кажется, стал добрее?
– Нет, по-прежнему, это только из-за твоего приезда он весел.
– Что же ты делаешь, учишься, что ли?
– Я уж выучилась читать. Отец Григорий учил. Я прошла всю науку и с год ничему больше не учусь.
– Что же ты делаешь?
– Работаю в тереме. Теперь пелену в церковь вышиваю с сенными девушками.
– А вот, посмотри, какие я книжки привез, – сказал Александр, вынимая из походного сундука несколько книг на латинском и немецком языках.
– Это не по-нашенски, – отвечала Ольга, взглянув на книги.
– А хочешь выучиться?
– Нет, зачем же, кабы наши, православные были.
Александр достал несколько славянских книг и небольшие картинки, писанные масляными красками, изображающие виды различных городов. Ольга рассматривала их с любопытством ребенка.
– А весело читать книги? – спросил Александр.
– Не знаю, братец, я ничего не читала, кроме того, что учила; учиться-то скучно.
– Вот, я прочту тебе свои записки об Украине, хочешь послушать?
– Читай, я рада буду.
– Только не сейчас, теперь потолкуем кое о чем. Писать ты умеешь?
– Начинала учиться, да плохо, почитай, вовсе не умею.
– А вот в Польше, сестра, панны – это их боярыни-то – все пишут, и в немецкой земле тоже. Там вовсе другие порядки, там и не прячутся, как у нас.
– Да ведь там, братец, не православные.
– Там и женихов и невест сами себе выбирают.
– Опять, братец, за то же, – упрекнула Ольга.
– Тебе неприятно? Не буду. Наши порядки лучше. Ну, не сердишься теперь?
– Я не сержусь.
– Мы будем учиться, Ольга; я буду твоим учителем. Не бойся, я не такой учитель, как отец Григорий, со мной будет не скучно, весело будет, – ласково говорил Александр сестре.
– Попробуем, коли не скучно будет, буду учиться, – отвечала Ольга.
«Да, нужно заняться ею, – думал Александр, глядя на сестру, – а то, боярышня ли Артамонова, сенная ли Афроська, дочь ли старосты Митяя – все, кажись, одно и то же, только напыщенности больше у наших боярышень».
Пришла и Надя в сопровождении мамушки Михеевны и принялась рассматривать картинки.
– Что это, никак образа? – спросила мамушка.
– Нет, не образа, а картины, города разные, – объяснил Александр.
– Чай, и Киев святой, и Русалим есть? – спрашивала старуха, начиная рассматривать виды.
– Киев-то есть, а Иерусалима нет: тут все украинские и польские города, – отвечал Александр.
– Неверные, выходит, и глядеть-то на них, чай, грех, – сказала старуха и перестала рассматривать.
– А сегодня гости будут, братец, я тебе забыла поутру-то сказать, – крикнула Надя.
– А ты почему это знаешь? – спросил Александр.
– Да я давеча поутру в перину чихнула.
– Так поэтому будут гости? – сказал Александр и засмеялся.
– Чего, боярич, смеешься-то ты, – в сердцах сказала Михеевна. – Чиханье, известно, Божье предзнаменование, да и смеяться-то грех над этим; во время чиханья сто ангелов Божьих нарождается, конечно, если поздравствуешь от доброго сердца. Вот оно что.