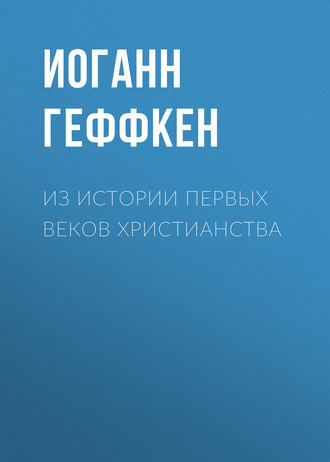 полная версия
полная версияИз истории первых веков христианства
Все скверное и ложное у вас есть дело демонов. Иногда они делают как-будто и добро, но только для виду. Каждый из этих духов имеет крылья, они узнают все. Это они сделали возможным исполнение языческих предсказаний, обокрав библию, они сами делаются богами. Приведите к трибуналу одержимого бесами: по приказанию любого христианина эти духи признаются, что они демоны, тогда как в другом смысле они ложно называют себя богами. А когда христиане спрашивают демонов о Боге, то демоны признают христианского Бога истинным.
Если Тертуллиан является здесь сыном своего времени, даже более, может быть, самым верующим поборником демонизма в ту эпоху, то мы не должны, конечно, осуждать его за это. С одной стороны, он передает – правда, может быть несколько усиливая своими собственными ударениями – лишь то, что представлялось уже прошлым эпохам, т. е. как-раз эллинам. С другой стороны, мы в праве задать вопрос: разве в наше время это суеверие исчезло вполне? Кроме того, Тертуллиан сам заботится о том, чтобы в случае, если какое-либо место в его книге вызвало бы в нас сомнение, то следующее место вновь заставило бы нас воспрянуть духом. В особенности это относится к замечательной главе о римской религии и о враждебном отношении к государству, которое приписывалось христианам.
Говорят, начинает он, что римляне обязаны были своим величием своей набожности. Но находятся еще под большим сомнением, что сделали в благодарность своим почитателям все эти пустоголовые римские боги полей, лесов и лугов. А значительное число богов введены впервые лишь тогда, когда Рим уже сделался могучим государством, значит, набожность, по-видимому, явилась уже после величия; простота религии древнего Рима и не могли создать никакой набожности, т. е. усиленного богопочитания. Нет – и здесь-то апологет доходить до такой силы изображения, равная которой редко встречается во всей римской литературе – нет, римское величие происходит как-раз от безбожия Рима, от войн, разрушения городов и т. п., т. е. от всего того… Что сопряжено с кощунством над богами: всякая римская победа означает поругание святыни. Итак, эти боги, почитаемые врагами всякой религиозности, не могут быть богами. Нет, лишь Бог подымает и низвергает государства; религиозность Рима, его богослужения гораздо новее восточных культов.
Демоны дают вашим противникам хитрый, двусмысленный совет приносить жертвы и заставлять нас принимать в них участие Это действительно совет демонов; будучи побеждены нами, они, подобно мстительным рабам, ищут удовлетворения. Они поступают, как преступники из рабочих домов и копей. Самое тяжелое требование, которое предъявляют вам, – это жертвоприношение на блого императора. Но как же мы можем приносить с этой целью жертвы богам, когда самые культы богов во многих случаях зависят от воли императоров; посредством жертвоприношении мы подчинили бы императоров их собственным созданиям. Мы поступаем иначе; мы обращаемся с молитвой за императора к Богу. Император знает и чувствует, в чьей власти он находится; неба ему не побороть. Он велик, потому-что он меньше неба. Обращая взоры к небу, с распростертыми руками, с непокрытой головой, без напоминания молимся мы за императора, за благосостояние его личности, молимся Богу, который может дать то, о чем мы его просим, нам, умирающим за его учение, нам, приносящим в жертву ему свою жизнь, а не паршивых, больных животных. Итак, восклицает Тертуллиан, напрягая нервы своей реторики до высшего, страстного пафоса, – итак, пусть во время такой молитвы ваши орудия пытки разрывают нас на части, пусть ваши кресты вздымают нас, пусть пожирает нас ваш огонь, пусть ваши дикие звери терзают нас… делайте все это… вырывайте из нас душу во время молитвы за императора.
Вот, следовательно, в чем заключается враждебное отношение христиан к государству, в том, что мы иначе почитаем императора. Мы во всяком случаи не превращали государства в харчевню посредством жертвенного дыма, мы вообще не принимаем участия в языческих празднествах со всеми их безобразиями. Но мы гораздо более верные слуги императора, чем нехристиане. Они молятся всегда лишь за существующего императора. Все убийства цезарей были совершены руками язычников, тех самых, которые приносили жертвы за императора. Таким образом, если многие римляне – враги императора, и тем не менее их считают римлянами, то почему же вас, друзей правительства, называют не-римлянами?
Но мы никогда не мстили за все те обвинения, которые возводятся на нас язычниками, хотя и могли бы делать это. Ибо мы обладаем оружием и настолько многочисленны, что могли бы составить армии, гораздо более сильные, чем у иноземцев. Хотя мы возникли только вчера, но нами уже заполнены города, острова и т. д. Мы могли бы ведь и выселиться: тогда ваша империя оказалась бы совершенно вымершей.
Мы вовсе не враги империи, ибо наше государство – мир. Наши наслаждения гораздо более благородны, чем ваши увеселения в цирках, театрах и на аренах. Чего вы об этом заботитесь; если мы не имеем удовольствий подобного рода, то ведь это же, в конце концов, лишь наше несчастье.
После этой речи, дышащей замечательной энергией и силой, которой не достигал никто до него, и в которой вряд ли превзошел его и Августин, апологет переходит от отрицательной части своей книги к положительной; показав, что христиане не представляют собою, он набрасывает картину их жизни. Но точка зрения апологета и самая природа его и здесь постоянно насильно влагает ему в руку меч. Едва закончив картину устройства христианской церкви, любовного отношения христиан друг к другу, он снова выступает против врага. Да, восклицает он, вот что доставляет беспокойство некоторым. Смотрите, говорят они, как христиане любят друг друга, – еще бы, ведь те ненавидят друг друга – смотрите, как охотно они умирают, спасая других, – еще бы, ведь они убивают друг друга. Мы называем один другого братьями, у нас все общее за исключением жен: как раз там мы разделяем, где у других, у этих прелюбодеев, существует общность. Но тем не менее, при всяком случае, слишком ли разливается Тибр, или вовсе не разливается Нил, всегда раздается крик отдайте христиан львам! Так ли это? Разве до явления Христа не было несчастных случаев, разве как раз стихийные явления до Христа не были гораздо более многочисленны чем теперь? Ведь Содом и Гоморра сгорели до появления евреев в Палестине. Все беды служат нам для напоминания, для вас же они означают наказание. Но если это ваши боги наказывают вас за нас, то они, оказывается, довольно неблагодарны и несправедливы по отношению к вам.
Когда некоторые греки среди апологетов выражали изумление, почему не подвергаются преследованиям те из язычников, которые отрицают богов, на основании своих философских убеждений, то Тертуллиан, как человек, не знающий никаких компромиссов, не хотел и слышать об этом. Все философы лишь люди наполовину, христианин не имеет ничего общего с ними, которые полны всевозможных человеческих ошибок и даже пороков. Старше философов – истина, которую философы своим неясным скептицизмом лишили её первобытной простоты. Все правильное у философов заимствовано ими у нас: мы – тело, они – тень. Главным камнем преткновения для вас является воскресение мертвых. Как может, спрашиваете вы, из разложившейся материи вновь возникнуть тело? Но вспомните время до рождения, вы, ведь, тогда тоже были ничто. Ты явился из ничего, почему же не можешь ты снова возникнуть из ничего? Для возникновения нового требуется гибель старого. Следовательно, говорите вы, мы постоянно будем умирать и затем снова воскресать? Вовсе не так; первоначально мы смертны, затем станем бессмертны. Посередине находится граница, нечто в роде занавеса для мира. Затем род человеческий обновляется для суда. После этого уже не будет больше смерти и никакого изменения.
Наконец, и смерть наша есть лишь новая победа. Ваши жестокости служат лишь приманкой, ибо несмотря на наказания и пытки ваши ряды становятся все многочисленнее. Ваши философы советуют относиться с смерти с твердостью, но у них это остается лишь на словах, мы же доказываем это на деле. Когда видят нашу твердость, то, неизбежно, спрашивают о причинах нашей стойкости. Но кто спрашивает об этом, тот сам переходит с нам, сам хочет претерпеть страдания для того, чтобы получить награду от Бога. Поэтому, мы только благодарны вам за ваши приговоры, мир и Бог спорят о нас: вы осуждаете вас, Бог нас оправдывает.
Трудно представить себе более возвышенное зрелище, чем это: с одной стороны – римское величие со всем его императорским блеском, с другой – противник его, также римлянин, также вооруженный всем, что сделало Рим великим, столь же типичный для Рима, по своей неумолимости, своей непреклонной решимости, последовательности своего изложения, своему беспощадному чувству права. Так Рим подвергается нападению со стороны одного из своих величайших сынов, и если при подобных переговорах, при чисто духовных спорах возможно было бы придти к какому-либо выводу, то Тертуллиан достиг бы результата, ибо в нем действительно таились исполинские силы.
Его деятельность относится к такой эпохе, которая еще в гораздо большей степени, чем I столетие нашей эры, жила религиозными представлениями. Вкратце мы уже говорили об этом и далее, особенно в последней главе, при рассмотрении религии Мифры, мы сделаем еще подобные же наблюдения и увидим горячия стремления человечества того времени достигнуть очищения и искупления, мира с Богом, посредством кастрирования и самоистязания. Здесь мне хочется остановиться еще на одном конкретном примере, который, может быть, лучше всяких описаний познакомит нас с духом того времени. Мы находимся в эпоху благочестивого императора Марка Аврелия, написавшего драгоценную для нас книжку о «самонаблюдениях», в которой он говорит и о взглядах христиан на смерть. Он предпринял поход против одного дунайского народа. Войску, между прочим, пришлось проходить через пустынную, безводную местность. Жарко пекло солнце, нигде ни капли воды: войско было близко к гибели. Вдруг, внезапно надвинулись грозовые тучи, обильная влага полилась с неба, так-что воины едва успевали собирать ее, ливень даже затопил вражеский лагерь. С новыми силами римляне вступили в битву с врагами и скоро победа была на их стороне. Об этом факте, вместе с другим, разрушением молнией вражеской осадной машины, сообщают нам не только исторические известия, но гораздо подробнее один каменный монумент, а именно колонна Марка-Аврелия на Piazza Colonna в Риме; эта колонна по особому поручению германского императора была сфотографирована до самых мельчайших подробностей. На ней все происшествие изображено достаточно ясно. Мы видим выступающую квадратную колонну римлян, справа идет полководец, здесь не Марк Аврелий; внезапно войско вынуждено остановиться. Мы видим корову, которая в предсмертных мучениях, падает на землю, другая с диким ужасом несется по полю. В верхней части солдат подымает правую невооруженную руку, с мольбою обращая свой взор к небу. Но вот дальше один воин уже поит своего коня, другие жадно припали губами в дождевому потому, третьи защищаются от ливня, высоко подняв щиты. Далее справа видно интересное олицетворение бога дождя, – замечательно пластическая фигура, у которой из волос и бороды, с крыльев и рук течет вода. Вскоре виден и результат. Только что расстроенные ряды римлян, освеженные чудесным даром неба, снова приходят в движение. Однако, меч уже более почти не нужен: варвары застигнуты наводнением, среди гор виднеются кони, борющиеся и тонущие в невидимой, впрочем, здесь стихии, враги лежат мертвые на земле, все оружие их свесено водою в одно место. Все это изображено на колонне, хотя и довольно неискусно, но тем не менее с большим реализмом и с вполне ясной последовательностью: сначала римляне, истомленные жаждой, молят о дожде, хляби небесные разверзаются, скоро для войска влаги становится уж слишком много, а враги даже затоплены ею. Этот реализм служит для нас залогом исторической верности происшествия.
Это, следовательно, чудо, изображенное на колонне без всяких коментариев, т. е. императору не придаются здесь какие-либо мелодраматические позы, мы не видим его молящимся, воздающим благодарения и т. п. В другой сцене, там, где молния уничтожает вражескую машину, мы, правда, видим императора, но в антично простой позе, указывающим рукою на низвергающуюся громовую стрелу. Как нам известно, император письмом сообщил сенату о совершившемся чуде; письмо это в его первоначальной форме до нас не дошло. Оно совершенно затерялось в исторических известиях. Все это происшествие, которое современники рассматривали как чудо, моментально вызвало самые фантастические коментарии со стороны язычников и христиан. Язычник, конечно, не мог обойтись без реторических излияний о чуде и счел нужным приписать его волшебству, христианин же видел в этом перст Божий. Он, однако, пошел еще далее. Оказалось, что чудо совершилось по молитве солдат-христиан, император, застигнутый бедствием, якобы, узнал, что в его войске находятся христиане, по молитве которых все исполняется. Последние молились также и за войско, и вот оно было спасено из беды; с тех пор тот легион, в котором были христиане, получил название громового легиона. Об этом действительно рассказывала одна христианская защитительная книга, которая должна была быть передана императору Марку Аврелию, как очевидцу происшествия: так старательно христианская легенда уже занималась фальсификацией. Ибо мы отлично знаем, что так называемый громовой легион, Iegio fulminatrix, еще гораздо раньше описываемого похода носил это название; христиане, следовательно, позволили себе здесь ввести общественное мнение в почти невероятное заблуждение. Очень скоро после этого язычники выступили со своими возражениями и заявили, что чудо совершилось лишь по молитве их благочестивого императора. Христиане, однако не успокоились. Скоро ими уже было составлено письмо императора к сенату, которое в крайне вычурных фразах сообщало о происшествии. Таким образом это чудо долгое время служило объектом споров между христианами и язычниками и получало различные толкования почти до наступления средних веков, пока, наконец, язычество не вымерло, и громовой легион мог беспрепятственно совершать свое шествие из века в век. Только в наше время этот легион лишен своего ореола, фальсификация христиан для нас стала вполне ясна. Но к ней, несмотря на всю её наивность, мы должны отнестись гораздо снисходительнее, чем ко многим другим, с которыми мы уже познакомились ранее. Ведь, весь мир был убежден, что благочестивый император и его войско были спасены благодаря чуду. Чудо же, в глазах христиан, мог совершить только Бог, а так как Бог вряд ли стал бы помогать языческому войску и враждебному христианам императору, то, значит, чудо совершилось ради христиан, т. е. по молитве солдат христиан. Как уже сказано, эта чудесная легенда возникла чрезвычайно быстро и уже по самой природе всех легенд повлекла за собою, по мере своего развития, новые фальсификации. Рассказ в этой форме должен был принести двоякого рода пользу: он не только указывал на величие христианского Бога, но был рассчитан также и на то, чтобы обезоружить обвинения врагов. Христиане здесь не были врагами римского государства, за него они в горячих молитвах молили Бога о чуде, а кроме того, из этого рассказа было видно также, что они вовсе не отказывались от несения своих служебных обязанностей. При этом поборникам христианской веры было совершенно безразлично, что они сами, да и другие учителя веры, считали ремесло солдата не приличествующим христианину: вообще в пылу страстных споров во II веке основательно думали очень мало.
Противники, впрочем, также страдали этим недостатком, ибо нам известна и у язычников той эпохи вера в чудеса. Времена абсолютного скептицизма прошли для греков и римлян, его оружием они пользуются лишь в борьбе против христиан, во всем же остальном так же верят в чудеса, как и последние. И насколько полезна была такая переимчивость для христианства, настолько же ослабляла она положение язычества. Ибо когда старая вера опровергнута сильнейшими и самыми серьезными доводами, и люди снова возвращаются к древним историям, оракулам, сновидениям, предзнаменованиям и т. п., то это является признаком старости. Не следует слишком низко оценивать эпоху, когда существовали такие потребности внутренней жизни, с таким отчаянием жаждавшей душевного мира, но тем не менее весь этот хаос представляет все-таки довольно печальное зрелище. Вполне естественно, что христианство восприняло это веру в чудеса, ибо оно само исходило из чуда, и чудо это никогда не исчезнет, с какой бы точки зрения мы ни смотрели на сущность христианства.
3. Эпоха Августина
Третие столетие по Р. Хр., в течение которого постепенно распространились политические завоевания христианства, было одной из самых ужасных эпох, которые пришлось пережить Западу – в то время, следовательно, странам Средиземного моря. Все как-будто колеблется, нигде нет твердой почвы. Восток и Север в равной степени ополчаются против Рима; восточные провинции империи все снова и снова подвергаются нападениям со стороны персов, которые, после долгого покоя, с чисто восточной быстротой, под властью сильных деспотов создают могучее государство и поддерживают его до самого VII века; волны германских племен проносятся над государством, солдатчина возводит то того, то другого дикого полководца на трон цезарей, на котором более или менее продолжительное время держатся лишь немногие, наиболее сильные и наиболее сознательные характеры. Всюду царит хаос, грозящий все погрузить в дикое варварство. Римское могущество, греческое образование и обычаи, все, что придавало странам Средиземного моря их своеобразный характер, готово, по-видимому, исчезнуть, захваченное бурным водоворотом. Но то, что было создано усилиями веков, не может погибнуть так скоро, и вот, после десятилетий невзгод еще раз побеждает древняя великая государственная идея Рима. Подобно тому, как Августь после гражданских войн, так теперь Константин, – после несравненно более великих бедствий несравненно более великий человек, – снова объединяет государство в своей личности. Константин обладал холодным, ясным умом, он прямо-таки демонически знал свое время и своим могучим характером оказал влияние на целые века. Это была чисто античная личность, которой мы по праву, не потому, что он привел к победе или, вернее, облегчил победу христианству, должны дать название Великого. Христианство тогда было единственной силой, которая, незатронутая бедствиями мира, развивалась все сильнее и сильнее, между тем как все вокруг него колебалось и приходило в разброд. Гонения, – особенно единственное, которое велось сверху действительно систематически всеми средствами деспотизма, – гонение Деция, – ни ослабили христианства надолго, напротив, они лишь усилили его внутреннее ядро, хотя многие из его членов из боязни врага и отделились временно. И когда из всеобщего хаоса снова возникает империя, и идея государства опять побеждает, наряду с ней стоит лишь одна сила, незатронутая бурями эпохи и лишь укрепленная ими, – это христианство. Константин понял своим государственным умом, что спасенному государству для выздоровления и восстановления сил необходим внутренний покой, поэтому он широко распахнул для христианства двери империи. В смысле личного внутреннего отношения он оставался совершенно индифферентным. Как истый романец он с холодным сердцем проводил в жизнь свои решения, оставаясь свободным от каких-либо влияний заповедей христианства. Освобожденное от долгой неволи христианство окружило его личность мифическим ореолом и сумело забыть и простить ему все те низости, к которым прибегал он ради блага государства.
Но и в эту ужасную эпоху, когда надвинулось такое множество внешних врагов, продолжала пылать борьба умов. Греко-римский мир, как уже сказано, освободился от скептицизма и занял новые позиции. Врагов, которые выступили здесь против христианства, последнее особенно ненавидело, хотя все-таки относилось к ним с некоторым почтением, ибо они не занимались чистым отрицанием, а создали собственную систему. Это были неоплатоники, которые, создавая своеобразный теософический мир идей, искали самого тесного общения с божеством, посредством восторженных видений и аскетизма. Они признавали, что между Богом и человеком существуют посредствующие силы, они вовсе не отрицали греческих богов, но стремились превратить последних в идейные образы и приспособить их к своей системе тожественных сил. Оракулы их называли Христа замечательным по своему благочестию человеком, но ничего не хотели звать о его божественности. Страстное стремление этих философов в божеству, их чистое искание приближало их к христианам, и известная связь между теми и другими нашла свое выражение также в некоторых личностях. Основатель секты, если можно так выразиться, также вышел из христианского лагеря: Августин был некоторое время неоплатоником, и мы знаем, что другой приверженец секты громко восхвалял введение к евангелию Иоанна. Учение христианства, однако, в конце концов было совершенно несоединимо с неоплатонической системой; не смотря на аскетизм, не смотря на откровения о высшем Боге и о его силах, неоплатоники по существу все-таки были настоящие греки; чувства их постоянно были привязаны к земле; им казалось смешным, что некоторые фантастические христианские секты стремились к иному миру, которого вовсе не существует. Из среды неоплатоников вышел один из самых жестоких врагов христианства, сириец Порфирий (род. в 233 году по Р. Хр.), против которого в христианском лагере ревностно боролись в течение 200 лет. Сочинения его против христиан, состоявшие из 15 книг, подвергались насильственному истреблению; книги нескольких его противников также не дошли до нас; тем не менее мы имеем достаточно сведений о нем, чтоб составить себе хотя бы приблизительную картину.
Порфирий полон противоречий, две души живут в его груди. С одной стороны, он борется против веры христиан и её распространения всеми средствами критики, которая хотя и не изобретена всецело им, а в значительной степени перенята им у других, но тем не менее развита им; с другой стороны, он воодушевляется всякой мистикой и даже самыми ничтожными оракулами, подделка которых очевидна. Так он написал книгу «О философии из оракулов», в которой он совершенно серьезно и доверчиво принимает распространенные среди неоплатоников изречения богов о существе высшего Бога, о религии Иудеев и христиан, как о глубочайшем откровении свыше. Вообще критика и промахи мысли тесно переплетаются в нем. Он осуждает Цельза за его аллегорическое объяснение библии и совершенно забывает при этом, что он сам придерживается аллегорического толкования поэм Гомера.
Его большое произведение, от которого до нас дошли лишь немногие, но все-таки характерные цитаты, свидетельствует, в полном соответствии с другими его сочинениями, что в нем мы имеем далеко не оригинальный ум. Его полемические приемы, как уже замечено, не представляли собою чего-либо нового, нечто подобное говорилось уже и ранее. Но восприняв в своем большом сочинении эти прежние приемы борьбы, он, по-видимому, способствовал и дальнейшему развитию метода старой полемики. Занятое в промежуток времени от Цельза до Порфирия, выработкой канона своих сочинений, христианство, по вполне правильному замечанию одного исследователя, сделалось книжной религией, вот против этих отдельных книг библии и направлены упреки Порфирия. Он по видимому, еще яснее раскрыл противоречия евангелий, чем его языческий предшественник и особенно нападает на пророка Даниила. Выше, мы читали уже меткое выражение Цельза о пророчествах Ветхого Завета; Порфирий, по-видимому, расширил эту критику подробными историческими толкованиями книги Даниила, которую он называет пророчеством после события, сочинением, написанным во время Антиоха Эпифана: этим он значительно облегчил работу современному исследованию. Впрочем, это еще не вполне достоверно, возможно, что и здесь он лишь повторяет чужия мысли. Но как раз в этой массе его полемики и лежало её значение, христиане вынуждены были выступить против него с такими же толстыми книгами, чтобы поразить сосредоточенную в этом враге греческую полемику в её целом. Как неоплатоник, Порфирий принадлежал к тому направлению, которое не было уже более сектой, а представляло вообще всю языческую философию того времени, а борьба христианства против него неизбежно продолжалась до тех пор, пока неоплатонизм сохранял свои силы. С своей стороны и неоплатоники никогда почти не мирились с врагом и лишь позднее уступили силе. Лучшие из христиан, особенно Августин, относились в Порфирию с известным почтением, ибо он безусловно был искренний, откровенный человек, он честно признал, что христианская религия уже в его время совершенно вытеснила языческих богов.
Итак, борьба, которую приходится вести христианам, становится все интенсивнее; чем менее делается число врагов, тем значительнее становятся отдельные личности, выступающие повсюду, и тем объемистее становится христианская полемическая литература; ей теперь приходится не только бороться по традиции со старой еще не побежденной философией, но опровергать также и новую. В конце III столетия выступает, как против старого, так и против нового врага, отец церкви Лактанций, который пишет толстую книгу под полуюридическим заглавием «Божественные институции». – Человек, намеревающийся напасть на врага в его собственном стане и поразить его собственным его оружием. С Лактанция начинается уже новая эра, он является в известном смысле провозвестником средневекового духа. Мы видели, что дух времени почти уже целый век не покровительствовал науке в истинном смысле этого слова, прежде всего точной науке, которая получила такое исключительное развитие у греков. Эти вещи отвергаются, люди стремятся всецело сосредоточиться на внутренней жизни духа, Но действительными врагами этой высшей силы человека, этого благородного эллинского стремления к познанию впервые являются римские отцы церкви. Всякая наука о природе, говорит Лактанций, есть пустое умствование; обосновывать явления окружающего вас мира значит то же, что рассказывать об отдаленном, никогда не виданном вами городе. Человек не может позвать природу; стремящийся к этому – безумец. Бог скрыл от человека все то, что совершается внутри человеческого тела, потому что он не хотел, чтобы человек исследовал вещи, знать которые ему не подобает. Астрономия это бред сумасшедших, шарообразная форма земли остается под сомнением, глобус – нелепость. Существует только одна наука: наука о Боле, весь смысл нашей жизни в религии. То, что естествоиспытатели называют природой, означает не что иное, как гибель религии. Этими словами, несмотря на всю бессмысленность их, Лактанций вводит нас в мировоззрение, которое, если исключить новый временный расцвет греческой математики, являлось решающим для всего последующего времени. Вся духовная жизнь сосредоточивается на чувстве, библия вытесняет науку и становится нормой всех вещей. Явления природы также в конце концов находят в ней свое объяснение, чудеса Иисуса Навина отрицают науку о звездах, астрономия влачит свое жалкое существование, в виде астрологии, ибо против последней ополчаются не все христиане. Это то же мировоззрение, которое позже возвело на костер Джиордано Бруно, которое посредством пытки думало запугать научную совесть Галилея. Но как каждого отдельного человека мы должны рассматривать, как целое, так в еще более высоком смысле должны мы понимать и подобное развитие, подобное мировоззрение. Рука об руку с этим падением науки идет напряженное развитие религиозного чувства. Этим чувством проникнуты последние мыслители умирающей древности, им охвачены глубочайшие умы средневековья и, наконец, даже Лютер. Одно неразрывно связано с другим, подобную эпоху нельзя без разбора порицать или восхвалять: все её существо выросли на единой почве, и с этой то почвой необходимо нам познакомиться.

