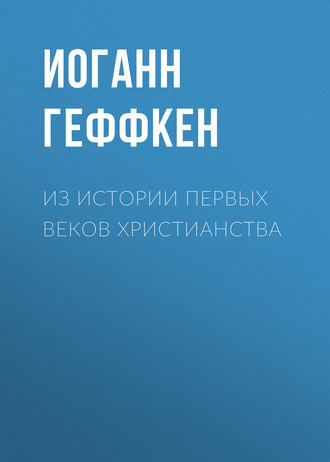 полная версия
полная версияИз истории первых веков христианства
Постепенно, однако, настала крайне тяжелая эпоха. Чем энергичнее и жесточе делаются представители империи на троне Цезарей, чем с большей страстностью греческая философия обрушивается на христианство, тем хуже становится внешнее положение христиан. Император Максимини, храбрый, но грубый фракиец, прекрасно знал, что делал, когда приказывал преследовать настоятелей общин, т. е. церковный клир. Хотя и это преследование ограничилось узкими пределами, но тем не менее сознание серьезной опасности заставило отца церкви Оригена обратиться к пастве с посланием, в котором он называет императора новым Навуходоносором и настоятельно призывает верующих идти на мученичество. И в самом деле, христиане нуждались в поддержке, ибо отпадение, – конечно, только на время гонений, – сделалось излюбленным средством спасения, и появились даже сектантские богословы, которые допускали отречение от веры в случае крайней необходимости. Против этого со всею силою ополчились великие отцы церкви, и впереди всех – Тертуллиан и Ориген. Через последнего мы узнаем, между прочим, к каким, прямо-таки иезуитским, приемам прибегали робкие христиане, впрочем побуждаемые к тому самими язычниками (ср. главу V), чтобы оправдаться в своих собственных глазах. По их мнению, можно громко взывать в богам, какому-нибудь Зевсу, Гелиосу или Аполлону, лишь бы при этом думать только о высшем Боге; ибо слова, ведь, составлены вполне произвольно и не имеют никакого естественного отношения к вещам. Ориген такое объяснение вполне справедливо называет софизмом.
Кратковременное правление араба Филиппа было лишь затишьем перед бурей. В христианском лагере многие считали его своим единоверцем. Хотя вряд-ли он был таковым в действительности, как мягко он ни относился к христианам. При нем исполнилось тысячелетие города Рима. По случаю этого юбилея происходили торжественные празднества в честь богов, сделавших благочестивую римскую нацию первой в мире. Конечно, эти празднества заставляли первого человека в государстве не выходить из рамок национальной религии. После него наступили первые систематические, всеобщие гонения; они связаны с страшным именем Деция. Деций был соперником Филиппа; он царствовал всего два года, но за эти два года он дошел до такого фанатизма против христиан, какого раньше никогда ее бывало. Наместникам был отдан приказ принуждать христиан к национальному культу. Последним был назначен срок, к которому они должны заявить о своем переходе к старой религии. В случае бегства, имущество христиан конфисковывалось; оставшиеся же привлекались к суду, который приговаривал их к изгнанию и лишению имущества или же нередко и в смертной казни.
Рассказы об этих преследованиях еще больше, чем известия о прежних гонениях, говорят об отпадении многих христиан. Власти выдавали свидетельства о совершении жертвоприношения; такой документ несколько лет тому назад был найден в Египте. Дело касается одного христианина, Аврелия Диогена, из селения «Александров Остров»; этот христианин подает прошение чиновникам, назначенным для наблюдения за жертвоприношениями. После характеристики самого себя он делает следующее признание: «Я всегда ревностно приносил жертвы богам и теперь также, после (императорских) приказов в вашем присутствии принес жертву, (пил) и (ел) от жертвы, о чем и прошу вас засвидетельствовать ниже. Прощайте. Я, Аврелий Диоген, подал это прошение» – Далее следует свидетельство администрации: «Свидетельствую, что Аврелий принес жертву. В (первый) год императора Цезаря Гая Мессия Квинта Траяна Деция, благочестивого, счастливого, великого; 26-го июня». Такой клочек папируса, подобное свидетельство драгоценнее, чем трогательные жалобы на жестокости гонений риторических отцов церкви или пропитанные кровью жития мучеников. Перед нашими взорами моментально встает картина преследований; мы видим весь бюрократический аппарат в движении, узнаем его превосходную организацию, простирающую свою чиновную руку даже до деревень Египта, а также узнаем и об отпадении христиан. Дополнением к этому служит известие отца церкви Киприана. Он негодует на христиан за их быструю готовность приносить жертвы языческим богам. Еще до насильственного принуждения они уже спешили исполнить желание властей и заставляли даже детей принимать участие в жертвоприношении. Многие, по мнению Киприана, поступали так, чтоб предупредить конфискацию своего имущества. Снисхождения заслуживают только те, кто не в силах был перенести мучения. Ото всех же других отец церкви требует самого строгого покаяния прежде, чем они вновь могут быть приняты в лоно церкви – Киприан сам бежал от преследований Деция. Этот поступок его подвергся, конечно, сильному осуждению. Однако, отец церкви оправдывал себя тем, что в случае его смерти церковь осталась бы без руководителя. Во время последовавших вскоре затем новых всеобщих гонений при императоре Валериане, когда наказанию подвергались все вообще когда-либо бывшие христианами, Киприан также принял мученический венец.
В третий раз государство во всеоружии поднялось против христиан, когда бразды правления перешли в руки великого реформатора Диоклетиана. Церкви подлежали разрушению, литература христиан должна была быт уничтожена, рабы за свою принадлежность к христианству теряли право на освобождение. Эдикт следовал за эдиктом, последний из них отдавал строгий приказ всех христиан, во что бы то ни стало, принуждать в жертвоприношению. Особенные ужасы творились в это время в Египте. Однако коронованный поборник национального культа потерпел крушение; какой популярностью ни пользовались его приемы, как ни энергично поддерживала его языческая литература, – тем не менее ему пришлось бы одну половину своих подданных заставить истребить другую. Это была последняя гигантская попытка язычества воспрепятствовать победе христианства; десять лет спустя, в 313 году, появляется великий миланский эдикт о веротерпимости Константина и Лициния. Внешняя борьба этим почти закончилась; вскоре наступило даже такое время, когда могла появиться книга, приписываемая Лактанцию, в которой с ненавистью описываются различные роды смерти всех гонителей, и когда, наконец, один ревнитель христианства призывает сыновей Константина к преследованию язычников. Кратковременная реакция Юлиана Отступника, хотя и пробудила вновь все страсти жгучей, двухсотлетней борьбы, но теперь спор ограничился, главным образом, лишь словесной борьбою: в общем еще менее радостное зрелище, чем то, когда мученики по приказу проконсула шли на смерть.
Если мы еще раз бросим взгляд на всю эту великую эволюцию, то мы не должны затемнять ясность нашего взора розовыми облаками энтузиазма. Кровь мучеников послужила цементом при постройке церкви, так говорят католики и большинство протестантов; воля Божия, как и всегда оказалась сильнее людской злобы. Несомненно, что без гонений церковь не проявила бы такого могучего роста. Всякое убеждение очищается и усиливается испытанием огнем. Но существуют разные испытания огнем. Если оно тянется слишком долго и, огонь не переставая раздувается, то даже самый твердый, самый благородный металл будет расплавлен. Вполне правильно было сказано: идеи жили в головах; если бы отрубили головы, то идеи перестали бы существовать. Постоянное, в течение веков, направленное к единственной цели истребления всех иначе мыслящих, беспощадное, последовательное гонение в конце концов уничтожило бы христианство. Мы же видим, что сделала своей железной последовательностью из Испании, опиравшаяся на фанатизм невежественного народа, инквизиция, здесь система действительно победила потому, что она действовала поразительно исправно и долго. Но здесь энтузиазму новой веры противостоял фанатизм противника. Последнего и не доставало древнему миру, ибо ненависть к христианам не представляла собою чего-либо положительного. Отдельные выступления наместников приносили лишь частичный вред, последние же нападения императоров явились слишком поздно. Таким образом, римская религия, а с нею государство, проиграла игру не столько вследствие победы противника, сколько благодаря собственной вине. В нас же это зрелище, не смотря на всю отвратительность гонений и все жестокости, творившиеся при этом возбуждает все-таки меньший ужас, чем события позднейшего времени, когда та же система преследований из года в год воздвигала костры, на которых христиане, именем Бога и во славу его, сжигали христиан.
IV. Литературная борьба с греками и римлянами
1. Первые выступления
Ни одно умственное движение не выступало с такой силою в самых различных направлениях, как христианство. Мы познакомились уже с апокалипсисами и сивиллами, с их смелыми нападками на Вавилон-Рим, теперь предмет вашего рассмотрения составят философские сочинения, направленные против язычества, т. е. главным образом против представителей греческого мировоззрения, а в последней главе мы увидим, что наряду с борьбой против римского государства велась также ожесточенная борьба внутри самого христианства, против сект. Таким образом, христианская церковь по отношению в остальному миру действительно оказывалась тем, за что она, уверенная в своем назначении, уже ранее выдавала себя, т. е. новым народом. Как мы уже отчасти видели, христианство вело борьбу по всей линии почти только в виде наступления. Мы увидим это еще раз, как из настоящей, так и из обеих следующих глав.
Первые нападения христианству пришлось выдержать со стороны Иудейства: первый мученик был Стефан, один из самых яростных гонителей – Павел. Нероновские убийства христиан, как замечено уже выше, инспирированы, вероятно, евреями, и еще из более позднего времени мы имеем доказательства борьбы христианства с иудейством. Так. напр., один из самых резких противников христианства, платоник Цельз, во введении к своему полемическому сочинению заставляет выступать, как бы в виде разведчика, одного еврея[2]. Но одновременно юные силы нового учения направляются также на борьбу с греками и римлянами. Впрочем, последняя не представляет собою чего-либо вполне нового; Иудеи также вынуждены были защищаться от критики со стороны язычества. Аллегорические толкования писания, в которому позднее прибегали еврейские ученые. представляли собою средство защиты против языческой критики библии. Но кроме того, мы обладаем также сочинениями, которые гораздо прямее, непосредственнее, положительнее обращаются против язычества, – это тракты благородного мыслителя Филона и апология известного историка Иосифа. Филон, как мы заметили уже ранее всецело проникнутый эллинскими воззрениями, глубокая, серьезная личность, вовсе не является поборником христианства, как ни глубоко в нем сознание Бога, как ни смешны кажутся ему греческие божества; его идеал – созерцательная жизнь, и этот идеал, кажется ему, достигнут известной иудейской сектой. Но он не апостол теории, не пламенный оратор. Рядом с ним стоит совершенно противоположный ему Иосиф – человек, полный общечеловеческих, специфически иудейских, можно даже сказать: специфически греческих недостатков. Во время великой иудейской войны Веспасиана он во время для своей личной безопасности перешел на сторону врага своего народа, в лагерь Флавиев, которым затем стал служить со страстью ренегата. Однако, дело его народа все-таки оставалось ему близким, и так как сильная иудейская пропаганда в римском государстве встречала много энергичных врагов, резко нападавших в своих писаниях на притязания иудеев, то в одном полемическом сочинении он обратился против целого ряда этих авторов, стремясь доказать, что на свете никогда не существовало более справедливого, более умного, более значительного народа, чем евреи, которые всегда по своей культуре во всех отношениях стояли выше греков, – ведь греки и были главным врагом. Полемика Иосифа, перемешанная с омерзительными личными нападками, представляет собою, несмотря на весь её исторический интерес, далеко не отрадное, а подчас даже прямо-таки отвратительнее явление: это высокомерное, сухое произведение пропаганды. Какую чудесную, освежающую противоположность всему этому представляет первое полемическое выступление христианства. Это такой же контраст, как между мрачным иудейским апокалипсисом который на дымящихся развалинах Иерусалима ведет разговор с Богом, и трубным гласом апокалипсиса Иоанна. Из каморки мыслителя Филона, от наполненной желчью чернильницы Иосифа мы как бы вдруг дуновением истории переносимся на одно из священнейших мест древности, в афинский ареопаг. Перед нами стоит апостол Павел и проповедует о неведомом Боге и против ложных божеств. Вместо комнатного потолка – над ним синее небо Аттики, вместо пера в руке – у него живое слово на устах; у ног его недоверчиво улыбающиеся эпикурейцы и стоики, в его сердце глубокая вера в победу своего учения. И тем не менее, и это все едва-ли когда-либо происходило в действительности, и эта картина также лишь произведение литературы. Но здесь это безразлично; недавно было сделано верное замечание, что проповедь Павла в Афинах в высшем смысле полна исторической истины. Высказанные им мысли о том, что греки глубоко в душе уже чувствовали Бога, но что этот Бог не живет в храмах и не сделан руками человека, что Бог после веков невежества призывает людей в покаянию, наконец указание на страшный суд и воскресение мертвых – все это уже содержит в себе в зародыше идеи позднейшей апологетики. Это – программа будущего. Ибо, как апологетика (защитительная литература) лишь в самой небольшой степени соответствует действительному смыслу этого слова и представляет собою почти сплошное наступление, именно потому, что она чувствует себя застрельщицей новой веры, нового народа, так и проповедь Павла является нападением прямо на центр вражеского лагеря, на палатку полководца, на философские Афины. И то обстоятельство, что предметом нападок со стороны философов служит, главным образом, воскресение мертвых, вполне соответствует антично-языческому чувствованию; против этого догмата язычество боролось всего дольше и самыми сильными средствами. Таким образом, проповедь Павла представляет собою до известной степени идеальную сводку всех этих первых споров с греческим миром, она соединяет их в одном лице, в лице апостола язычников Павла. Она остается прелюдией всей христианской апологетики.
Рядом с проповедью Павла современем появляется апокрифическое сочинение, которое однако значительно уступает в оригинальности первому. Это так называемая проповедь Петра, от которой до нас дошла лишь одна цитата. Она начинается указанием на единого Бога: «Узнайте же, что существует только один Бог, который сотворил начало всего, и во власти которого находится конец всего. Он невидим и тем не менее видит все, он необъемлем и тем не менее объемлет все, он не нуждается ни в чем, а в нем нуждается все, им все существует. Он непостижим, вечен, бесконечен, никем не сотворен, он сам сделал все словом своей силы. Почитайте же этого Бога не так, как греки; ибо они позволяют увлекать себя неведению и понимают Бога не так, как вы в вашем совершенном познании, и из того, чем Бог дал им власть пользоваться, они делают себе изображения из дерева, камня, меди, железа, серебра и золота, и ставят на пьедестал то, что было подчинено материи, и поклоняются ему; и то, что Бог дал им для пищи и употребления, птиц небесных и рыб морских, и червей земных, и зверей и четвероногих полевых животных, хорьков и мышей, кошек и собак и обезьян (почитают они); и собственную пищу приносят они в жертву животным, которые также служат для питания, и мертвое приносят они мертвецам, считая последних за богов, и так они проявляют неблагодарность к Богу, ибо этим отрицают, что он существует. И не почитайте Бога так, как иудеи, ибо хотя они и думают, что они одни познали Бога, но тем не менее они не понимают этого, поклоняясь ангелам и архангелам, месяцу и луне. И если не светит луна, то они не празднуют субботы, которую они называют первой, ни праздника опресноков, ни великого дня». Из этого отрывка мы узнаем двоякого рода вещь: прежде всего зависимость от греческой полемики, которая всегда держала про запас насмешка над египетским почитанием зверей, и в теснейшей связи с этим неуменье литературно излагать свои мысли. Египетский звериный культ без всякой связи вовлекается в полемику против греческих божеств, и этим наш автор обнаруживает, что он далеко еще не вполне ориентировался в этой области.
Та же беспомощность, в известном смысле, сохраняется и в позднейшее время; что-то прямо-таки трогательное заключается в неуверенных еще шагах древнего христианства в области того, что тогда называли философией. Христиане, несмотря на всю ту энергию, с которой они выступали против греческой философии, сами нередко называли себя философами, с одной стороны потому, что к этой классификации принуждали литературные обычаи древности, с другой стороны потому, что и они сами довольно часто, вероятно, чувствовали некоторую зависимость от эллинской философии. и они имели на это во всяком случае такое же право, как и то множество странствующих философов, которые шатались тогда по миру и присвоивали себе возвышенное имя философов. Но тем не менее отношение христиан в философии было и остается довольно неясным. Языческое образование, весь окружающий их мир дает им для борьбы с языческим культом совершенно то же оружие, которым еще много столетий до ним пользовались философы. Но эта борьба есть лишь отрицание; положительную же часть их учения составляет религия, не возникшая из мыслящего духа, а воспринятая и рожденная из священного трепета богодовхновенного чувства, – религия, а не философия. Поэтому, некоторые из христиан и не желают ничего слышать о философах и резко и грубо высмеивают их. Даже личность самого Сократа для некоторых христиан не является священной. Большинство признает, что с ним необходимо считаться, многие видят в нем даже нечто в роде предчувствия Христа, но так как, в конце концов, он не мог абсолютно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым христианством к человеку, то они стараются найти в нем всяческие ошибки и, наконец, даже порочат его не менее, чем других философов. Позже, когда христианство стало все более и более охватывать также и образованные круги общества, выработалась собственная христианская философия, которая, восприняв всю изощренность эллинского ума, несомненно совершила насилие над самой драгоценной частью религии. И это, конечно, религии самой по себе, как и всегда, послужило лишь в ущербу.
Впрочем, в более древнюю эпоху дело до этого еще, в счастью, не доходило; мы встречаем тогда несколько смелых, простых людей, которые, хотя и называют себя философами и стараются мыслить философски, но в сущности вовсе не заслуживают этого названия в том смысле, какой мы придаем ему. Древнейшим из этих поборников христианства, которых, как мы уже указывали выше, не совсем правильно называют апологетами, является открытый около 14 лет тому назад Аристид, который сам себя называл философом из Афин. Апология его адресована в императору Антонину Пию, мало энергичному, уже немолодому человеку, который, если и видел когда-либо это произведение, то просто, вероятно, отложил его к прочим бумагам. Если же он и читал его, то уже с первых страниц почувствовал, должно быть, смертельную скуку. На него, как на человека языческого образования, вряд ли могло оказать иное действие это произведение, которое начиналось с обычной полемики против ложных богов и идолов греческого мира: все это император, конечно, уже ранее встречал у философов того времени. Совершенно иначе относимся к этому произведению мы. Для нас оно является драгоценным свидетельством, трогательным, как я сказал, документом по истории этой полемической литературы. В первой полемической части автор всецело находится под властью традиции, он подчас крайне неуклюже высказывает самые обыденные мысли, которые тогда носились в воздухе. Они являются для него чем-то чуждым, воспринятым лишь с внешней стороны, но тем не менее он глубоко убежден в их правильности, потому что они переданы ему, и поэтому он повторяет их, как бы желая, чтоб они лучше запечатлелись в уме читателя, и даже будто проверяя самого себя. Таким образом, несмотря на свое название философа, он здесь является лишь начинающим писателем, и это то как раз и заключает в себе что-то трогательное и делает его для нас гораздо интереснее многих вполне опытных авторов последующего времени. Апология его начинается совершенно по образцу стоиков: «Меня, о цезарь, произвело на свет провидение Божие. И когда я наблюдал небо и землю и море, солнце, луну и все прочее, я удивился порядку, господствующему всюду. И понял я, что этот мир и все в нем двигается необходимостью, и увидел я, что тот, кто приводит все это в движение и кто господствует в мире, есть Бог, невидимый в мире и скрытый миром; ибо все, что двигает, сильнее того, что находится во власти». Проникновение в эти первоосновы Аристид отвергает, так как Бог непостижим ни для кого: «Я же говорю, что Бог никем не произведен на свет, никем не сделан, что он никем не объемлем, но сам объемлет все, что он без начала и конца, вечный, бессмертный, совершенный и непостижимый. Совершенный же… значит, что в нем нет никаких недостатков, что он ни в чем не нуждается, а в нем нуждается все. А что я сказал, что он не имеет начала, означает, что все имеющее начало имеет также и конец, а что имеет конец, то может быть разгадано. Он не имеет имени, ибо все имеющее имя родственно творению. Он не имеет ни образа, ни членов, ибо имеющий это соответствует сотворенным вещам». И в том же духе автор продолжает далее, существо Божие характеризуется согласно древней манере, чисто отрицательными свойствами. Далее, автор делит людей на три рода, смотря по религии: на идолопоклонников, иудеев и христиан. Он показывает, как все язычники впали в заблуждение, и те, которые поклоняются стихиям и небесным светилам, и те, которые чтут поэтических богов греков; при этом излагает он все это крайне утомительно, основной мотив всегда остается один и тот же, именно, что эти предметы почитания либо изменчивы, либо подчинены определенным законам, либо, наконец; не в состоянии сами себе помочь. Так напр., про солнце он говорить, что оно не может быть богом потому, что оно вынуждено двигаться по известному пути, имеет определенные обязанности, совершенно лишено собственной воли, и что путь его может быть вычислен заранее. С особенной резкостью, подобно иудейским писателям. Аристид нападает затем на высокомерных греков, которые воображают себя мудрецами, а сами хуже варваров, поклоняющихся солнцу. Мифы и религиозные представления греков разбираются по определенной схеме, и апологет показывает своим противникам, что такая грешная компания, как олимпийские боги, способна своим дурным примером уничтожить всякую нравственность и добродетель: упрек, построенный вполне по греческому образцу. Особенно тщательно автор копается в грехах Зевса и развертывает один из тех длинных листов Лепорелло, на которых записаны все прелюбодеяния царя богов. Для характеристики возьмем, напр., отрывов об Аполлоне и Артемиде: «А после этого они приводят другого бога и называют его Аполлоном. Про него говорят они, что он завистлив и изменчив и то ходит с луком и колчаном, то с кифарой и плектроном, и он делает людям предсказания, чтобы получить от них награду. А нуждается ли этот бог в награде? Позорно, что все это находят в боге. – И после него приводят он Артемиду, богиню, сестру Аполлона, и говорят, что она была охотницей и носила лук и стрелы и с собаками скиталась по горам, гоняясь за оленями или дикими кабанами. Позорно, что молодая девушка одна скитается по горам и охотится на зверей. И поэтому невозможно, чтоб Артемида была богиней». И то же самое повторяется о каждом боге; я думаю, мы получили достаточное представление о монотонности и отсутствии оригинальности. Та-же слабость отмечает и дальнейшую критику египетского культа животных, с которой, как с необходимой принадлежностью этой литературы, мы уже познакомились ранее.
Но вот начинается нечто новое, освежающее. После краткого рассмотрения иудейской религии, в приверженцах которой христианин не отрицает весьма совершенного познания Бога и большой любви в ближним, он с глубокой теплотой и убедительной силой переходит к христианам и дает подробную характеристику их образа жизни. До известной степени в противоположность многочисленным моральным предписаниям древнего христианства, в противоположность дебету, эта характеристика содержит кредиту христиан и выгодно отличается от невыносимого самовосхваления иудеев в их апологетических сочинениях; ибо все, что здесь говорится о нравственности и воздержании христиан, подтверждается также и с другой стороны, в том числе и язычниками. «Они, говорится там, не нарушают браков…. не лжесвидетельствуют, не присваивают себе чужого имущества и не прельщаются тем, что» им не принадлежит; они чтут родителей, и тем, кто им близок, делают добро, и судят по справедливости. И они не молятся идолам, имеющим образ человека, и не делают другим того, чего они не хотят, чтобы делали им, и они не употребляют в пищу жертвенных животных, ибо они чисты, и на тех, которые угнетают их, они действуют убеждением и делают их своими друзьями, и врагам своим они творят добро. И жены их чисты, о цезарь, как девы, и дочери их полны кротости, и мужчины их воздерживаются от… всякой нечистоты в надежде на будущую награду, которая ожидает их на том Свете. Слуг же своих и служанок и их детей склоняют они к христианству той любовью, с которой они относятся к ним. И когда те делаются христианами, они всех их без различия называют братьями. Они не молятся чуждым богам и живут в смирении, творя добро, и ложь не встречается среди них; они любят друг друга и заботятся о вдовах и сирот освобождают от их угнетателей, и имущий дает неимущему без зависти и когда они видят чужестранца, то приводят его к себе в дом и радуются ему, как настоящему брату, ибо не тех называют они братьями, кто братья им по плоти, а тех, кто братья по духу и в Боге. Когда же умирает бедный, и христианин видит это, то он по силам совершает его погребение. И когда они слышат, что один из них заключен в темницу и терпит угнетения во имя Мессии, то они стараются помочь ему в его несчастьи, а если возможно освободить его, то и освобождают. И если у них находится нуждающийся и бедный, а они сами не имеют излишка, то они постятся два или три дня и отдают свою пищу бедному… Всякое утро и всякий час, взирая на благодеяния, которые Бог оказывает им, они хвалят и славят Бога и благодарят его за пищу и питье. И когда праведник среди них оставляет этот мир, то они радуются и благодарят Бога и провожают покойника, точно он переезжает с одного места на другое. И когда у них рождается ребенок, то они воздают хвалу Богу, а когда случается, что ребенок умирает, то они воздают Богу еще большую хвалу за то, что сподобил дитя пройти этот мир без греха. И когда они видят, что один из них умер в безбожии и во грехах, то они горько плачут над ним и вздыхают, как будто ему предстоит наказание… И так проводят они время своей жизни. И так как они познают благодеяния, которые Бог оказывает им, то благодаря этому и красоты, которыми полон мир, продолжают существовать… Затем Аристид предлагает императору самому прочесть христианские книги; тогда он узнает, что Аристид вовсе не защитник нового учения, что он говорит так по непосредственному побуждению, потому, что он читал писания христиан и увидел, что предсказания их оправдались, другими словами потому, что он недавно еще сан был язычником. Еще раз, с еще большей силой напирает он на то, что мир держится только благодаря молитвам христиан, еще раз бросает он на греков полный отвращения взгляд, убеждает их бросить их клеветы по отношению к христианам и обратиться на путь истины и заканчивает затем, как многие позднейшие христианские сочинения, указанием на грядущий суд Божий. Эта древняя апология, которую, благодаря счастливой случайности, мы имеем теперь в целом виде, является типичной для многих следующих апологий. Все они с утомительнейшими подробностями и крайне неоригинально возвращаются постоянно к борьбе против языческих воззрений, и только положительная часть, та часть, где говорится о действительном образе жизни христиан, действует на нас более глубоко. В произведении Аристида мы видим христианство уже в центре борьбы против своих врагов. Апологет призывает язычников бросить их клеветы, и мы знаем, что он разумеет при этом те глупые сказки, которые обвиняли христиан в безбожии, каннибализме и разврате. Однако, к этим неуклюжим, скорее демагогическим, нападкам уже присоединялись другие, более утонченные, более колкия. Прежде всего полемика противников – и, как уже замечено, не без видного участия в борьбе иудеев, – направилась, по-видимому, на личность основателя христианской религии; его называют беспомощным, слабым и несмелым по отношению в врагам, говорят, что если он действительно был Сын Божий, то почему же он не явился во всем своем величии перед судьями, за его чудеса называют его волшебником. Этому вполне соответствуют в воззрении язычников и представления о христианском Боге. С тем же вопросом, с каким прежде эпикурейцы обращались к своим противникам-стоикам, теперь обращаются язычники к христианам. Если ваш Бог, говорят они, действительно вечен, то где был он до сотворения мира, что делал он тогда? Кроме того, говорят они далее, христиане представляют себе Бога в не менее человеческом образе, чем греки своих богов: разве можно, напр., говорить о персте Божием или представлять себе Бога прогуливающимся по раю? Если Бог не защитил Христа от врагов, то он не защитит и его последователей; почему же Бог не защищает их от несправедливостей? Если христиане действительно так, как они это говорят, стремятся к Богу и к смерти, то почему они не покончат с собою добровольно для того, чтобы отправиться к Богу. И далее, если Бог ненавидит идолов и идолопоклонство, то совершенно непонятно, почему он не вмешается и не уничтожит жрецов. Впрочем, христиане весьма заблуждаются насчет своих противников; последние и не думают поклоняться самым изображениям, изображения лишь помогают им в их человеческой слабости. Кроме того, греки и римляне отлично знают, что миром правит единый Бог, но подобно тому, как цезарю подчинен целый штат чиновников, так и боги являются лишь исполнителями высшей воли единого Бога. Молиться этим богам есть дело простого благочестия. Да и христианское учение далеко не является таким, каким его представляют его защитники, оно вовсе не единообразно, а делится на секты, как философия. Но вместе с тем христиане и не философы; ибо что за темную, необразованную и боящуюся света компанию они представляют! Один античный ритор, в общем один из самых поверхностных болтунов, какие когда-либо были, заявляет в одной из своих утомительно-длинных и в общем крайне неинтересных речей, что эти люди, представляющие собою полное ничтожество, осмеливаются поносить таких мужей, как Демосфен, в то время, как в каждом их слове встречается по меньшей мере одна грамматическая ошибка. Презираемые сами, они презирают других, судят и других, не обращая внимания на себя, хвалятся своими добродетелями и не соблюдают их, проповедуют воздержание, а сами погрязли в пороках. Грабеж они называют общим пользованием, недоброжелательство у них значит философия, а бедность – презрение с богатству. При этом они унижаются в своей алчности. Разнузданность называют они свободой, злобу – откровенностью, принятие даров – гуманностью. Как и безбожники из Палестины, они в одно и то же время и низкопоклонны, и дерзки. В известном направлении они отделились от эллинов или скорее от всех добрых людей. Неспособные ни к чему полезному, они мастерски умеют вносить раздоры в семью и натравливают членов семьи друг на друга. Ни одно слово, ни одна мысль, ни одно дело их не принесло плодов. Они не принимают участия в устройстве празднеств и не чтут богов. Они не заседают в городских советах, не утешают печальных, не примиряют спорящих, юношество их остается без воспитания, на форму речи они не обращают никакого внимания; не они прячутся по углам и знать ничего не хотят. Они осмеливаются даже присваивать себе имена лучших из эллинов и называют себя – философами, как будто одна только перемена имени что-нибудь значит и какого-нибудь Терсита может превратить в Гиацинта или Нарцисса.

