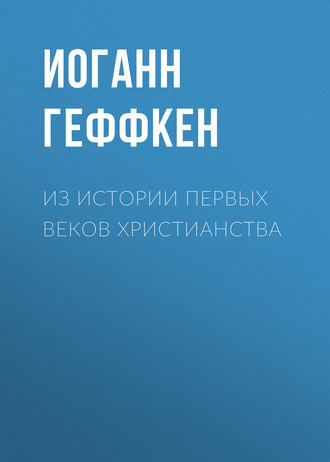 полная версия
полная версияИз истории первых веков христианства
На эти упреки, которым нельзя отказать в известной ловкости, христиане часто дают лишь половинчатые или уклончивые ответы. Вообще во всей этой борьбе, которая тянется целые века и с обеих сторон лишь медленно изменяет аргументы, многое было основано на коренных недоразумениях. Обе партии возражают друг другу большей частью совсем не по существу, ибо обе исходят из совершенно различных предпосылок. Тезисы и антитезисы, вообще, никогда не решают спор умов и сердец. Но все-таки целый ряд обвинений христианам удалось опровергнуть своей жизнью. Неприязнь язычников к уединенной жизни христиан, с их нелюдимости выражается в известных, уже ранее рассмотренных нами обвинениях. Так как в то время в Риме было множество самых разнообразных тайных культов, которые были заимствованы с востока и отличались кровавыми и сладострастными оргиями, то подобные обвинения находили, конечно, благоприятную почву, тем более, что большая христианская община так называемых гностиков, примыкая с восточным мистериям, пользовалась особыми таинственными символами и заклинаниями. И это было не последней причиной, почему сама церковь, как мы это еще увидим, сочла нужным положить конец этим сектам. Здесь с течением времени христианам удалось действительно заткнуть рот врагам; и самый ход дела помог им в этом; все увеличивавшаяся публичность их богослужения опровергла эти обвинения, и в позднейшие века о них уже нет более и речи.
Подробное рассмотрение этой борьбы умов обнаруживает, как уже замечено выше, повторяющийся вообще в истории всех времен факт, – именно, что оружие этого спора остается на всем протяжении его более или менее однородным, и даже отчасти здесь продолжается борьба языческой философии, стоиков, эпикурейцев и скептиков. Но среди этой пропаганды, о томительном прозябании которой свидетельствует множество скучнейших трактатов, сплошь и рядом выделяется человеческая личность, сила индивида, которая из собственной груди умеет исторгнуть иные звуки. Здесь перед нами встает личность апологета и мученика Иустина. Он родился около 100 года от языческих родителей. «Сначала он был платоником, видел, каким клеветам подвергаются христиане, с какой смелостью они идут на суд, и это создало в нем, по его собственному свидетельству, глубокое убеждение, что они не преступники, ибо преступники не могли бы обладать таким бесстрашием. Он также около 150 года написал апологию новой веры на имя императора Антонина Пия. От неё уже веет совершенно иным духом, чем от только что рассмотренной апологии Аристида. Иустин обратился в императору с категорическим требованием оказать, наконец, справедливость христианам. Как мы видели выше, христианство и враждебное отношение к жертвоприношениям в то время были синонимами, поэтому для привлечения в суду было достаточно одного обвинений в христианстве; если кто либо признавал себя перед судом христианином, то его обвиняли, как члена преступной секты, если же он отрицал свою принадлежность в христианству, то его отпускали, при условии, конечно, что его показания пользовались доверием. Апологет прямо обращается в императору и его сподвижникам: „Вы, восклицает он, называетесь благочестивыми и философами, и слугами справедливости; посмотрим, таковы ли вы на самом деле. Ибо льстить мы не можем, у вас нет желания понравиться людям, как у людей, погрязших в предразсудках. По нашему убеждению, ничто не может повредить нам, у вас есть власть убить нас, но нанести нам вред вы не можете. Мы требуем следствия, обвинения и наказания, если дело действительно обстоит так, как говорят; в противном же случае вы в своем пристрастии оскорбляете лишь самих себя. Имя наше еще ничего не говорит; если мы действительно злые люди, то оно вам ничуть не поможет, если же наш образ действий хорош, то имя „христиан“ само по себе также не может нам и повредить. Каждый преступник имеет право требовать расследования своего дела, – того же требуем и мы от вас. Отношение, которое вы проявляли к нам до сих пор, есть дело злых духов, злых демонов; они работали в то время, когда Сократ стоял перед своими судьями, они же и вас теперь побуждают к безразсудным поступкам. Несомненно, и среди христиан есть злые люди, которые осуждены вполне правильно, но как раз поэтому-то и необходимо расследовать предварительно всю жизнь каждого отдельного христианина, привлеченного к суду, а затем уже выносить решение. Все это говорим мы лишь ради вас самих; ибо мы могли ведь отречься. Но мы далеки от этого, мы стремимся в вечной жизни; и если мы заблуждаемся, то это касается лишь нас одних и никого больше“».
Много смелости в этих словах апологета; но далее он говорит еще смелее. «Ведь мы сами, продолжает он, помогаем вам создать мир, ибо, по нашему мнению, злой человек не может укрыться от Бога. Если бы все люди не забывали о суде, они были бы лучше. Они же грешат, ибо думают этим путем укрыться от вас, смертных. В противном случае они воздерживались бы даже от дурных мыслей. Вы же боитесь этой всеобщей правды, боитесь не иметь повода для наказаний. Так поступают палачи, а не владыки, это – дело злых демонов. Но ведь вы хотите благочестия и философии. Но если вы истине предпочитаете обычаи, то помните, что такие владыки так же далеко уйдут с этим, как разбойники в пустыне». Далее следует рассмотрение христианских добродетелей и того учения, которое встречало особенные нападки со стороны язычников, именно учения о воскресении мертвых. «Как низко, восклицает Иустин, оценивают могущество Божие те, кто говорит, что мы вернемся туда же, откуда пришли. Они, конечно, не поверили бы и в сотворение этого мира. Лучше верить в то, что не по силам собственной природе и людям, чем быть неверующим, как другие. Таким образом, если мы мыслим возвышеннее ваших философов, то почему же ненавидите вы нас?»
Однако апологет, который преклоняется перед Сократом и высоко ценит философию, все еще старается найти нечто в роде компромисса. Он открывает всякого рода связующие звенья между греками и Христом: даже в эллинской религии он находит сходные представления, как ни бесконечно выше христианская нравственность стоит над моралью греческого Олимпа. Пришествие Христа и даже вся его жизнь предсказаны пророками. Мы верим в это, а вследствие этого и в суд Божий. Впрочем, нечто подобное же говорит и Платон; всем, что греки рассказывают об этих вещах, они обязаны пророкам; если же они и противоречат самим себе, то это происходит вследствие их собственного недостаточного понимания. Таким образом, Дух Божий уже ранее также проявлял себя в человеке, и ни один человек, умерший во грехах до Христа, не заслуживает прощения. – Апология заканчивается учением о тех мерах, в которым прибегают злые демоны, чтобы совратить человека, и интересным изложением обычаев тайной вечери.
Несмотря на всю безыскусственность этого сочинения, в авторе его все таки виден замечательный человек. Он бесстрашно говорит истину в глаза, чувство справедливости в нем непреклонно, но все-таки и он признает возможность известного компромисса. И как раз то обстоятельство, что столь мягкий по природе человек говорит такие смелые слова, и доказывает силу целого, проявляющуюся в отдельных личностях. Полную противоположность мягкому, эллински образованному Иустину представляет неприветливый, но оригинальный вавилонянин Татиан. В его лице снова выступает чуждый эллинской культуре Восток, который в сущности постоянно питал злобу в греческому миру и лишь после отчаянного сопротивления был местами покорен более могучей греческой цивилизацией. Татиан был варваром и с гордостью признавал это. По его мнению, наука и искусство зародились на востоке, греки являются лишь подражателями. Эллинское красноречие – пустое надувательство, поэзия греков – безнравственна, философы их – пьяницы и моты, которые много думают о себе, говорят глупости и постоянно противоречат друг другу, вся их наука вообще – болтовня. Напротив, в так называемых варварских книгах, несмотря на всю их внешнюю простоту, заключается вся истина. Я не буду касаться здесь нападений Татиана на греческих богов и вообще всех этих достаточно избитых тем. Тем более, что этот варвар далеко не тверд в них; чтобы совсем покончить с греческой культурой, он делает массу всевозможных замечаний о греческих статуях, когда же ему было указано, что все эти замечания он заимствовал из старых негодных книг, да при том еще и не вполне точно, то он все таки имел бесстыдство утверждать, будто все эти статуи он сам видел во время своих путешествий. Соответственно своему пристрастию ко всему восточному, он заканчивает указанием на древность иудейских книг сравнительно с юной греческой культурой. Итак, это действительно варвар, и при том еще не совсем честный, но тем не менее все-таки нельзя умалять его значения; человек с таким элементарным инстинктом ненависти не может отсутствовать в изображении эпохи.
Таким образом, одна за другой встают перед нами интересные личности. Язычество, однако, тоже опомнилось и обратилось на путь систематических нападений. Среди язычников также встречаются замечательные личности, и хотя ни одна из них не может быть поставлена в один уровень с некоторыми христианами, напр. Тертуллианом или Августином, но аргументы их во всяком случае так остроумны и тонки, что до сих пор еще не утратили своего значения.
2. Эпоха Тертуллиана
Известная фраза о том, что книги имеют свою судьбу, находит широкое подтверждение в области христианской литературы. Множество древнейших, а следовательно, и важнейших книг утеряно, другие, долгое время считавшиеся потерянными, каким-то чудом теперь открыты вновь, а современная наука, которая в поисках за древними книгами выработала даже особый метод, обещает нам на этом поприще еще большие неожиданности. В одном только случае следует несколько умерить свои надежды, именно, когда дело идет о таких книгах, которые по мере сил предавались забвению или уничтожению самими христианами. Христиане при этом действовали с большим успехом и по отличному методу. Это относится, во-первых, к еретическим сочинениям, которые, несмотря на новейшие находки, дошли до нас в весьма незначительном числе, и во-вторых, к полемическим сочинениям, направленным вообще против христианства. Из последних ни одно еще пока не извлечено из столь плодородное в отношении находок почвы Египта, да, по моему мнению, вряд ли когда-нибудь будет извлечено. Впрочем, значительная, можно сказать даже, лучшая часть этих сочинений сохранилась в направленных против них христианских книгах; впрочем, из последних некоторые также утеряны. Я говорю лучшая, наиболее интересная часть: потому-что христиане в своей борьбе против этих книг старались, конечно, особенно основательно опровергнуть самые ядовитые, самые опасные их положения. Но все таки такое сохранение в виде цитат противников может быть лишь отрывочно; многое, что было бы для нас теперь особенно интересно, совершенно не вошло в полемику. Только одно видно из христианских полемических сочинений: противники, как уже замечено выше, хотя часто и не понимали язычников и еще чаще лишь слабо опровергали их аргументы, но никогда, – это мы можем еще проконтролировать, – не извращали их слов и даже не позволяли себе малейшей их перестановки. Добросовестность их, таким образом, находятся вне сомнения.
Таким образом сохранилась значительная часть знаменитого сочинения платоника Цельза против христианства. Он дал ему название «Истинное слово». Оно считалось столь опасным, что еще 60-70 лет спустя после его появления, по мнению лучших знатоков, оно возникло между 177 и 180 гг. по Р. Хр. – отец церкви Ориген, по совету одного из своих друзей, выступил против него с объемистым трудом. Оригену понадобилось для этого немного времени, он быстро приступил к писанию, далеко еще не вполне вникнув в личность этого врага христиан. Это ясно обнаруживается между прочими из следующего. Ориген почему-то составил себе представление, что Цельз эпикуреец, и с этого начал свое возражение. Но при дальнейшем течении своей работы он, к удивлению, находить, что враг мыслит далеко не по эпикурейски, а скорее склоняется к платонизму. Однако, вместо того, чтобы переделать или пересмотреть вновь свое сочинение, он преспокойно оставляет то, что было написано на основании ложного представления: дело требовало быстроты, и сочинение должно было появиться возможно скорее. Таким образом мы еще и теперь можем доказать, что христианский полемист отнесся крайне поверхностно в утерянному языческому сочинению. Но книга Оригена имеет еще и много другах недостатков. Неоднократно чувствует он, что враг далеко не неправ, и на его меткие аргументы приводит крайне запутанные возражения. Чтоб выйти из затруднительного положения, он заявляет, что Цельз в сущности ужасно безтолковый человек; но тот же самый Ориген дает вам блестящие доказательства противного.
Цельз гораздо лучше подготовился в своему сочинению, чем его будущий противник. Будучи далек от того, чтобы основывать свое мнение на тех слухах, которые носились в народе относительну сторонников новой веры, он путем основательного чтения христианских книг, библии, еретических сочинений и апологий составил себе полное представление об учении и жизни христиан. Таким образом, он выступил, на противников во всеоружии. Самое важное для него – истина; его критическому уму претит безусловная вера христиан, восклицание: не исследуй глубоко, возмущает его. Ибо при точном исследовании эта вера и оказывается полным ничтожеством. И вот Цельз, – ход мыслей которого я не могу восстановить вполне, а привожу лишь в общих чертах, – приступает к опровержению, и это опровержение, несмотря на встречающиеся в нем повторения, следует назвать вполне научным, так как оно основывается на весьма широком кругозоре; он следует методу, которым пользовались многие противники христианства. Прежде всего, по мнению Цельза, нельзя рассматривать христианство, как обособленное явление, необходимо указать ему его место среди религий всего мира. Ибо в христианстве много аналогий с другими религиями и культами; про языческого бога Асклепия рассказывают подобные же вещи, как и про Христа, Мифра и его мистерии имеют много точек соприкосновения с христианским культом, рождение от девы тоже не представляет чего либо оригинального, нечто подобное встречается и у греков. Кроме того, следует отделять Ветхий Завет от Нового. В Ветхом Завете множество крайне безнравственных истории: неужели можно считать эту книгу назидательной! К тому же Моисей обещает лишь временные блага, Христос же проповедует любовь и воздержание. Всего глупее объяснять эти истории аллегорически, как это делают многие иудеи и христиане, это крайне шаткая почва, и к этому приему можно прибегать лишь при вполне безвыходном положении. Но возьмем вообще Ветхий Завет. Какие детские вещи рассказываются там о сотворении мира, о грехопадении! Как можно говорить до сотворения солнца о днях творения, как Бог может отдыхать, говорить или, наконец, даже сокрушаться в своем деле? Кроме того, Ветхий и Новый Завет приписывают диаволу слишком большую власть над миром. Далее, напрасно думают, что потоп был ниспослан Богом для наказания людей; стихийные явления в равной мере служат для всего мира, и неразумно приписывать их одним лишь людям. И этот Бог, как бы просыпаясь от долгого сна, посылает своего духа в ничтожный уголок мира в эту крошечную, презираемую всеми Палестину. Он знает, что сын его будет страдать, будет даже казнен, и тем не менее все-таки посылает? И как должны мы представлять себе весь этот эпизод? Ведь не мог же Бог превратиться в смертное тело, очевидно, он принял только вид человека; но в таком случае, ведь, это хитрость недостойная Бога. Нечего ссылаться также на пророчества. Предсказания Ветхого Завета можно одинаково хорошо отнести и к совершенно иным явлениям: все это предсказано, потому что произошло, а не произошло, потому что предсказано. Если Христос действительно Бог, то он не мог бы страдать, то он должен был бы получить помощь от Бога; Бог также не ест. Кроме того предание об его жизни покоится на весьма слабом основании. Его генеалогия неверна, при крещении его никто не присутствовал, воскресение его видела лишь одна истерическая женщина и несколько каких-то шарлатанов. Странно также, что настоящий Бог при своем появлении тотчас же встречает такое недоверие, и его ученики даже не жертвуют своей жизнью за него. Если бы обманщик и лжец Христос был действительно Богом, то они побоялись бы действовать так, как они действовали. Наконец, и Пилат также, не наказан за свой поступок. Да и вообще Бог не помогает христианам: если они ссылаются на то, что поругание изображений языческих богов не влечет за собою наказания со стороны этих богов, то, ведь, тоже самое можно сказать и о христианском Боге, который также не выручает верующих из беды. Из всего этого можно вывести заключение, что подобно тому, как Бог до сих пор не помогал иудеям и христианам, так и христианский Рим не встретит с его стороны поддержки. Все эти противоречия и недоговоренности христиане, впрочем, чувствовали и сами и много раз пытались обойти евангельские события и мысли или придать им иную форшу; другие опять развили из христианства какие-то каббалистические таинства, словом – и христиане впадают в такие же противоречия, как и языческие секты, а потому истина не может заключаться в христианстве. Это какая-то странная, отрицающая всякий человеческий успех религия: прочие культы требуют чистоты сердца, они же взывают к грешникам и нечестивым, они образуют общество скрытых, пугливых людей, которые поклоняются Богу и в то же время боятся демонов; либо, восклицает Цельз, совершенно откажитесь от мира, либо разделяйте с нами все, что вас волнует, значит, также и наши невзгоды.
Хотя все эти аргументы и не являются вполне новыми, как уже замечено, но тем не менее они большей частью настолько остроумны и в известном смысле столь неопровержимы, что противники христианства постоянно пользовались ими и развивали их в своей полемике. Ориген и пытается самостоятельно опровергнуть их; нередко ему это удается, еще чаще, однако, его неуклюжия возражения совершенно не достигают цели. Было бы слишком утомительно подробно излагать все возражения Оригена. Такой способ представляет нечто отрицательное. Самым освежающим образом всегда действует личность; она представляет собою, в конце концов, нечто действительно положительное в истории. Поэтому, не станем противопоставлять ученому язычнику его позднего противника, поставим рядом с ним другого могучего христианина, который значительно превосходят его силой своей позиции, великого отца церкви Тертуллиана, апология которого с книгой Августина о государстве Божием, представляет собою самое могучее создание христианской полемики против язычников.
Тертуллиан был родом из Африки и принадлежал в той школе, которая стремилась выработать из латинского языка инструмент виртуоза. Но он значительно превзошел своих учителей силой своей фантазии и горячностью своего воодушевления. Посмотрим, как характеризует его один знаток греческой и латинской стилистики: «Никому не удавалось поднять латинский язык до такой высокой степени страстности, как ему; пафос, который Тацит отвергал с благородным негодованием, превращается у Тертуллиана в бурный поток, сносящий все, что встречается на пути; он связал воедино возвышенное спокойствие Тацита, бурную страстность и памфлетический тон Ювенала и аффектированную неясность Персия… Ни у одного латинского писателя язык не являлся в таком полном смысле слова непосредственным выражением внутреннего чувства… Он совершенно не стесняется с языком для того, чтобы втиснуть его в оковы своего могучего мышления; он представляет собою тип создателя христианской речи, в его насильственных нововведениях чувствуется дух человека, проникнутого глубокой верой в то, что христианство явилось в мир, как новая величина, и требует, поэтому, для своего выражения новых факторов».
Каково выражение, такова и мысль. Тертуллиан, как римлянин, не обладает особенно глубоким образованием: среди защитников христианства греки, хотя впрочем также не превышающие среднего уровня эпохи, более учены, чем он. И тем не менее их голос совершенно теряется рядом с мощным призывом римлянина. Лучшим свидетельством этого является то обстоятельство, что греки перевели защитительную речь Тертуллиана на свой язык. Интересно сравнить начало апологий Иустина и Тертуллиана. Грек чрезвычайно просто говорит о том, что нельзя осуждать христиан лишь по одному имени, что сначала нужно производить расследование. Тертуллиан в развитии этой идеи находит новые пункты. Осуждение, говорит он, без расследования возбуждает подозрение злой совести; нет ничего более несправедливого, как ненавидеть то, чего не знаешь. Одно исключает другое: не знать тех, кого ненавидишь, это значитг несправедливо ненавидеть тех, кого не знаешь. Все те, кто узнали, что именно они ненавидели, перестали ненавидеть христианскую религию, т. е. много язычников обратились к христианству, благодаря ознакомлению с ним. Язычники лишь любят свое невежество. Когда противники восклицают, что христианство хорошо не потому, что многие обратились к нему, что большое число верующих еще не свидетельствует об истинности учения, то это кажется как-будто правильным, но вспомните, хвалился ли кто-нибудь тем, что он находится в обществе злых людей. Всякое зло связано со страхом и стыдом. Злые люди стараются отговориться и оправдаться, а осужденные они рассыпаются в жалобах. Христиане поступают иначе: стыд, раскаяние, страх совершенно чужды им, осужденный остается по-прежнему полон гордости.
Этому вескому введению, если только можно назвать введением такое быстрое проникновение до самой сути вещей, соответствует и дальнейшее развитие мысли. В римском судебном процессе заключается явная нелепость. Вы прибегаете к пыткам, восклицает Тертуллиан, вообще, чтобы добиться от преступника признания, по отношению же к христианам вы делаете это чтобы добиться от них отречения. А так как в данном случае вы поступаете как раз обратно тому, как вы поступаете и остальными преступниками, то следовательно мы не преступники. Когда я отрекаюсь, т. е. лгу, тогда вы верите мне. Христиане же признают свою вину; пытка, следовательно не имеет смысла. Имя христианина вредит доброй славе. Он хороший человек, говорят про кого-нибудь, хотя и христианин; почему не говорят так: он хороший человек, потому что он христианин, или: он христианин, потому что он хороший человек? Из известного следует выводить неизвестное, а не осуждать заранее на основании неизвестного известное. Иные, которые раньше были совершенно негодными членами общества, внезапно, на глазах язычников, превращаются в порядочных людей, и оказывается, что они христиане. Но это-то как раз и сердит еще более язычников. Совершенно же не выдерживает критики ссылка на законы и особенно на то, что император не может вводить новых богов без одобрения сената. Законы подвержены разнообразнейшим изменениям, многие уже давно устарели и поэтому совсем не применяются. А императоры даже и не обращаются к сенату по вопросу о терпимом отношении к христианству; добросердечные императоры всегда были милостивы к нам: Нерон же, которого весь мир знает, как злодея, был нам первый враг: в этом и заключается весь вопрос.
Ни один порядочный человек не должен был бы распространять пошлую басню о том, что христиане убивают детей и едят человеческое мясо. Ни разу еще не находили такого ребенка. Злая слава живет только ложью, истина ее убивает. Представим себе также весь ужас детоубийства. Разве мы, христиане, обладаем иной организацией, чем язычники, которые ведь также чувствуют глубокое отвращение к подобным делам? Представим себе, как дело происходит: неужели действительно возможно, чтобы епископ принуждал новокрещаемого к детоубийству? Не обвиняйте нас, а взгляните на самих себя, подумайте, давно ли у вас самих прекратились человеческие жертвоприношения.
Затем автор переходит к подробной критике богов и идолопоклонства греков и римлян. Эта тема, как мы уже знаем, была настолько истрепана, что даже Тертуллиан не нашел сказать о ней ничего нового. Тем сильнее звучит то, что великий человек говорит о христианах и их богослужении. Мы поклоняемся единому Богу, который создал мир для украшения своего достоинства, который невидим, хотя и делается иногда видимым, неосязаем, хотя по благости своей иногда и принимает образ человека, неоценим, хотя он и оценивается человеческим чувством. Нужно ли доказывать его существование из его дел, из свидетельства самой души? Хотя душа и окружена тысячью разных условий, притеснений и препятствий, но тем не менее она все-таки временами приходит в истинному познанию. Все наши обычные поговорки относятся к Богу, мы говорим: Дай Бог, Бог видит, Бог так велит. Так душа свидетельствует, что она с самого начала была христианкой. Во время молитвы мы, ведь, обращаем своя взоры с небу, а не в Капитолию. Бог объявил нам свою волю посредством священного писания, через пророков. Им я обязан своим обращением: христианство постигается постепенно, рождение тут ничуть не помогает. Наши пророчества все исполнились, ваши же сивиллы не более, как лгуньи; одна полка книг наших пророков стоит больше всех ваших предсказаний, к тому же наши пророчества и гораздо старше ваших. В Христе исполнились все пророчества; даже наша литература, письмо Пилата к Тиверию – апологет пользуется здесь христианской фальсификацией – свидетельствует о событиях, описанных в евангелиях. Христос не навязывал, как это делали римские цари, невежественному народу новые божества, он раскрыл глаза людям просвещенным, и если это познание делает людей лучше, то, значит, ложна та религия, которая чтит изображения богов и поклоняется статуям мертвых.

