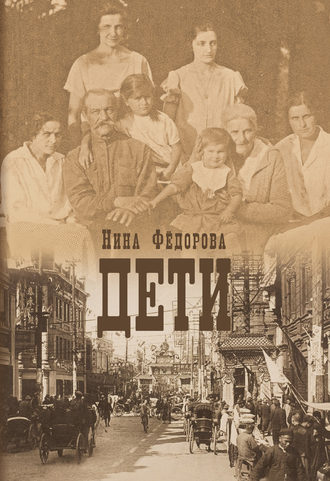
Полная версия
Дети
– Но дети… у вас Лида.
– Я как-то спокойна за Лиду. Именно в ней нет гордости. Есть недостатки, конечно, но такие, за которые ей не придется тяжело расплачиваться. Жизнь в бедности ее научила…
– Слушаю вас, и легко делается мне на сердце. Ведь, и правда, раз жизнь наша в руках Божьих, то нет и случайностей…
– Да. Только размышлять нам всем надо бы побольше – что и к чему. Не летать стремглав по жизни.
– Это так. Но, с другой стороны, трудно быть только философом, когда в доме шестеро детей… и нет для них на земле места. У нас даже и паспортов для них нет. Что делать? Возвращаться в Россию? Пытаться отправить детей за границу, хотя бы одних только мальчиков?
– Мы отправили Диму, моего племянника, в Англию, – сказала мать Лиды, – Богатая англичанка усыновила его. Добрая, славная женщина. Но вот теперь и Англия находится под угрозой войны. И наш Дима, возможно, в Англии увидит те самые ужасы жизни, от которых мы его услали из Китая.
– В Англии всё-таки… едва ли.
– Да, мы отправили мальчика. Он был слабый: недоедал с самого рождения… Ах, какой это был славный мальчик! – вздохнула она.
Теперь г-жа Платова пыталась утешить свою собеседницу.
– Кто знает, будет война в Англии или не будет, а пока он путешествовал – морское путешествие много значит для ребенка, и для здоровья его и для развития. Чистый воздух, хорошее питание – на пароходе, если ехать первым или вторым классом, кормят превосходно! Подумайте, только очень богатые люди могут дать своим детям то, что имеет ваш мальчик. Одна эта поездка может дать ему столько здоровья, такой запас сил, что ему легче будет переносить то, что позднее он встретит в жизни…
И становилось светлее в комнате от ее каждого слова. Налили еще по чашечке чаю – и чай показался слаще.
– Да, главное – выиграть время. Каждый год, прожитый спокойно, так важен в жизни детей, заговорила опять г-жа Платова. – Каждый год, каждый месяц…
– Каждая неделя…
– Каждый день, каждый час…
И опять они обе вздохнули.
– Теперь расскажу о моем. Володе. Приехала я в Шанхай поздно вечером. Добралась до его квартиры: одна комнатка, конечно; пусто, бедно, но чистенько. Просмотрела его белье, одежду… пересчитала. Плохенькое всё, но в порядке, видно, сам починял. Вы знаете, как мальчики починяют. Поплакала, глядя на заплатки. Потом, чувствую, не могу больше ждать, хочу увидеть Володю поскорее. А всего одиннадцать часов, он же приходит домой не раньше трех утра.
– Так поздно?
– Да, ночной клуб. Вот я и пошла в этот клуб. А город этот Шанхай замечательно красив ночью. Огни везде, движение. И вечером все выглядит богато, интересно. А народу! И все не тот народ и не так одет, как видишь днем. В первый раз в жизни была я в ночном клубе. «Stop Неге» – называется. Как увидела я, что там делается, горько сжалось мое сердце. Думаю: Господи, неужели на земле нет другого места для моего ребенка?
Обе женщины вздохнули.
– Только вошла, вижу – идет большая ссора, подготовляется драка. Потом разобралась, в чем было дело. Американские «марины» кутили, а им, по долгу службы, к полночи надо быть на месте, в бараках. Но один напился и сидит, отказывается идти. Товарищи же тянут его с места. Все они, конечно, совершенно пьяны. И лакеи помогают тащить, а он, оказывается, силач, атлет, тяжелый-претяжелый, сдвинуть его не могут.
Лида и Галя, пившие чай на подоконнике, заинтересовались рассказом и подошли поближе – послушать.
– Страшно было смотреть. Сидит, уперся и руками и ногами, а лицо красное, глаза выпучены. Тут двое «маринов» схватили цветок – на столе стоял в большом горшке – они схватили цветок за стебель, а горшком бьют его по голове, – а остальные считать начали: раз, два…
Восклицания ужаса раздались у девочек. Галя закрыла лицо руками и шептала: «Володя, Володя…»
– Горшок был глиняный, разбился. Земля летела комьями…
– Убили? – прошептала Лида.
– Нет. Он только встал, чихнул и сказал: «Берите другой горшок!»
Слушательницы облегченно вздохнули. Девочки засмеялись.
И г-жа Платова, улыбнувшись, сказала:
– Но я в тот вечер не смеялась. Я знала, что и мой сын где-то тут, в этой толпе. Произойдет убийство – и он может оказаться замешан. В испуге я кинулась вперед и закричала: «Where is mu son?»[1] – А этот самый упрямый «марин» кинулся ко мне и кричит: «Неге I am, Ма!»[2]’ – и он обнял меня и стал плакать, положив свою голову ко мне на плечи: «They beat me, Ма!»[3] – сам захлебывается горькими слезами. Сначала я испугалась, а потом жалко мне стало «марина», я глажу его по голове и говорю: «успокойся… успокойся». И оба мы в земле от цветка, грязные, грязные. Я стала чихать. Все кругом смеются.
Девочки стояли, обнявшись, и громко смеялись:
– Но дальше, что дальше?
– Тут меня увидел Володя. Он был на каком-то возвышении, с оркестром. Он знал, что я приеду, ждал меня – а тут узнал по голосу. Он спрыгнул с возвышения и кинулся ко мне: «Мама!» – А «марин», меня не выпуская, сжал кулак и на него: «What?» – заорал: «She is my mother! Get out!»[4].
Тут все четверо засмеялись громко и звонко.
– А я испугалась за Володю, – продолжала г-жа Платова. – «Уйди!» кричу, – «уйди!» – Володя бледный, тоненький, слабый, – а этот силач наступает, меня же обнял одной рукой, боюсь, задушит. Володя видит это – хочет меня вызволить. Я Володе кричу: «Не подходи, Володя! Не подходи!»
И она вдруг задохнулась и заплакала. Настроение в комнате сразу переменилось. Галя подошла к матери и нежно ее обняла.
– Но всё хорошо кончилось, мама! Ты с самого начала сказала, что Володя здоров – и всё было хорошо. Успокойся, мама дорогая, успокойся!
– Ну, уж кончу рассказ, – решила г-жа Платова, отдышавшись. – Попросили меня «марины» помочь им увести товарища, а то будет ему тяжелое наказание. И мы пошли. Я его вела, как ребенка, за руку. И Володя отпросился у хозяина и пошел за нами, обо мне беспокоился. И вот иду я в толпе пьяных матросов, веду за руку этого атлета, а он рыдает: «How very nice»[5], лепечет: «I am again home»[6]. Товарищи же его идут вокруг и поют песню. Все шествуем по средине улицы. Прохожие останавливаются, пальцем показывают на меня, отпускают шутки. На счастье, на свежем воздухе все они немного пришли в себя. И мой «сынок» понял, что скоро полночь, торопиться надо в бараки. Он отпустил мою руку. Почихал немного и говорит: «Thank you, Ма!» и подарил мне американский серебряный доллар.
– Американский? – воскликнула Лида. – Он у вас есть?
Г-жа Платова порылась в сумке и вынула доллар. Это был первый американский серебряный доллар, который все они видели. Большой, тяжелый – настоящие деньги!
– Знаешь, мама, – сказала Галя, – а он был славный человек, этот матрос. Ничего, что пьяный, он славный.
– А что вы сделаете с этим долларом? – спросила Лида и тут же покраснела, так как мать быстро взглянула на нее, и Лида поняла, что такой вопрос – дурная манера. Но г-жа Платова тут же ответила:
– Истрачу на рождественские подарки для детей. Как ни бедно, но мы всегда устраиваем елку, хоть веточку, хоть без свечей. В этом году она, как видно, будет с подарками. За один американский доллар дают восемь харбинских. Нас в семье – восемь человек. Доллар на человека – на это можно сделать хорошие подарки!
– Вот непредвиденный случай! – удивлялась Лида.
Г-жа Платова вернулась к основной теме:
– Рассталась я с Володей. Пока что он еще хороший, неиспорченный мальчик. Но после всего, что я там видела, не будет мое сердце покойно. Молодой мальчик, да и красивый… И какой милый сын: сам живет бедно-бедно, а нам посылает – и так аккуратно, напоминать не надо. И вот я ему говорю: «Не вернуться ли тебе к нам, домой?» У него и глаза засияли – еще ребенок! – но потом он решил: «Надо быть практичными: кто же бросает работу в наше время!» И я должна была согласиться, иначе как же оплачивать квартиру, – И она вытерла набежавшие слезы кончиком носового платка.
Пора было устраиваться на ночь. Они все должны были лечь в одно время, так как места для хождений по комнате не оставалось. Лучшая постель – софа – была предоставлена гостье. Вещи передвинули, образовалась как бы перегородка: по одну сторону – комната взрослых, по другую – на полу – рядышком расположились девочки.
Сильный ветер поднялся к ночи. Он шел с большой силой откуда-то издалека, вероятно, из пустыни Гоби. Он нес с собою гигантские песчаные тучи, разметая их края по дороге, ударяя песком по стенам, крышам, деревьям. Острая пыль пустыни проникала во все щели и, как жесткая вуаль, опускалась на все. У нее был какой-то чуждый, едва уловимый запах. Пыль выветрившихся скал, разрытых гробниц, истлевших скелетов, под землю ушедших городов – она, несомненно, имела запах давней смерти. Ветер был полон звуков. Он порывался рассказать какую-то мучительную повесть, сообщить таинственную весть – и издавал тысячи звуков: он бормотал таинственные, непонятные слова, издавал жалобные вздохи, всплески отчаянных криков и жалоб, вой ужаса и боли – и затем опять впадал в таинственный шопот и, заунывно подвывая, оплакивал кого-то. Ему начали вторить полуоторванные куски железа на крышах, разорванные провода, полуотодранные доски в заборах – всё это хлопало, крутилось, жаловалось, негодовало на судьбу. Казалось, чердачная комната, оторвавшись от дома, повисла в воздухе, качаясь на облаках пыли, в волнах ветра, и вот-вот унесется с ним, неизвестно куда.
Наконец, как бы закончив приготовления к концерту и пробу своих инструментов, ветер разразился могучей и стройной симфонией отчаяния и власти. Как было спать в такую ночь?
– Боже, какая в этом музыка! – шептала Лида. – Знаешь, он поет, как Борис Годунов: «Достиг я высшей власти»… Слышишь?
– Как бы я боялась, если бы была одна, – шептала Галя.
– Мне кажется, что ветер вьется вокруг, ищет, где дверь. А потом ворвется сюда – и конец нам!
Ветер утихал, но он разогнал сон.
Как бы в унисон ему, в комнате началось то, что Лида называла «вечерние шопоты», когда говорятся самые искренние слова и делаются самые глубокие признания.
Шептались девочки не о любви – нет – о жизненном горе, о бедности.
– Мы такие бедные, такие бедные, – шептала Галя.
Лида, тесно обняв ее, шептала:
– Мы тоже бедные – бедные… самые бедные.
– И маленькие братья все просят кушать, а мне жалко маму…
– Наш Дима, когда жил дома, тоже все просил кушать… У нас были разные квартиранты… бабушка у нас была чудесная, ангел… ее все любили… ей дадут что-нибудь, а она спрячет для Димы, держит, пока он станет совсем голодный, и даст ему, а он так, бывало, обрадуется…
– А нам не дают. И, знаешь, напротив – кондитерская, в окне всё свежие булочки, и братья всё стоят там и стоят… смотрят на булочки, а я всё боюсь, всё боюсь…
– Чего?
– Ты знаешь про Жан-Вальжана, у Гюго?
– Знаю.
– Вот я этого страшно боюсь. Вдруг не вытерпят. Они – маленькие.
– Ах, Боже мой! – воскликнула Лида. – Не думай, не думай! Им не будет такой судьбы! Поверь мне – не будет!
Сон медлил переступить порог этой комнаты и убаюкать, успокоить их. Но ветер стихал. Он переменил и темп и мелодию и уже не ревел, а перебирал какие-то заунывные струны, как бы подбирая получше мотив. Только к утру все заснули, отдыхая, чтобы встретить новый день. А он – уже готовый – вставал на востоке, определенный, как судьба.
Глава пятая
Лида открыла окно и, перегнувшись, смотрела во двор. Там, внизу хлопнула калитка. В этот час она всегда была настороже, чтобы услышать и не пропустить этого звука: чем бы она ни была занята, о чем бы ни думала, она ожидала почтальона. От десяти и до одиннадцати каждый миг мог принести ей эту радость, совершить чудо. Но и на этот раз она обманулась: почтальона не было, это Леон возвращался домой. Он поднял голову на звук открывающегося окна – и вверху их взгляды встретились. В маленьком чердачном окне Лида казалась ненастоящей, видением. Ее глаза сияли ему лишь мгновение. Узнав его, они потемнели от разочарования. Нет, это не был хромой, всегда улыбающийся, оборванный китайский почтальон. Лида не кинется стремглав, вниз по лестнице, с криком радости встречать его.
Даже если смотреть сверху, из маленького окошка чердака – и оттуда Леон показался бы безусловно красивым. Его невозможно было бы не отличить от всякого другого, входящего во двор. Могла же она, узнав его, сказать хоть два слова, улыбнуться. Но он, очевидно, не существовал для Лиды. Занятая своими мыслями, нахлынувшим разочарованием, она не поздоровалась с ним, не кивнула головой, не послала никакого привета. Он не был почтальоном, и этого было достаточно, чтоб его существование уже больше не интересовало ее в эту минуту. Она исчезла, окно на чердаке захлопнулось.
Этот звук словно ударил Леона. Он вдруг остановился и несколько мгновений стоял неподвижно, глядя вверх, на закрывшееся маленькое окно чердака. С присущей ему сдержанностью он больше ничем не выказал своих чувств. Но эта мгновенная остановка, эта мертвенная неподвижность – хоть и на несколько мгновений – посреди двора, эти вдруг потерявшие блеск глаза, такие же чуждые всему, как то окно, те тусклые стекла – обнаружили, как глубоко он был ранен.
А Лида страдала у себя наверху: уже две недели, как не было писем от Джима.
Есть жгучие человеческие чувства, знакомые многим, но не поддающиеся описанию. Одно из них – ожидание писем издалека. Лида считала дни не от утра до вечера, а от почты до почты. Вечность отделяла ее от прихода почтальона завтра. Она стояла посреди комнаты, крепко сжав руки: письма не было. А как хотелось, Боже, как хотелось получить его именно сегодня, в день, когда она – впервые в жизни – выступала на концерте.
Ее платье – прекрасное, пышное, белое, только что разглаженное, – сияло на софе. Казалось, оно испускало лучи нежного света в комнате с расщепленным деревянным потолком и темными голыми стенами.
Чтобы не дать воли грусти, Лида старалась сосредоточить мысли на радостном, она смотрела и любовалась платьем.
– Мое белое платье, мое единственное прекрасное платье…
Воспоминания нахлынули на нее. Бабушка выбирала его: «Возьми белое, может быть, ты и венчаться в нем будешь». Где теперь бабушка? Миссис Париш платила за платье. В каком восторге был Дима! Он все показывал платье Собаке, чтоб и она любовалась. Петя тогда ничего не сказал, но я видела, как он был рад, что у меня нарядное платье, и я, по-настоящему, иду на вечер. Профессор был восхищен, поцеловал мне руку. А мистер Сун так странно сказал: «Те ласточки – из Африки»… Потом пришел Джим… Боже мой! все они были со мною! Боже мой, я стояла среди них – и они все радовались за меня! Боже, как я была тогда счастлива! Знала ли я это тогда? Нет, только теперь, когда они все ушли, все ушли по разным дорогам – в могилы, в чужие края, неизвестно куда – теперь только я вот стою тут одна! и понимаю, как я тогда была счастлива! Все ушли от меня и мамы – а платье осталось, то самое платье. Я надену его сегодня – а их нет. Там, где они, им все равно…»
Из-за софы появилась Собака. Собака подняла голову и внимательно и мрачно смотрела на Лиду. Собаки смотрят снизу вверх под другим углом, нежели человек, и для них вещи выглядят иначе, в других очертаниях. Эта собака, казалось, никогда не восхищалась тем, что видела. Она потянула носом и фыркнула: Лида издавала запах мыла. Дешевого мыла. Собака не в состоянии была долго переносить близость Лиды, она попробовала вежливо уйти прочь. Но Лида не понимала этого.
– Собака… – сказала она, – милая Собака! мы выступаем сегодня на концерте, перед публикой. Я волнуюсь. Скажи мне что-нибудь ласковое! Утешь!
Собака пошевелила челюстью, не издав звука.
– Ты не скажешь мне даже слова? Посмотри ласково и скажи:! «Лида, не волнуйся!» Скажи!
Это было глупо. Собака повернулась, чтобы совсем уйти.
– Ты помнишь Диму?
Собака остановилась на пороге, низко опустив голову.
– Какой был славный мальчик! Как мы любили его! Можно ли привыкнуть к тому, что его с нами нет? Привыкнем ли мы?
Ненужные, глупые слова! Собака посмотрела на Лиду еще раз – уже с презрением и ушла.
И снова Лида была одна, и снова она искала, на чем остановить свою мысль. И опять она смотрела на прекрасное белое платье.
– Почему это так устроено в мире, – думала она, – что глубочайшие чувства умирают, проходят бесследно, а бездушные вещи, чем-то соединенные с ними – переживают их и остаются. Вымирают народы, но остаются монетки, какие-то черепки, какие-то развалины… Что дает выносливость простым и часто ничтожным вещам? Почему должен погибнуть герой, и имя его должно забыться, а обломок его копья переживает его на тысячи лет? Почему человек не может понять этого секрета неодушевленного мира и научиться от него? Для вещей жизнь – в настоящем. А для человека? Едва мелькнет мысль или шевельнется чувство – и вот оно уже в прошлом, нет его, ушло навеки. А неодушевленные вещи – самые спокойные, самые счастливые, обладают самой долгой жизнью…
Готовая к концерту Лида спустилась в нижний этаж, чтобы показаться, как обещала, графине Диаз и посмотреть на себя в их большое зеркало. С момента, как она надела свое прекрасное платье, и настроение ее переменилось: она вошла легкой, воздушной поступью, сияя улыбкой.
Семья Диаз была довольно странная. Зная каждый по нескольку языков, все они были очень неразговорчивы, и в их доме царило молчание. Было ли это следствием тех тяжких испытаний, которым подверглась Испания, или же – их жизни в чуждом для них Китае, неизвестно. Они никогда ни с кем не говорили ни о себе, ни на какиелибо политические темы, предоставляя в этом полную противоположность русским эмигрантам. Молчаливые, спокойные, с благородством и грацией во всех движениях, они казались подобранными йарочно, как персонажи в картинах великих художников, для выражения какой-то идеи. Это впечатление прекрасной, но неживой картины получал всякий, кому случалось войти в их совершенно беззвучную комнату, где сидело пять человек. Они часто даже гостя приветствовали не словом, а поклоном и улыбкой. Казалось, в жизни их не было событий, и время для них давно перестало существовать. Казалось, в их жизни невозможны были потрясения: они стояли выше судьбы.
Увидев Лиду, они улыбнулись.
– Готовы для концерта, – сказала графиня. – Кто провожает вас?
– Меня? Никто не провожает. Я иду одна.
– Идете? Пешком?
Лида смутилась:
– Я могу взять рикшу. Мама дала мне десять центов.
Все Диаз взглянули на Лиду. Молоденькая девушка, одна едущая на свой первый концерт, на рикше, в этом длинном белом платье – патетическое зрелище.
Старый граф поднялся:
– Я провожу вас, Лида. – Затем он обернулся к жене: – Я буду на концерте, а вы пришлите Леона меня сменить. Он вернется к девяти часам.
– Но я могу одна… – застеснялась Лида. – Это ничего.
– Нет, Лида, это не принято. – И графиня вышла вместе с мужем помочь ему переодеться.
Когда граф вышел в вечернем костюме, он выглядел таким благородным, таким аристократом, что Лида пришла в восхищение.
– Ах, какой вы красивый!.. – воскликнула она и смутилась. Все Диаз улыбнулись. Лида же заволновалась: ей хотелось скорее-скорее на концерт.
Они ехали в автомобиле, и, взволнованная еще и этим великолепием, Лида рассказывала графу, что едет в автомобиле в третий раз в жизни: однажды она ехала с Джимом, а потом как-то раз на кладбище, на могилу бабушки, и за такси тогда платила миссис Париш. Граф вежливо, хотя и односложно, поддерживал этот разговор. Закончив введение, Лида всю остальную дорогу на разные лады благодарила графа за доставляемое ей удовольствие. Наконец, граф мягко ее остановил:
– Перед тем как петь на концерте, не надо много говорить. Вы утомляете горло.
Когда Лида вошла в зал, ее встретили холодные, почти враждебные взгляды. Кто это? Ее не знали в том кругу, для кого давался концерт. Это был «Клуб интернациональной дружбы для дам», где президентом была всё та же миссис Браун. Среди членов клуба не было русских, т. к. членский взнос в «Интернациональную дружбу» был очень высок, а у русских в Тяньцзине не было денег. Дамы не знали, что Лида выступает на концерте, и ее появление в публике в вечернем туалете показалось чуть ли не дерзостью. Кое-где поднялся насмешливый шопот, и сердце Лиды начало стынуть под вопросительными взглядами дам-распорядительниц «Интернациональной дружбы». Но как только вошел задержавшийся в прихожей граф, и ясно стало, что он – с Лидой, мгновенно всё переменилось: улыбки засияли Лиде. Все знали, что у графа есть дочери, и приняли Лиду за одну из них. «Как очаровательна! Какая прелесть!» Лида поняла, каково было бы ей одной сидеть в этом зале, ожидая второго отделения концерта, где она должна была петь. И горячей благодарностью засиял ее взор, обращенный на старого графа.
«У меня мог бы быть папа, похожий на него», вдруг подумала Лида, в первый раз в жизни – с горечью. Мать заменяла ей всё, но сегодня она почувствовала, какое счастье было бы иметь и отца. Ей хотелось быть достойной своего спутника, графа. Она сидела спокойно и прямо, стараясь вспомнить наставления покойной бабушки о том, как подобает вести себя молодой девушке в незнакомом обществе. Милая бабушка всегда придавала большое значение манерам, говоря, что они украшают общественную жизнь.
Концерт начался.
Первый номер программы был более живописен, нежели музыкален. Красивая дама играла на арфе. Картина была окрашена в два цвета: цвет красной герани – ковер, платье дамы, ее туфли, губы и ногти, и золотой – арфа, волосы, шея и руки. Музыка была только рамкой, в которой показывала себя публике эта дама. Но внешний замысел был эффектен, арфой и дамой залюбовались, о музыке забыли, даме аплодировали. Вторым номером было хоровое пение. Шесть старых джентльменов и шесть старых дам пели шотландские песни. Никто из них не имел ни голоса, ни слуха. Они даже пели каждый по себе, не в такт, хотя восьмидесятилетний на вид старик, суровый, сухой и высокий, дирижировал вдохновенно, топая ногой, размахивая кулаком и странно двигая бровями. Для тех, кто родился в Шотландии, это была музыка, голос родины, самый милый и самый понятный сердцу из всех голосов. Хору аплодировали, вызывали на бис. Шесть леди и шесть джентльменов вставали и церемонно, с достоинством кланялись. Они представляли собой патетическое и, вместе с тем, чем-то величественное зрелище. Эти люди покинули родину – и кто из них увидит ее опять? Но ни годы на чужбине, ни путешествия, ни чужие языки, обычаи, страны, ни перемены в личной судьбе и жизни, ни чужие песни – ничто не заглушило любви, не порвало нити – тонкой и нежной – соединявшей их с тем маленьким клочком земли, что называют Шотландией. Старые, уже приближаясь к могиле, они пели все те же песни, что их матери пели у их колыбелей.
Нешотландская часть аудитории тоже горячо аплодировала, но уже по другим мотивам. Поющие были – слева направо: банкир, генерал, дипломат, адвокат, владелец заводов, доктор, а дамы – их жены.
Госпожа Мануйлова сделала знак Лиде, и они ушли за кулисы. Приближался момент выступления Лиды.
С каким бьющимся сердцем прошла она через сцену и остановилась около своей учительницы, которая села за пианино, чтобы аккомпанировать.
Вопреки обычаю, аплодисменты не встретили Лиду. В зале уже знали, что это просто какая-то русская девочка, а граф Диаз живет в одном доме и с нею пришел случайно. Так как артистам ничего, конечно, не платили за выступления, то это подчеркнутое невнимание к Лиде больно задело г-жу Мануйлову. Но Лида и не заметила ничего, аплодисментов она и не ожидала… Она стояла, дрожа с ног до головы, в своем белом платье и, казалось, она вот-вот упадет и растает – случайная снежинка, явившаяся в мае. Вдруг она увидела Леона.
Он вошел в зал и, быстро пройдя между рядами, занял свое место почти перед сценой. Он смотред на Лиду. Он никогда не видел ее не только в вечернем платье, но вообще сколько-нибудь хорошо одетой.
И вот она стояла перед ним, высоко, на сцене, выше всех остальных, кто был в зале, – такая юная, белая, смущенная, скромная, – такая красивая. Он смотрел, и глаза его были светлы, сияли горячим восхищением. Они одни ободрили Лиду.
– А ну-ка, Лида, покажем, как мы умеем петь, – сказала ей г-жа Мануйлова спокойно и громко – и вдруг Лида перестала дрожать. Г-жа Мануйлова взяла несколько сильных аккордов – и всё изменилось. Мир стал иным. Теплая волна радости смыла все другие чувства – Лида начала петь. Она пела с наслаждением, с восторгом. Душа ее раскрывалась в какой-то безграничной, бескрайней радости. Всё вокруг медленно окутывалось полупрозрачным туманом, раскачивалось, отодвигалось, таяло. Лида сама – с одной из своих высоких нот – тоже покинула землю. Она поднялась и уплывала медленно-медленно, не касаясь ни пола, ни стен. Слеза катилась по ее щеке. «Что это? Что это?» – какой-то голос спрашивал в ней. – «Я пою», – отвечало ее сердце.





