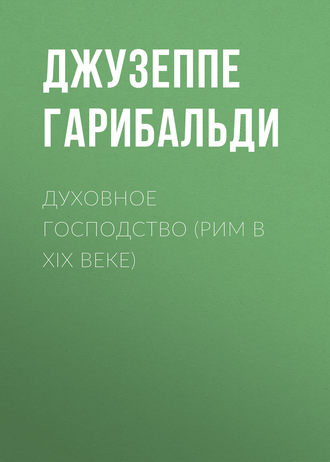 полная версия
полная версияДуховное господство (Рим в XIX веке)
Говоря это, Орацио снова осмотрел лошадей, пригласил общество сесть в карету и, вскочив на козлы, весело помчал карету к морю.
Когда карета достигла прибрежья, бальзамический морской воздух благотворно подействовал на все общество, утомленное столькими неожиданностями. Особенно сильно вид моря подействовал на Джулию – дочь страны, справедливо прозванной «царицею морей». Она, как и все, выросшие на морском берегу, была его восторженной поклонницей. Если человек растет на берегу моря, он в него влюбляется. Теряя море, он не умеет ничем утешиться; возвращаясь к нему, он встречает его, как любимого человека…
Понятен, поэтому, тот восторг, который ощутили десять тысяч греков Ксенофонта, после своих утомительных и печальных десятилетних странствований в Персии. Единодушный крик их, при виде моря, и единодушная мысль встретить «Амфитриту-освободительницу» – понятно, не нуждается ни в каких объяснениях.
XXV. Яхта
«Здравствуй, красивая Наяда, любующаяся своим отражением в струях Средиземного моря! Возвращаюсь к тебе растроганною и исполненною в тебе любовью.
И как мне не любить тебя, как подругу? Не обязана ли я тебе столькими наслаждениями, множеством необыденных ощущений?
Да, я люблю тебя. Когда океан становится гладким, как зеркало, отражая с волшебною ясностью всякий предмет, находящийся на его поверхности, как хорошо смотреть на него в твоей палубы.
Как я люблю находиться на тебе, когда водное лоно покроется легкой зыбью и рябью, и как медленно расправляешь свои белые крылья-паруса и едешь, накренясь несколько в одну сторону, как бы играя с волнами и прислушиваясь к той песни, которую шепчет тебе, как бы ласкаясь, легкий вечерний ветер.
Но я влюбляюсь в тебя до безумия, когда, подобно дикому степному скакуну, взметав белую пену, мчишься ты в догонку за разгулявшимися волнами, догоняя их, рассекая, раздавливая, разгорячаясь и становясь только деятельнее от тех различных препятствий, какие своенравная буря противопоставляет твоему победному бегу.
Я люблю тебя, прекрасная Наяда, но стану любить еще больше, так-как я решила называть тебя вперед Клелией – в честь моей дорогой и милой подруги, в честь бесстрашного ребенка, который не задумался, при неизбежной почтя опасности, расстаться с жизнью, наброситься на сильного врага для того, чтобы избегнуть посрамления»…
Так приветствовала мысленно свою яхту Джулия, собираясь ее увидеть. Она решила называть ее уже не Наядою, а Клелиею, потому что с той минуты, когда она увидала энергическое нападение девушки на атамана, она всецело подчинилась её влиянию. Привязанность её с этой минуты получила необычайную прочность, так-как удовлетворяла инстинктивному влечению Джулии ко всему прекрасному и возвышенному. Привязанностям этого рода обыкновенно не могут мешать ни мелкие рассчеты, ни жалкая ревность, – они заключаются на всю жизнь. Связью их служит взаимное удивление и уважение.
Джулия нашла, что идти всем обществом в Порт д'Анцо было бы неблагоразумно, так-как этим можно было возбудить подозрение в папской полиции, сторожившей порт. Поэтому она предложила идти с собою только Манлио, в виде кучера, и Аврелии, в виде служанки. С Сильвией и Клелией она рассталась на некотором расстоянии, вблизи рощи, прилегавшей к морскому прибрежью, поручив их охрану Орацио.
Трудно было и найти лучшего для них охранителя. Римлянин Орацио сумел бы защитить их от целого войска, и с готовностью позволил бы, ради их, разрезать себя на куски.
Мыс д'Анцо к югу и Чивитта-Веккия на север составляют границы того негостеприимного и опасного прибрежья, которое носит название «римскаго». Мореплаватели зимою держатся обыкновенно в открытом море как можно дальше от этого прибрежья, для того, чтобы избегнуть ветров Либеции, дующих с необычайною силою, и способствующих нередко гибели и крушению судов.
Устья Тибра, находящиеся почти в самом центре прибрежья, судоходны только в той своей части, которая носит название фиуминченской косы, для судов, сидящих в воде не глубже четырех или пяти футов, да и то только в весеннюю пору, так-как летом вся эта местность подвержена злокачественнейшим лихорадкам, а зимою морские ветры грозят здесь постоянною опасностью.
На левом берегу Тибра, к мысу д'Анцо и горе Цирцелло – обитали некогда в древности воинственные вольски, покорить которых римлянам стоило не мало труда. От знаменитой их столицы, Ардеи, до сих пор сохраняются развалины, свидетельствующие о благоденствии этого древнего народа. Папское управление обратило и эту местность в пустыню.
Таким образом мыс д'Анцо с его возвышенностию образует порт, носящий это же имя. Порт этот годен только для самых мелких судов, и в нем-то красовалась, ожидая посещения свой повелительницы, красивая яхта Джулии.
Прибытие Джулии в порт, хотя не составило праздника папским властям, искренно ненавидящим англичан, как еретиков и либералов, за то было приветствовано, как праздник на самой яхте, с служащими которой Джулия умела всегда сохранять дружбу, за что они ее чуть не боготворили.
Моряк, человек подвергающийся целую свою жизнь постоянным опасностям, имеет множество прав на симпатию женщины, склонной, как я уже говорил, всегда тонко ценить отвагу и храбрость. С своей стороны грубые, но честные и великодушные моряки – всегда умеют ценить женщину. Мудрено ли же, что при своих достоинствах Джулия была идолом всего экипажа.
Осмотрев палубу и ответив дружески на искренния приветствия своих земляков, Джулия взошла в каюту и позвала туда капитана Томсона, чтобы сговориться, как взять остальных пассажиров с места, где они оставались, чтобы идти потом в какую-нибудь безопасную страну.
– Все устроим как нельзя лучше! отвечал смелый моряк, которого уже начинала томить скука бездействия, и который был очень рад сослужить любую службу изящной владетельнице яхты, хотя бы даже с опасностью собственной жизни.
Менее, чем через час после того, как на Клелию пришли пассажиры, яхта снялась с якоря и с развевавшямися парусами, при легком попутном ветре, вышла из порта в море.
XXVI. Буря
Напомним читателям, что действие нашего рассказа происходит во второй половине февраля, а этот месяц, – худший из всех для находящихся в море, особенно в Средиземном. «Февраль короток, да хуже турка», говорят здесь наивно моряки.
Капитан Томсон, торопясь скорее исполнить приказание Джулии, не обратил особенного внимания на барометр, а барометр падал страшно. В этих же местах усиленное падение барометра – верный признак наступления крепких ветров Либеции.
«Клелия», как мы уже сказали, вышла на всех парусах, и шла бойко, приведенная по ветру. Встречная старая зыбь встретила ее легкой, убаюкивающей качкой, «легкой и убаюкивающей», впрочем, только для капитана Томсона или для наблюдателей с прибрежья. Ни Манлио, ни Аврелия не находили ее такой, и брошенные игрою судьбы, против желания, в первый раз на произвол капризной стихии, они не находили в вачке особенного наслаждения и уже испытывали все неприятные симптомы морской болезни.
Пристать к месту, где оставались Орацио и две женщины, должно было ночью, так-как место это находилось мили за три на север от мыса Анцо. Джулия просила капитана непременно быть там около полуночи, и с Орацием было условлено, что он при приближении яхты разведет востер, для определения места своего нахождения. Казалось, все было обдумано отлично и неуспеха трудно было ожидать, так-как и Томсон и Орацио не принадлежали к людям, останавливающимся перед исполнением, взятого ими на себя, долга. Но… буря решила иначе.
Легкий восточный ветер, называемый местными жителями «греком», провожавший «Клелию» за две мили от порта, вдруг совершенно стих. На небе со стороны Либеции показались черные тучи, и, что всего было хуже, по этому направлению шло сильнейшее волнение. Наши путники стали желать ветра, которого сначала боялись, так-как при безветрии и при невозможности наставлять паруса, их тянуло волнением прямо на скалистые берега, где их ожидало неизбежное крушение.
Наступила ночь; опасный берег был совсем близко и Томсону, к его неудовольствию, пришлось объявить Джулии, что единственным средством к спасению было – встать на мертвый якорь.
Джулия, бесстрашная на море, как и на земле, стояла на палубе, закутавшись в большой платок. Она следила за всем: и за ходом облаков, и за направлением зыби, и за каждым движением своей бедной яхты, которая, подобно страдающему и утомленному человеку, заявляла особым скрипом свои усилия противостоять бешеному напору волн, толкавших ее на опасные береговые скалы.
Замечание капитана о необходимости встать на мертвый якорь было конечно справедливо, но едва-ли какое либо судно в этой местности могло бы удержаться на якоре при крепком ветре, дувшем прямо на берег. Делать было однако нечего – других средств спасения не оставалось, и Джулия должна была согласиться. Матросы уже стали тянуть якорную цепь, как вдруг Джулия громким криком остановила начатую работу.
Дело в том, что первым, легким порывом ветра от Либеции у ней унесло перчатку. Этого было достаточно, чтобы она увидела, что якорная стоянка будет невозможною. И в самом деле, паруса Клелии начали вздуваться, судно сделалось устойчивее, стало слушаться руля и несколько накренилось влево. Яхта, нос которой тянуло к северу, встав против зыби, принимала направление к югу – и во время! Судно дрейфовало к прибрежному мелководию и во время поворота набежавшею волною его едва не захлестнуло. Гибель – у римского прибрежья не заставляет себя долго ожидать!
Ураган быстро приближался. Мачты, паруса, снасти, цепи, все трещало, все грозило гибелью. Правый бок Клелии залило на несколько мгновений водой, но благодаря своим хорошим морским качествам, легкое судно, с быстротою дельфина, вынырнуло на поверхность пенившихся волн. Смелый Томсон энергически отдавал приказания и сильная, отрывистая речь его команды разносилась по палубе. Он приказал матросам находиться на готове у снастей, но без надобности не стягивать парусов.
Сделав оборот назад с тою отчетливостью, какою обыкновенно отличаются суда этого рода, яхта стала под ветер, качка стала тотчас же меньше, и так-как ветер крепчал, то Томсон приказал уменьшить паруса. Почти через полчаса все лишние паруса были убраны и все закреплено и приготовлено для борьбы с насилием моря.
Клелия пошла с левым ветром, а через час она уже штормовала с вполне развившимся ураганом.
– Что за ужасный порыв ветра, сказал Томсон Джулии, не хотевшей еще оставить палубу. – Юнгу Джона унесло в море!
– Бедный юноша! вздохнула Джулия.
– Однако, вам необходимо уйти в каюту, сказал капитан: – иначе я ни за что не отвечаю! вы видите, что мы сами приняли все предосторожности, чтобы нас не снесло в море…
В самом деле, готовилось как бы нечто страшное: все люки были забиты, люди находились у вант, и оба рулевых были привязаны веревкою в судну.
Джулия вынуждена была согласиться на просьбу Томсона, хотя она и не страшилась погибели; согласилась она только для того, чтобы успокоить своих друзей.
При входе в каюту она увидала сцену, при виде которой не могла не рассмеяться. Вероятно, тем же ударом волни, которым снесло в море Джона – Аврелию и Манлио сбросило с коек на пол, как раз на одно и то же место. Бедная женщина, первый раз в жизни испытывавшая бурю, потеряла всякое соображение, думала, что настал конец мира, и видя подле себя живое существо, как бы желая убедиться, что это действительно человек, схватилась за Манлио с тою силою, какую дает отчаяние. Напрасно Манлио кричал ей, что она его задушит, – она услыхала дружеский голос, но в приливе симпатии еще сильнее сжала своого невольного соседа. Бедный Манлио не знал, что делать; ему было трудно дышать, и хотя, привыкнув таскать целые глыбы мрамора, он мог бы при некотором усилии высвободиться от объятий своей соседки, но отчасти по добродушию, отчасти от истощения вследствие морской болезни – он ничего не предпринимал для своего освобождения.
В этом траги-комическом положении застала своих друзей Джулия… Это произвело в ней неудержимый взрыв смеха и веселости. С помощию прислуги она тотчас же кое-как высвободила Манлио, и старалась ободрить как его, так и Аврелию.
Клелия всю ночь боролась с бурею, и если она не погибла, то благодаря только своим отличным морским качествам, так же, как энергии Томсона и всего экипажа.
На заре буря стала как бы несколько стихать, и направление ветра позволило судну направиться для стоянки в порт Ферайо или Лонгоне, чтобы оправиться там от вынесенных им аварий, которые были весьма значительны. Шлюпки, привязанные к бокам судна, были разбиты в щепы, борты поломаны, и обе рубки снесены в море, от кормы до носа была одна гладкая поверхность.
При самом наступлении дня громадная волна, вкатившаяся на палубу, свалила фок-мачту, и таким образом доставила буре возможность довершать свободно свое дело разрушения.
Таким образом Томсон, решившись искать порта, был вынужден к этому крайнею необходимостью. Так же, как и большая часть его земляков, он на подобную меру решался не охотно, если оставалась еще хотя малейшая возможность держаться. Потакать безумным прихотям моря было не в его духе…
XXVII. Пустыня
Пора, однако же, нам вернуться от Клелии-Яхты к Клелии настоящей. Орацио, как это было условлено, ровно в полночь, зажег костер, и довольно долго с беспокойством всматривался в мрак моря, прислушиваясь, не приближается ли шлюпка, долженствовавшая принять наших путниц для доставления их на яхту. Но поднимавшийся ураган и сильное волнение моря убедили его очень скоро, что в такую ночь ожидать возможности попасть на яхту – было бы одним безумием.
Кроме того, не будучи моряком, Орацио еще до наступления теплоты видел по эволюциям яхты, с которой он не спускал, пока было можно, глаз, что она, по-видимому, вовсе не рассчитывала идти в прибрежью, и с усилением урагана он стал внутренно опасаться, чтобы судно не погибло.
Поэтому он решился прежде всего сыскать какой-нибудь приют на ночь для порученных его охране женщин, что скоро и отыскал в развалинах старой башни[22]. Потом он стал ходить вдоль прибрежья, с целью подать помощь, если это понадобится, кому либо из подвергнувшихся крушению. С трудом протирая глаза, которые залепляли ему брызги с моря и крупные капли дождя, мочившего его без милосердия, он заметил, что как будто на белом гребне одной из поднявшихся волн лежало что-то черное. Это заставило Орацио подойти поближе к морю, и вскоре он разглядел почти у берега человека, лежавшего почти без движения.
Это был бедный Джон, который боролся со смертью после продолжительной и тяжкой борьбы с волнами. Орацио приблизился к нему, насколько мог, и вынес его на себе на берег, а потом отнес и в башню, где Клелия и Сильвия хлопотали о поддержке огня, который в подобную ночь бывает обыкновенно так дорог людям.
Джону было не более одиннадцати или двенадцати лет, но он был хорошо сложен и силен, как большая часть английских детей-моряков. Наши женщины приняли его с распростертыми объятиями, и ему тотчас же подали всевозможную помощь: раздели, высушили, одели в сухое платье. Не доставало только грогу, но и этой беде помог Орацио: при нем оказалась фляга орвиетского вина, купленного им на дорогу дамам. Джон выпил вина, и часа через два, в сухом платье, перед огнем и в таком приятном обществе, совершенно забыл и яхту, и бурю, и целый свет, и, опершись головой о скалу, захрапел так, как будто покоился где-нибудь у себя дома, на мягком пуховике.
Орацио, несколько передохнув, снова отправился на поиски на прибрежье, со страхом и надеждою встретить какого-нибудь несчастного и еще кому-нибудь принести помощь. Но так-как после продолжительных поисков он ничего не нашел, то вернулся, почувствовав также необходимость обсушиться у огня.
Клелия, утомленная происшествиями дня, спала глубоким сном, положив голову свою на колена матери. Молодость и утомление убаюкали ее сразу.
Но Сильвия не спала, а только дремала. Множество впечатлений, испытанных ею за эти дни, произвели у ней бессонницу. Кроме того, она опасалась заснуть, и даже почти боялась пошевельнуться, чтобы не разбудить своей дорогой Клелии. Вместе с тем, беспокойство о судьбе Манлио в такую непогоду не оставляло ее. «Что-то с ним, бедным, теперь делается?» думала она, и для очищения совести прибавляла: «а также и с Аврелией?»…
Орацио и не думал даже о сне; он знал, что папская стража порта д'Анцо слишком близка, чтобы можно было думать об отдыхе. Он сидел на камне перед огнем, и время от времени подкидывал в пламя сухие сучья.
Он был без плаща, так-как отдал его женщинам вместо покрывала. За поясом его висели патронташ, два револьвера и кинжал с широким лезвием, могший служить в то же время охотничьим ножом.
Садясь к огню, чтобы обсушить свое промокшее платье, он положил осторожно возле себя свой карабин, предварительно тщательно его осмотрев.
Одет он был в черное бархатное платье, с серебряными пуговицами; на ногах его были кожанные штиблеты, застегивавшиеся до колен. На шее его был широко повязан красный, шелковый платок, с большим узлом на груди. Черная шляпа, почти калабрийской формы, надвинутая несколько на правую сторону, покрывала его голову, напоминавшую Марса.
Когда время от времени разгоравшееся пламя освещало его мужественное лицо, любой художник мог бы залюбоваться выражением этого лица, на котором можно было прочесть спокойное сознание силы и храбрость, доходящую до героизма.
Сама Сильвия не раз во время своей дремоты невольно любовалась его фигурой, и в эти минуты едва-ли не забывала даже о Манлио.
Пусть современные гермафродиты, преклоняющиеся перед идолом папской власти, или умиляющиеся перед чужеземцем-узурпатором, удивляются, что я с такою любовью останавливаюсь на описании разбойника, голова которого оценена папской полицией. Мне до них нет никакого дела. Если желать искренно единства Италии, быть всегда наготове на борьбу с неправдой и с чужеземцами, значит, быть разбойником, то мне все равно, я и в разбойнике признаю героя и такого человека, какого ищу. Вот итальянец, скажу я: – каким он должен быть, каким представляется мне в мечтах моих, и каким наверно будет, когда Италии удастся вырваться из когтей и влияния последователей Лойоллы!
– Сеньора! сказал Орацио, обращаясь к Сильвии, таким сладким и почтительным голосом, что заставил ее вздрогнуть: – утро не должно нас застать здесь, так-как мы здесь не вне опасности. Едва рассветет и в лесу можно будет распознавать тропинки, мы должны отсюда удалиться, чтобы не попасть в руки наших врагов.
– Но, ведь таким образом мы разойдемся еще более с Манлио, Аврелией и Джулией, ответила она грустно.
– Что же делать? отвечал Орацио: – об них нам, по крайней мере, нет оснований опасаться; они очевидно в открытом море, и будем надеяться, не пострадали от бури. Во всяком случае, прежде чем удалиться в лес, мы осмотрим на всякий случай все прибрежье, хотя, конечно, дай Бог, чтобы мы там с ними не встретились.
– Боже мой! неужели же их выкинуло на берег ураганом! вскричала Сильвия, обращая умоляющий взор к небу.
Орацио ничего не отвечал; он знал, что в такую страшную бурю все могло случиться. При первом блеске рассвета, когда он нашел, что было уже настолько светло, что женщины будут в состоянии отличать дорогу, он поднялся, взял карабин и сказал Сильвии: «теперь пора!»
Сильвия разбудила осторожно Клелию, Орацио разбудил Джона, и через несколько минут все они с Орацио впереди вышли из пещеры и направились к северу по краю болота, параллельно с берегом.
Буря значительно стихла, но не настолько, чтобы не затруднять пути нашим друзьям. Дождь почти перестал, но брызги от разбивавшихся волн летели им прямо в лицо, что причиняло им не мало беспокойства. Прежде поворота в лес надобно было осмотреть прибрежье, и вот Орацио, взявшись собою Джона, вскарабкался на довольно высокий песчаный холм и вперился своим быстрым взором в даль, достаточно уже освещенную восходившим солнцем. К счастию, нигде по всему пустынному и печальному берегу, кроме пенившихся валов, не было заметно никаких следов крушения. Тогда Орацио вернулся к ожидавшим его за холмом женщинам и сказал: «Наши друзья вне опасности, теперь и нам следует озаботиться о своем спасении», и с этими словами повернул направо, по хорошо знакомой ему тропинке, ведшей в лесную чащу, куда все общество и последовало за ним.
XXVIII. Отступление
После всего происшедшего в термах Каракаллы, положение Аттилио и его друзей стало крайне опасным. Предатель заплатил жизнью за свою вину; тоже последовало и с некоторыми ищейками полиции, но дело в том, что полиция все-таки напала на след заговора, и конечно, знала или догадывалась об именах главных его руководителей. Если бы заговорщики других частей Италии были наготове, как римляне, то в эту самую ночь, 15 февраля, все дело могло быть окончено, как могло бы окончиться и в каждый последующий день. Но большинство этих заговорщиков принадлежало к умеренным; умеренные же, как всегда своею нерешительностью и колебаниями – и тут только мешали делу, сами не отваживаясь ни на что определенное и ожидая, что освобождение родины упадет к ним с неба – подобно манне, или будет любезно предложено им иноземцами. Что им было за дело до национального достоинства? до того, что Италия подавала повод в насмешкам над нею всем остальным народам Европы. Что её провинции за деньги покупались и продавались? Большинство итальянцев не были даже способны поступиться для общего блага и своего национального единства теми жалкими выгодами, которые доставляла им служба и карьера. Они цепко держались за ту подачку, какой им удалось добиться – после революции. И таким образом Италия, в течение стольких веков разделенная, поруганная, проданная, опозоренная, униженная, развращенная своими патерами, даже и после своего начавшагося возрождения снова принесена была в жертву – сатанинскому честолюбию своего верховного жреца и ей не оставалось ничего более, как со смирением снова приступить к принятию древнего обычая – церемониального цалования туфли.
Такие условия представлял Рим в первые месяцы 1867 года, когда чуждые и наши наемщики упрочились в вечном городе, и Италия, в угоду ханжившему хищнику, должна была торжественно отречься от обладания Римом и отказаться от всякой славы в будущем. Вместо того, чтобы иметь возможность возродиться и быть славною и счастливою, украситься ореолом свободы и независимости, для которых её верные сыны принесли уже столько жертв, ей пришлось бесстыдно опуститься снова в грязь и подчиниться, Бог знает на сколько еще времени, с смирением развратителям народа и гонителям и ненавистникам всего человечества!
Но вернемся к нашему рассказу.
В один из вечеров первых чисел марта, в небольшой комнате дома Манлио, выходившей на двор, собрались Аттилио, Муцио и Сильвио, для совещания о дальнейшем направлении своей деятельности. Они после 15-го февраля оставались в Риме в надежде, не улыбнется ли судьба их делу… Но дело Италии было так дурно, что, несмотря на весь великодушный героизм наших молодых людей и всю отвагу трехсот их товарищей, из лабиринта обстоятельств, для блага Рима, было невозможно найти никакого выхода.
– В наши дни, произнес Аттилио: – жертвовать жизнью за отечество не считается уже более заслугой. В ходу другие взгляды, и итальянцы прославляют бездействие, лишь бы не помешать черепашьему ходу машины порядка, пришедшагося так по душе людям мелкой посредственности, хвалящихся своею умеренностью. Наши друзья из других провинций, кажется, окончательно побратались с врагами и грабителями Италии… Но мы!.. что остается нам делать?… Можем ли мы войти в сделки и сношения с негодяями, готовыми сто раз продать наше отечество чужеземцам?… Можем ли мы жить спокойно рядом с этими развратителями народа, ругающимися над нашими отцами, делающими наших сестер жертвами своего сластолюбия, обратившими весь Рим в зловонную помойную яму, в клоаку своих преступлений?
Аттилио, разгорячаясь, все более и более возвышал голос, что заставило Сильвио, более его осторожного, остановить его.
– Говори тише, благородный брат; ты никак не хочешь понять, до какой степени нас преследуют. Неужели ты думаешь, что даже теперь не подслушивает нас какой-нибудь негодяй, притаившись где-нибудь около дома? Нам говорят не о чем. Все мы – все это хорошо знаем, и дело совсем не в том. Дело в том только, что в Риме нам дольше оставаться нельзя, да и незачем. Оставим здесь Реголо, которому поручим наши дела, а сами уедем на время в Кампанью. Там мы тоже найдем друзей, хорошие люди водятся негде. Будем ждать, пока Италия не отрезвится, не устанет услаждать своих взоров либеральной арлекинадой, которою ей отводят глаза, не убедится, что ее продают на каждом шагу, и что она доверчиво отдалась сама в руки деспотизма и предательства!




