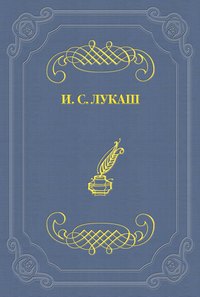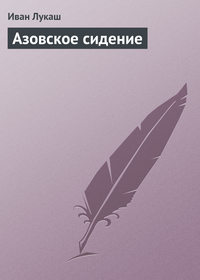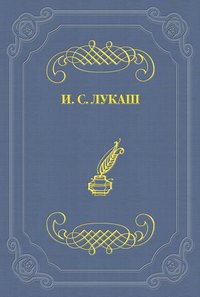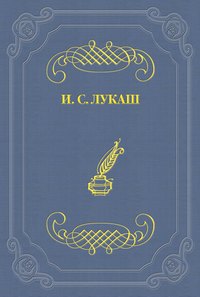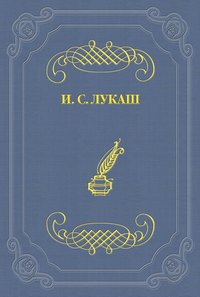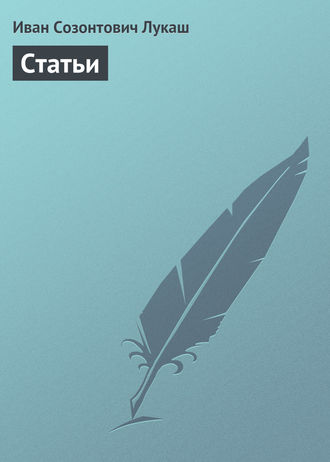 полная версия
полная версияСтатьи
Взрывают и пруд, ископанный руками Сергия Радонежского. Есть там, сажень на сто от первообительского места, глубокий и чистый пруд. По древним межевым книгам, он именуется Сергеевым. По преданию, его ископал Сергий, когда гостил в обители у Феодора.
А другой монастырский пруд, Медвежье озерко, или Лисьин пруд, – ведь это милый пруд «Бедной Лизы» Карамзина. Взрывают и его.
Взрывают Россию – в пепел, бесследно, дотла. Онемевает язык, нет ни молитвы, ни вопля, ни слез.
Взрывают Симонов монастырь.
Горнист
Светло – холодный осенний день. Богатая улица. Особняки в темном плюще залиты прохладным солнцем. На аллее, по дорожке для верховых лошадей, мелькает под листвою всадник в желтых крагах…
На улице Фазандри я нашел дом № 81. На чугунной решетке ворот – овальная эмалированная дощечка с синими буквами. Доска знакомая – прежняя, с отбитыми краями и побледневшими буквами: «Союз галлиполийцев во Франции».
Я вошел под высокую арку ворот. В сад двумя маршами, в виде подковы, спускается белая лестница особняка. Огромные окна залиты солнцем. В этом особняке и разместилось новое галлиполийское собрание.
Широкая лестница. Светлый и большой вестибюль, где парадно блистают шашки паркета. Еще пролет – и я во втором этаже. На площадке лестницы светятся матово-желтые стекла витражей; среди тяжелых гроздей какая-то латинская надпись и год: 1672.
В таких богатых и парадных домах мы уже отвыкли бывать. В таких залах и арках есть что-то петербургское, времен империи, и кажется, что за огромными окнами вот-вот увидишь – невероятное, невозможное – гранит Английской набережной и Неву. А, может быть, может быть… Если быть России, ведь быть и галлиполийскому собранию, хотя бы в том- же Петербурге.
Генерал Репьев показывает мне комнаты, лекционные, библиотеку, кабинеты. Все еще устраивается.
В одной из комнат стоит классная доска с губкой. Тут же идут, вероятно, лекции. На стенах пустых покоев – портреты: закинутая голова с непокорным вихром генерала Лавра Корнилова, его пристально прищуренные глаза, другие белые генералы. На стеклах – клинья солнца. Белым генералам как будто холодно в еще необжитых покоях, и они зябнут на стенах.
Я иду по светлым и пустым комнатам, и мне вспоминаются почему-то зеленоватые палатки с холщовыми окнами, прохладные землянки с глинистым полом, легкие церковные паникадила из фанеры консервных ящиков, пехотные мешки, зеленоватые, прожженные кое-где шинели, английские измятые фуражки добровольцев, холщовые носилки в бурой крови и холщовая церковь среди белых палаток, которые легли в долине, среди сиреневых гор, чуткой стаей белых птиц…
Как странно подумать, что все это – и «танки» на ногах, облепленные глиной, и галлиполийские белые гимнастерки, и мы сами тогдашние – все прошлое, все уже – наша история.
Сохранились ли ее следы? Генерал Репьев говорит мне, что вещи и реликвии для галлиполийского музея собираются и музей будет создан.
Все это хорошо – и грустно…
Там будет, конечно, шашка генерала Кутепова, его марковская или корниловская фуражка, его походная шинель. Мало кто знает, что генерал Кутепов носил на груди тяжелый крест с навершия знамени Преображенского полка. Вещи Кутепова будут священной сенью галлиполийского дома.
Там будут и вещи генерала Врангеля, записная ли его книжка, или его белый Георгиевский крест за взятие батареи в конном строю, или его знаменитая черкеска…
Помните, как Врангель, высокий, гибкий, в черкеске, встречал проходящие войска и внезапно, весь встрепенувшись, точно готовый оторваться от земли, приветствовал их грудным клекотом:
– Орлы…
Неужели все прошлое, неужели?
Когда я был в новом галлиполийском собрании, в большой нижней зале открывался съезд русской молодежи из провинции. Все полно, парадно, национальные значки. Слышны речи. Покойные, а может быть, усталые голоса.
Может быть… Ведь сколько лет те же слова, те же простые слова о борьбе, освобождении России, отечестве, которое выше и краше всего на свете. Не свершающиеся слова.
Я смотрю на лица, на глаза стоящих рядом со мной и слушающих речи в зале.
Вот как постарели лица, и гусиные лапки у глаз, как измотались все, и как слова – точно бы стерлись…
Но глаза те же. Я видел их в Галлиполи, эти прозрачные сбоку и чуть выпуклые русские глаза, – честные простые глаза русских солдат, как будто ожидающие чего-то.
Из окна собрания видна в саду крыша новой галлиполийской церкви. Крыша еще не вся положена, сквозь доски видны сверху молящиеся и красноватые огни галлиполийского алтаря.
Доносится, как глухие вздохи, церковное пение.
Помните, как в Галлиполи под нашим двуглавым орлом таинственно и тихо трепетал вечером русский флаг и доносился издалека гул солдатской молитвы «Отче наш»?..
Далеко, далеко, в долине Роз и Смерти, где прилегли чуткие стаи белых палаток, играет галлиполийский горнист вечерний сигнал…
Я стоял у окна галлиполийского собрания в Париже, и мне казалось, что звучит далеко тот же галлиполийский сигнал.
Годы, уже целые годы, не умолкая, зовет, зовет Россию галлиполийский горнист.
Сегодня – вечер галлиполийцев в их новом собрании. Каждый русский, без сомнения, будет сегодня у них.
Черная магия
Письма из Африки
Русский доктор с далекого поста за Дакаром уже второй год присылает мне редкие письма. Иногда это отрывистые короткие заметки, иногда размышления.
Тяжкая и душная Африка, страна черной магии, окружила доктора чудовищными впечатлениями, а среди них есть и такие, о которых мне не доводилось слышать раньше. И кажется мне иногда, что Африка как будто движется в таких кратких заметках русского врача.
«Вот и Дакар, столица западной Африки. Дворец губернатора из белого камня, железобетонная почта, крытый рынок, школа для черных акушерок, расшатанные такси и черные полицейские».
«Жирные негритянки в голубых кофтах с пестрыми платками па головах лениво ползут по самому солнцепеку. В ушных раковинах – золотые колечки, во рту – палочки жасмина – жуют, жуют. Они охмелели в пекле. Бесстыдно-бессмысленны все ленивые движения черных тел. И бесстыдно-бессмысленно-огромны – в ладонь – африканские колокольчики, то красные, то желтые, как куски мяса».
«Большая и отвратительная ящерица, серо-стальная, как раскаленная сталь, поводит на меня плоской головой из-под кряжистого дупла баобаба. Среди бешеных папоротников мне кажется, что я иду в допотопном лесу, по допотопным болотам, когда еще не было на земле человека».
«А в Дакаре, африканской столице, вечером с пыльных пальм, окаймляющих улицы, срываются с визгом жирные вампиры».
«На полоске земли между лагуной и океаном, в Бассаме, на негритянском базаре, нестерпима тошная вонь прогорклого кокосового масла, плесени гниющей рыбы и «фуфу» – таинственной приправы к кушаньям, которой пахнут все негры. Нестерпим острый запах их атласной кожи, прокаленной солнцем и такой приятной на ощупь. Впрочем, негры говорят, что от нас воняет еше отвратительнее. «Белые пахнут трупом», – говорят негры, а людоеды, которые водятся в дебрях, очень не одобряют, как слышно, мяса белых: «оно противное и соленое».
«Когда мы плыли тихой лагуной, за нами резали воду как бы два ноздреватых кокосовых ореха – ноздри каймана. Лодочник-негр сказал, что кайман – бог лагуны».
«У меня жила обезьянка. Я ее очень полюбил. У нее розовые пяточки, как у годовалого младенца, и прелестные ручки, сухие горсточки с миндалевидными синими коготками.
Андрюшка любил только играть. Вот уж для кого, действительно, «что наша жизнь, – игра». И когда разыграется, в доме – все к черту: занавески, банки со стола, лампа. Разгромит и удерет на крышу. «Я тебя не пушу больше домой», – говорил я и запирал дверь. Через час или полтора Андрюшка сухой горсточкой стучал в дверь и звал меня: «Ку-ку».
Когда он был весел, это были целые фразы, милая трескотня, и все «ку-ку» на разные лады. Вскоре я очень хорошо стал понимать его.
Перед сном обычно мы с ним танцевали. Я пел «ладушки» и хлопал в ладоши. Он попадал в такт, преуморительно дрыгал ножкой и поднимал к голове прелестную лапку. Больше всего он любил засыпать у меня за пазухой. Возится там, шершавенький, теплый, и этак тихо, счастливо: «Ку-ку, ку-ку». Я мыл его одеколоном – воды Андрюше не полагается – и мыл его, и расчесывал желтоватую щетинку на голове «на косой ряд»… Это длинная история рассказывать, как он в бешенстве игры схватил у меня со стола склянку и глотнул. А в склянке – яд…
Всю ночь я его спасал и, отчаявшись, носил в одеяле. Его веки стали как из тончайшей белой бумаги, а ноготки бледно-голубыми. Он уже не мог говорить, а шептал мне: «Ку-ку… ку-ку». На рассвете я с ним распрощался, или. вернее, он обнял мне шею слабеющей лапкой. Вот и все о моем Андрюше Ку-ку».
«Меня навестил глава племени. С ног до головы он увешан ладанками от сглаза и болезней. Его шествие по деревне сопровождалось барабанным боем «бум-бум». На мой слух, это дикий шум, но черный бой уверил меня, что «барабан говорит очень хорошо». Эти «бум-бум» – не только слова, но целые фразы, барабанный, так сказать, телеграф, извещающий каждый раз особыми звуками о приезде ли начальства, о тех или иных событиях».
«Я попросил у главы племени собаку, чтобы охранять дом от воров. Черный королек ответил: «Лучше возьми жену или две. Жену мне легче найти, чем собаку».
Одно я понял здесь, что коммунистический идеал – идеал дикарского общества. Здесь, во всей этой дичи, когда я вспоминаю Европу и когда вспоминаю все, что уже свершилось в России, я начинаю думать, что белый человеческий мир, если так можно сказать, негритянится, а Россия уже онегритянилась на наших глазах. Духовный уровень белого человека ужасающе понизился, опростился. Кажется, еще немного – и белое человечество дойдет до уровня дикаря: «ни одного высшего чувства и все дозволено». Бесстыдство духа ради бесстыдства тела – не в этом ли дикарская основа всего коммунизма».
«Когда ночью при лампе я перечитываю Пушкина, а громадные бабочки-ночницы неистовствуют на белом потолке, мне кажется, что я начинаю понимать самое зловещее, что мне повиделось в черной Африке: в скуластом лице негра с приплюснутым носом отдаленно и страшно видится мне иногда иное лицо, белое лицо с прижмуренными глазами – «азиатская харя». И тогда с ужасом я начинаю понимать, почему Пушкин назвал нас негритянской кличкой – «блондосы»…
Там, где была Россия, теперь страна белых негров, блондосов. Поймите же, что «одна шестая часть света» погрузилась на глазах всего остального белого человечества в дикий сон, завороженная той же черной магией, под которой уже века спит гнетущим сном Африка. И я думаю, что страшнее всех пророчеств о русской судьбе – всех Достоевских – вот это глухое пророчество Пушкина: «Эх вы, блондосы, блондосы».
Если бы в Европе поняли, что африканские дикари совершенно с такой же дикой простотой, как и дикари коммунизма, только без болтовни Маркса и прочих, разрешают все вопросы о «капитале», о «семье», о «религии»: если бы поняли в Европе, что в своей основе все самые блестящие идеи социализма также, как и практика коммунизма, практика всеобщего кровавого переворота, – в конце концов только возвращение вспять, к дикарю. Белый мир веками оборонялся от черной магии Африки. Но теперь, кажется мне, весь белый мир под ее дыханием. Идет повсюду и все сильнее повальное обессмысливание белой жизни и человеческих белых чувств – всего духа, традиций и иерархий белой Европы, ее Бога и ее тела. В повальном коммунистическом побоище и будет, может быть, истреблено белое человечество, европейский мир, и тогда на смену ему придут блондосы, падшая раса белых дикарей, и белый мир заснет тем же ужасным сном, которым спит Африка, завороженная черной магией».
«И вот выдумали в онегритянившейся Москве «октябрины». А знаете ли вы, что здесь, у негров, «октябрят» уже испокон веков. И чем хуже московских те клички, которые здесь дают при рождении, хотя бы: Осленок, Курица, Дерево, Туча, Которая Меня Больше Не Давит, или Дочь Шарлатана?»
На этом и обрываются письма доктора с далекого поста за Дакаром. А новых я от него не получал давно.
«Вопль» Бердяева
Несколько дней тому назад в «Последних новостях» напечатана статья Николая Бердяева «Вопль русской церкви».
Не для полемики отвечаем мы. В этом трагическом вопросе совести каждого из нас и совести всех нас самое слово «газетная полемика» есть уже поношение церкви. Несомненно для всякого верующего, что превращение внутреннего вопроса христианской совести в тему для словесной игры политических, по существу, внецерковных, а часто и внехристианских умов на страницах газет, есть поношение, есть оскорбляющая толпа на Голгофе…
По всей совести вдумаемся в положения Николая Бердяева.
«Многими в эмиграции, – говорит он, – послание митрополита Сергия и предъявленное им требование митрополиту Евлогию было воспринято как окрик, как «приказание», как насилие над совестью. И вот прежде всего хочется сказать, что внутренний смысл этого послания совсем иной. Понять это до конца могут лишь люди, которые прожили годы в советской России и потому способны воспринимать события, там происходящие, изнутри, а не извне».
Вовсе неверно и полно мелкой гордыни не доказанное ничем утверждение Бердяева, что внутренний смысл послания митрополита Сергия «понять до конца могут только люди, которые прожили годы в советской России и потому способны воспринимать события, там происходящие, изнутри, а не извне».
Мы все, в эмиграции сущие (не один Бердяев!), прожили годы в советской России, годы страха и крови, годы борьбы и для многих годы мученичества, а потому слова Бердяева полны для нас не только самомнением, а и подменой правды: церковные события, там происходящие, и здесь и там воистину могут восприниматься только изнутри, по голосу христианской совести, но для того, чтобы воспринять их совестью человеческой изнутри, можно и быть, и вовсе не быть в советской России. Церковь и Голгофа ее и для нас, эмигрантов, прежде всего есть вопрос внутренний, а не вопрос внешних событий, на которые ссылается Бердяев. Поэтому его поучения к нам – просто словоизвержение в пустоту: то, что он считает недопонятым эмиграцией, давно понято ею. Нам ли не понимать двойного мученичества Русской Церкви: мученичества Вениамина и мученичества Тихона?
Бердяев говорит: «Мы здесь, за границей, на свободе, можем говорить, что хотим, языком чистым и красивым, можем представляться себе людьми неспособными ни на какие компромиссы… (курсив мой. – И. Л.). Но красота и чистота нашего языка, непримиримость наших выступлений не имеют большого нравственного веса. Совсем иной вес все имеет там, в России».
Так. Но почему эта злобность к эмиграции? Не виновата она, что историческая судьба сохранила ее, как отстой нации в условиях человеческой свободы. Сам же Бердяев говорит ниже: «Свобода слова есть великое благо. Главное оправдание, эмиграции в том, что в ней, может быть, очаг свободной мысли» (курсив мой. – И. Л.).
Почему же еще раз с такой бездоказанностью брошено Н. Бердяевым в лицо ей, русской эмиграции, что она только представляется себе неспособной ни на какие компромиссы? Разве в эмиграции все только «представляются»? Значит, и князь Павел Долгоруков, и все, расстрелянные с ним, из которых многие ведь из эмигрантского Парижа, и Борис Коверда, и Мария Захарченко, и галлиполийские солдаты, в шахтах и на заводах только «представлялись» и «представляются»?
Бердяев как будто коснулся понимания духовной основы эмиграции, но не договорил, вернее, тут же исказил сказанное. Да, эмиграция – очаг свободной мысли – не только остатки российской жизни и российской свободы: эмиграция, прежде всего, свободная национальная совесть… Пусть мы все – люди, все в борении страха смертного и в бездне греха, и пусть каждый из нас способен на «компромиссы». Но дело-то не в том, чья сдастся совесть, а в том, кто останется непобежденным: именно таков исторический и духовный смысл эмиграции.
Бердяев рисует себе эмиграцию в положении какой-то жалкой непримиримости, в каком-то тупом «гоноре до первого искушения». Искушений, соблазнов было много, и сам Бердяев теперь разве не искушает и не соблазняет? – но эмиграция, тем не менее, еще жива духовно. Бердяев сознательно забыл, что мы все, и даже самые слабодушные, обречены мученичеству только потому, что по велению совести своей «компромиссов» этих не принимаем. Пребывая в эмиграции, мы все тем самым обрекаем себя на мученичество в советской России. Только потому хотя бы, что остаемся в эмиграции. Только за нашу свободную мысль, за наше свободное слово, за свободную совесть нашу все мы в советской России – либо смертники, либо кандидаты в смертники. Таким положением русские эмигранты сопричислены к мученикам России. По совести, по всему выстраданному в России, пусть даже способные на «компромиссы», мы тем не менее – с мучениками России, а не против мучеников ее.
В этом-то сознании и лежит основа нашей «непримиримости», которая так раздражает Бердяева: нравственное право на нее мы все же имеем.
В России о свободе духа и совести говорят расстрелянные. Здесь, в изгнании, о том же говорим мы – еще живые. И с точки зрения свободы духа и свободы совести должен нами решаться церковный вопрос.
Но вот что говорит об этом во второй, самой важной, части статьи Бердяев:
«Драгоценным даром свободы слова эмигрантские круги очень плохо воспользовались, они создали и на свободе застенок, удушающий всякую свободу мысли» (подчеркнуто мной. – И. Л.).
Хочется, прежде всего, спросить, кто, где и когда удушал в эмиграции свободу мысли Н. Бердяева, ставшего здесь чуть ли не президентом целой Религиозно-философской академии? или – кто, где и когда в эмиграции полагал церковь зарубежную «лучше и чище» благодатного мученического света церкви тихоновской? Но если эмиграция – в этом Бердяев прав – понятие не церковное, то вместе с тем оно – не только понятие политическое и бытовое.
Сам же Бердяев говорит, что главное оправдание эмиграции в том, что в ней очаг свободной мысли, – тем самым он признает, что понятие эмиграции есть понятие духовное, есть категория не политики, не быта, а категория духа и совести. Тут не только одни преходящие «внешние условия», а и условия внутренние, непреходимые, вечные.
Странно также заявление Н. Бердяева, так сказать, «профессора от церковности», что «эмигрантской церкви быть не может».
Да, наша Мать-церковь – в России, но почему Бердяев полагает, что она только в митрополичьих покоях Сергия, по словам самого Бердяева, лишь «фактически возглавляющего русскую церковь»? Церковь не только факт, а и благодать. И разве мы смеем знать, на ком почиет благодать патриаршая: на Сергии ли, или на темничном заключеннике Петре?
У Бердяева – во всем одно покорство фактам, событиям, внешности, во всем внешняя оценка того, что в человеке есть внутреннее его: Мать-церковь только в фактическом возглавителе ее? А разве иерархи ее, в цепях и в заточении, – уже и не церковь? Бердяев ответа не дает, Бердяев торопится объявить «фактического возглавителя» всей Церкви православной.
И вот что утверждает Бердяев о послании митрополита Сергия:
«В кровавых муках освобождается она от власти кесаря. Мы живем в эпоху углубленного церковного сознания, очищения церкви от искажавших ее исторических наслоений. Церковь возвышается над царством кесаря, в какой бы форме оно ни являлось, и она может существовать при какой угодно природно-исторической среде. Та природно-историческая среда, с которой встретилась церковь в Римской империи или в средневековом феодальном обществе нового времени сама по себе не более христианская, чем рабоче-крестьянское государство, чем коммунистическое общество».
«Церковь не может иметь никакого политического идеала и не может быть связана ни с какой политической партией. Положительный идеал Христовой Церкви есть Царство Божие, т. е. личное, социальное и космическое преображение, обожение, новое небо и новая земля. Все земные политические формы для церкви преходящие».
Вдумайтесь в эти цитаты: они ужасны но своему смыслу!
Дьявол-искуситель всегда так начинает музыку свою, с «освобождения»: учинить пустоту, тьму небытия, порвать живоносную связь с прошлым, выбросить из исторического лона – это значит убить. Дьявол и есть «человекоубийца от начала».
Освободить церковь от ее истории, «очистить» – по выражению Н. Бердяева -«церковь от искажавших ее исторических наслоений» – это не значит ли убить церковь?
Словами дьявола, словами «освобождения» и «очищения» начинали и «живоцерковники», поучавшие патриарха Тихона. На тех же словах построен весь красный террор, «освободивший» и очистивший всю Россию, всю ее душу выплеснувший в расстрелах.
Запев сатаны… Надо еще доказательно опровергнуть слова Завета, что Христос – «Царь царствующих и Господь господствующих», а потом уже доказывать, что разрыв церкви с ее историческим лоном есть «великое благо» и подчинение церкви советской власти, власти антихристовой, есть «освобождение от власти царства кесаря».
Какой зловещий бред, какая страшная подмена… На месте пусте ставит Бердяев церковь, свою, бердяевскую, а не русскую православную церковь, обрубая все связи с прошлым, значит, и с будущим.
И сдачу Церкви Христовой во власть антихристу полагает «благом великим». И находит для убийства церкви те же слова, какие были на языке первых глашатаев коммунистического истребления России, – «освободить, углубить, очистить» и т. д.
Конечно, мы все знаем, что политические формы для церкви преходящи. Вся земля и все земное для церкви – плен тленного. Но вместе с тем мы знаем, что церковь – Божий меч в мире.
И знаем мы также, что не ведомы церкви ни «капиталистическое», ни «социалистическое» общество Н. Бердяева и К. Маркса – эта волчья терминология вечного братоубийственного истребления.
Одно общество знает церковь: братство во Христе, Вечерю Любви.
И весь вопрос именно в том – вдвинут ли теперь православную русскую церковь в пыточные тиски «классовой борьбы», превратят ли ее в проповедницу истребления всех, кто не с этим «классом» убийц-коммунистов, поставят ли ее «одной из сторон в столкновении», или она сохранит себя над всеми сторонами.
И снова тут у Н. Бердяева подмена истины: для него все исторические общества одинаково не с церковью. Докажите! И уж, во всяком случае, без доказательств ясно, что в истории человечества не было ни одного христианского и даже языческого общества, которое бы так прямо и так открыто боролось против Христа и Церкви Его, как «коммунистическое общество».
Отделять Церковь Христа от общества, превращать ее в холодно-теплую дисциплину для религиозно-философских размышлений – это и есть то потемненное, безлюбовное, изблеванное христианство, о котором сказано: «И Ангелу Лаодикийской Церкви напиши: «О, если бы ты был холоден или горяч, но ты тепел, и Я изблюю тебя из уст моих».
Сам Н. Бердяев признает, что коммунистическая власть – «власть антихристова, дехристианизирующая русский народ». Он признает, что «коммунистическая власть совершала много преступлений – убивала, истязала людей, развращала души детей, отравляла опиумом безбожия народную душу». Но почему все это ставит Н. Бердяев в прошлое время? Все это творится и теперь, все это – в настоящем. И в том, что все это творится в настоящем, и заключается ответ нашей христианской совести на послание митрополита Сергия.
Каждый из нас дал бы подписку в лояльности советской власти, если бы она не творила того, что творит и будет творить до скончания своего, потому, что она – власть антихристианская.
И совершенно нелепо предположение Бердяева, что будто может существовать «большевистское, коммунистическое общество не безбожное и не бесчеловечное, не угашающее духа, не отравляющее людей злобой и ненавистью, не подвергающее гонению Церковь Христову», – нелепо уже потому, что сам же Бердяев признает коммунистическую идеологию идеологией антихриста и, значит, коммунистическое сообщество сообществом антихристовым, человекоубийственным.
И разве духовный отказ от этого сообщества есть, как пишет Бердяев, «правая» или «левая» политика? Разве это есть, как пишет Бердяев, «реставрация и восстановление монархии» или «восстановление капитализма», что человеческая и русская наша совесть не дозволяет нам переступить ров крови невинной, вырытой коммунистической властью, ров антихристова истребления, отделивший весь мир христианский и каждого, кто не утратил еще в совести своей образ Сына Божьего, от этой советской власти.
От нас требуют выдачи векселя дьяволу для работы его. Ведь несомненно, если советская власть – власть антихристова, весь ее «конкордат» с митрополитом Сергием – по существу, для нее только один из путей для удушения Церкви Христовой.