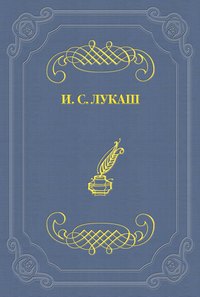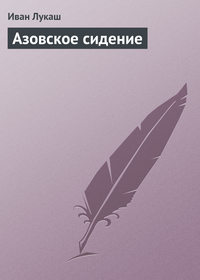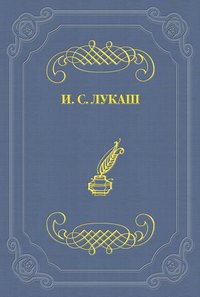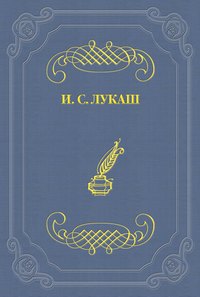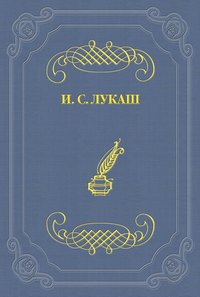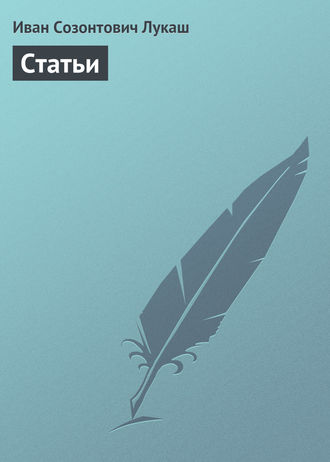 полная версия
полная версияСтатьи
Но вот Бердяев и после «подписки» допускает для церкви духовную борьбу – только «без вмешательства политики».
Разве, однако, наша духовная борьба – другой теперь почти нет – есть политика? К чему Бердяев сваливает всю эмиграцию в мелкие политические кормушки, загопчики «монархистов», «республиканцев» и т. д. Это – пена эмиграции, а не духовная ее сущность.
Но вот, что еще пишет об эмиграции Н. Бердяев, сказавший о ней вначале, что она – очаг свободной мысли:
«Эмигрантские церковные круги до сих пор мешали этому духовному выздоровлению русского народа, здоровому его развитию, пугая его призраками связи церкви с реставрацией, мешали жизни и делу церкви».
Как будто весь вопрос о сохранении церкви в России зависит только от того, чтобы эмиграция «не мешала» и дала бы эту бессовестную и лживую расписку лояльности к советской коммунистической власти. Как будто там прекратятся расстрелы и истребления, обезбоживание и дехристианизация, если эмигранты такую подписку дадут. Нет, все это только усилится, так как нельзя на лжи строить церкви. Такая подписка – ложь и бессовестность ради подчинения факту насилия. Мы не можем ее дать уже потому, что мы – свободны, что мы – «очаг свободной мысли» и потому, что такая наша ложь только усилит царство лжи в России. А дьявол, как хорошо знает Бердяев, – не только «человекоубийца от начала», но и «отец лжи».
Вместе с русской церковью правды и мученичества, о чем пишет сам же Бердяев, мы тоже ждем духовного покаяния и духовного преображения России. Н. Бердяев пишет вздор, что будто в эмиграции «восстают против новых социальных слоев»: примем мы все «новые социальные слои», если только они примут Христа и Россию, если только сознают, как по мучительной нашей судьбе сознали мы, весь антихристов ужас содеянного в России и творимого теперь во всем мире. В этом сознании, в этом духовном понимании и будет спасение России и всего мира.
А когда Н. Бердяев пишет, что будто церковь, подчиняясь, может христианизировать и коммунистическое общество антихристово, он, как видно, забывает страшные слова, что «дьявол подражает Богу». Как бы вся его бердяевская, а не православная церковь не превратилась в церковь дьяволову, в подмену Христа Антихристом…
Нет, не с советской властью духо- и человекоубийц придут в Россию Христов мир и Христова свобода, а против советской власти. В этом все наше исповедание.
Но если действительно церковь зарубежная «мешает» подневольной русской церкви, мученице-рабе, – зарубежная церковь мешать не должна. Будто, если мы не дадим «подписки» митрополиту Сергию, мы уже перестанем признавать радости и печали отечества своими? И разве не видим мы за словами митрополита Сергия России задавленной, удушенной России.
Только потому, что мы всегда видим, всегда зрим ее в совести своей, мы и просим: не душите же и нас, как уже удушили Россию.
Мы еще живы, свободны, мы еще открыто можем исповедовать перед всем миром русскую совесть. Не мешайте и вы нам. Мы тоже – Россия. И какие данные у Н. Бердяева, что митрополит Евлогий уже вступил на путь безоговорочного подчинения митрополиту Сергию, на путь духовного возвращенства?
Утверждаем, что у Н. Бердяева этих данных нет. Это – выдумка самого Бердяев, и она нужна ему для того, чтобы проговориться под конец о самом основном, о самом внутреннем смысле послания митрополита Сергия, что есть оно «ликвидация в зарубежной церкви периода, связанного с гражданской войной», то есть ликвидация самой эмиграции для полного торжества советов.
Нет, этого периода не удастся ликвидировать, доколе существует на земле, в России, антихристова власть повального истребления, явно подменяющая образ Сына Божиего образом Сына Звериного.
Н. Бердяев сам же установил, что мы – очаг свободной мысли и совести, вынесенный сюда именно периодом гражданской войны. Совесть России была бы открыто с нашей совестью, если бы Россия была бы свободной. Но Россия – не свободна, а мы – свободны: таковы фактические положения. И мы должны и для России добиваться нашего фактического положения, а не добивать и ее, и себя, принимая ее положение. Кто не желает освободиться от плена и рабства – тот не освободится никогда. И если бы все, как Н. Бердяев, и здесь, в свободе, и там, в рабстве, из-за фактического внешнего положения насилия отказались бы от внутреннего преоборения этого насилия, даже вплоть до отказа от совести своей, тогда – конец и церкви, и России, да и всему миру. Тогда не видать уже нам вовеки «нового неба и новой земли», а будет над нами опрокинутое небо и под нами – опрокинутая земля.
Бог – не шахматная игра философских софизмов и силлогизмов, а – жизнь. Бог – Любовь, Огонь, Дух, Который дышит, где хочет. И «нудится» Бог.
А что, если завтра – а ведь будет это завтра в России, если есть Бог, – а что, если завтра в России, вдохновленной от неслыханных мучений и жертв своих, подымутся к небу все руки в бряцающих цепях, и восстанут и выйдут из всех темниц и подвалов советских мученики Христовы, та Церковь истинная, соборная, сонмы страстотерпцев, которых непрестанно расстреливают в России сегодня, – а что, если эта Церковь истинная заговорит завтра в России, – с какой тогда церковью пойдет Н. Бердяев, с церковью «фактического положения» или с Церковью истины? С палачами или с жертвами?
Или религиозный философ Н. Бердяев уже не верит в таинство жертвы – в таинство воскрешения ее, в последнее таинство Христово?
Мы – верим. Мы чаем воскрешения мертвых. И совесть наша с жертвой воскрешающей, а не с палачом убивающим.
Нет, не к «обожению» через церковь земли зовет Н. Бердяев, а к новому, еще горшему «осатанению» ее.
Так в чем же выход?
Выход в том, чтобы не мешать друг другу.
Никто не будет и не намерен мешать митрополиту Сергию, но пусть и он не мешает совести нашей. Церковь – не в формальных связях, а в свете благодатном, в Таинстве Вечери. Христовой. Не будем мешать друг другу, хотя бы потому, что временно внешние наши положения противоположны: мы еще свободны, а там еще рабы.
И если воля Божья оторвала нас от Матери-России, что же, пусть оторвут нас теперь и от Матери-церкви.
Существо нашего духовного бытия от этого не изменится вовсе: все равно и тогда в живой нашей совести пребудут вечно нетленными и Россия, и Церковь ее.
«Эпиграфы»
Издательством «Логос» в Берлине издан в свет маленький томик Григория Ландау «Эпиграфы». Имя Г. А. Ландау, если и не всегда доходит до «широкой публики», то всегда находится в фокусе русской мысли за рубежом. Г. А. Ландау – как бы одна из неприметных и вместе ценнейших фигур зарубежной элиты.
Можно с уверенностью сказать, что труд Г. А. Ландау «Сумерки Европы», увидевший свет еще в 1923 году, – просто неизвестен «подавляющему» большинству эмиграции. До нее «не дошло» и не дошло, может быть, потому, что мыслитель Ландау пребывает в том умозрительном плане, где умолкают, перестают быть повелительными и становятся ничтожными все те эмоции и все те вымыслы эмоций, которыми еще живем мы. В этом смысле Ландау не с нами, а как бы перед нами: это фигура будущей синтетической эпохи, которой налицо еще нет.
«Эпиграфы» Ландау – сборник кратких афоризмов, откликов мыслителя на впечатления бытия и его отметок о внутреннем духовном опыте, сжатые максимы, каждая из которых подобна эпиграфу, заключающему в себе смысл или содержание целой главы или глав ненаписанной книги о духовном опыте. Эпиграфы дает автор, а книгу должен написать сам читатель, в себе, и он напишет ее только так, как его духовный опыт ответит на тот или другой эпиграф.
Томик Ландау в этом смысле – необычайная попытка утверждения духозрительной связи мыслителя и читателя на том общем, одинаково пережитом и осмысленном, что могут заключить в себе эпиграфы.
Они не приведены в систему, едва ли они подобраны, и эпиграфы о творчестве, счастье, революции сменяют эпиграфы о музыке, женщине, А. Франсе или Достоевском. Это как бы вырванные откуда-то листики без логической связи. Впрочем, и духовный опыт не вмещается в школьную логику.
Спорен ли этот крошечный и весьма трудный томик Ландау? Разумеется, спорен: это сложнейшая цепь скрещиваний и отталкиваний, духовных битв, на которые вызывается читатель.
Распознавание и оправдание жизни как созидания, и определение созидания как полноты счастья – основное движение мысли в этом сборнике.
Для него в бытии есть две индивидуальности: «есть индивидуализм самопроявления и индивидуализм самосозидания. Второй ведет к творчеству, первый – к разложению».
В творчестве-самосозидании для Ландау и самая тайна «причастия бытию»? «Ждут своего времени только те, для кого оно больше не наступит. Другие его создают».
Та же мысль высказана по-другому в эпиграфе о роке: «двояким бывает рок – чужой волей и собственным безволием», то есть воля в созидании и действовании творит и самую судьбу. Или иначе: кто не создает себя во времени (в настояшем) и в судьбе (в будущем), тот и не причащается бытию, того в бытии нет.
Не в этом ли «система» Ландау, хотя и он противник всяческих философских «систем»? Эпиграфы, утверждающие двойственность нашего бытия на «касательной» и в «кривой», не утверждают ли вместе с тем, что не все то в бытии, что существует, а оправдывает свое существование только то, что в жизни досоздает себя бытию, понимаемому как аврелиевский «смысл», как мысль существования?
Наша краткая заметка отнюдь, конечно, не исчерпывает необычайной книжки Ландау. Приведем только еще два-три его эпиграфа.
Так, в максиме – «разлагая труп, бактерии, наверное, утверждают, что совершают органическую революцию», – дано целое учение о революции, правда, напоминающее К. Леонтьева с его «только в трупе все элементы равны». Так, наконец в сентенции – «то, что было, вскрывается в том, чем стало. Неотменное, как факт, оно еще только вечно становится, как смысл» – дано учение о философии истории, близкое к учению Гомаса де Кенсея о фактах как только «иссушенных костях прошедшего».
Русская идея
Если мертвые не воскресают то и Христос не воскрес.
Апостол ПавелВ «Возрождении», в номере от 13 января 1933 года, была напечатана моя статья о «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова. В статье я называл его философию той новой и повелевающей идеей, которой нам как будто еще недостает.
Национальной идее как будто недостает идеи религиозной, а без проникновения религиозным единством всей нашей мысли и дела, без религиозной идеи, повелевающей нашими отдельными жизнями, не будет создана и новая национальная идеология.
Именно потому каждому думающему русскому, и особенно русской молодежи, следует прочесть Федорова и книжки о Федорове, тем более что их можно теперь достать в Париже – и не только прочесть, а, так сказать, пережить этого замечательного русского мыслителя.
Н. Ф. Федоров, библиотекарь Румянцевского музея, московский аскет, со дня кончины которого в этом году исполнилось тридцать лет, был современником Толстого, Достоевского и Соловьева.
Все они были под прямым влиянием Федорова.
Это удивительно. О Федорове все молчат, как будто его не знают, но вся русская мысль как бы освещается все сильнее религиозной федоровской идеей.
Вот вкратце и грубо ее основы.
Христианство не только созерцание и ожидание небес, а неустанное дело преображения земли. Мир нам дан не на поглядение, а для действия в нем.
Действие же человеческое, общее дело духа, знания, труда, должно иметь единственной целью полное и разумное овладение всеми слепыми стихиями и силами природы. Человек, пребывающий, по словам апостола Павла, «в детстве», – «порабощен вещными началами». Но после Воскресения Христова победа над всеми вещными началами мира, над самой смертью, прекращение действия смерти является единственным смыслом общих усилий человечества, уже приходящего «в свет разума».
Федоров учит, что человечество, живущее после Воскресения Христова, должно так следовать за Воскресшим в его противодействии власти вещных начал, чтобы вслед за Ним истребить «последнего врага – смерть».
Осуществление такого единственного и общего дела есть та творческая цель человечества, в начале которой должно быть его восхождение «в свет разума», когда эксплуатацию всюду заменит разумная регуляция, а жизнь, личная и общественная, преобразится в сознательное творчество и в литургическое служение. Народы и каждый человек должны преобразить свое духовное и материальное бытие в единую, внехрамовую литургию. Тогда только и откроется путь к свершению всем человечеством в его земном бытии литургического творческого таинства преосуществления, претворения вещественного в невещественное, – путь к победе над смертью.
Основа федоровской веры, таким образом, в перемене людьми всего их миросозерцания и миропонимания. Само мышление человечества должно стать, так сказать, литургическим, которому весь мир должен открываться как свершение чуда преображения.
Не пресловутый машинный прогресс и анархия знаний, явно ведущая человечество к одичанию и взаимному истреблению, а сознание всеми своего единственного задания в мире, а выбор всеми литургического пути, следования за Воскресшим. Взамен всего диалектически-платоновского, двойственного, аналитического и внерелигиозного мышления Федоров призывает человечество к религиозному, единому литургическому мышлению. В этом и заключается русская идея Федорова.
Эти несколько слов о самом Федорове казались необходимыми, чтобы дать отзыв о новом сборнике последователей Федорова «Вселенское дело», только что вышедшем в Риге.
Сборник этот помечен вторым.
Первый выпуск «Вселенского дела» был издан еще в 1914 году и пропал почти весь, не дойдя до читателя.
Во втором выпуске, изданном через двадцать лет, кроме имен А. Горностаева, Гежелинского и скончавшегося в советской ссылке Муравьева, работы которых знакомы каждому, кто читал о Федорове, имена Кононова, Чуева, Рафаила Мановского, Владислава Александрова и Чхеидзе (однофамильца «совсем другого» Чхеидзе) встречаются впервые.
Очень любопытны и ценны исторические материалы сборника. Некоторые письма Федорова к его первым последователям – Кожевникову и Петерсону, письмо Вл. Соловьева к Константину Леонтьеву о Федорове, заметка к материалам к «Братьям Карамазовым». Ценна также библиография, правда, неполная, иностранных и русских работ о «Философии общего дела» и об образовании при Национальном музее в Праге целого отделения, посвященного Федорову – «Fedoroviana Prahewsia». Сборник (205 стр., цена не указана) воспроизводит также редкий рисунок Пастернака: Соловьев и Толстой у Федорова, в библиотеке Румянцевского музея.
Стихи сборника – Несмелова, Лучицкого и Горностаева – предоставим оценивать людям опытным.
Что же касается статей, то они кажутся пестрыми и неравноценными. Некоторые из них почему-то – совершенно без нужды – полемизируют, другие же заражены, можно сказать, детским рационализмом, с беспредельной верой в науку, которая-де «все может».
Такое крайнее «рацио» у некоторых авторов сборника переходит едва ли не в угодничество перед «фактом» СССР, с его пресловутой «плановостью», в которой некоторые авторы сборника едва ли не склонны видеть приближение к осуществлению федоровских чаяний.
Ошибка настолько жестокая, что не верится, будто авторы ошибаются бессознательно.
Тем более что в сборнике не раз поминается имя небезызвестного сменовеховца Устрялова и даже печатается его покровительственный о Федорове отзыв.
В чем дело?
Когда-то идеи Федорова намеревались «прикарманить» себе евразийцы. Теперь, кажется, то же намерены учинить устряловские сменовеховцы, довольно неожиданно меняющие «вехи»… на Федорова. А может, все это – только молодая путаница у молодых, как нам кажется, авторов?
Очень тяжелое впечатление оставляет статья В. Муравьева «Всеобщая производительная математика».
Статья написана в Москве в 1923 году. В. Муравьев, автор книги «Овладение временем», полностью разошедшейся в советской России в 1926–1930 годах, был последователем Федорова и скончался в ссылке, в Нарыме, в 1932 году.
Муравьев, сын одного из последних министров императорской России, в начале большевистской революции был участником «тактического центра», едва избежал расстрела и перешел к большевикам. Он вплотную стал работать с ними. По-видимому, так же, как некоторые авторы этого сборника, он уверовал, что их «плановость» приведет к осуществлению федоровской «регуляции». Вместе с тем он, по-видимому, верил в одну только рациональную науку, которая-де и откроет все тайны бытия и победит смерть.
Именно своим удушающим и бездыханным «рацио» вместе с совершенно наивной верой во всепобеждающую науку и удручает его статья.
Муравьев вначале был большевиками «использован»: он им поставил, между прочим, на должную высоту Центральный институт труда.
О всей этой полосе жизни Муравьева можно думать, что он пытался в скрытой форме произвести, так сказать, федоровскую революцию в коммунистических мозгах.
В сборнике упоминается еще об одном федоровце, погибшем в советской России, о священнике Ионе Брехничеве, который, вероятно, по тем же причинам, что и Муравьев, пошел к большевикам, снял даже рясу и вступил в коммунистическую партию. В 1931 году он или погиб в ссылке, или был расстрелян.
Печать муравьевского «рацио» и едва ли не готовности приспособленчества к советскому «факту» есть на некоторых статьях этого сборника.
А это зловеще сближает их – как то ни страшно сказать – с такими матерыми врагами христианства и Христа, каким был, например, пресловутый большевистский историк, коммунист и безбожник Покровский.
Во всяком случае авторы или редакция этого сборника решили поместить имя Покровского в рубрике «Наши потери»:
«Покровский все последние годы, – указано о нем в сборнике, – был близок к взглядам Н. Ф. Федорова на необходимость и возможность борьбы со смертью и полной победы над нею. Говорил он и об «окончательной победе над смертью», считая, что эта победа упразднит «религию».
Конечно, любой гадине хотелось бы воскреснуть, но такая «близость» ко взглядам Федорова – воистину сатанински искажает христианскую религиозную идею Воскресения самого Федорова.
Однако кроме таких, можно сказать, странных голосов в этом пестром хоре сборника, есть там и вполне ясные голоса.
Превосходна, например, статья Чхеидзе «Проблемы идеократии» о смене в человечестве аналитического мышления синтетическим. Именно это, добавим мы от себя, и кажется нам возможным приближением к федоровскому литургическому мышлению.
Хороша статья Владислава Александрова «Религия и наука» о науке как сотруднице религии в преодолении распада и разрушения, с весьма любопытным разбором понятий святости и чуда.
Также хороша статья Рафаила Мановского «Мессианство и русская идея» с разбором, хотя и кратким, православия Серафима Саровского.
Допустимо, что некоторые странные «течения» в сборнике так же, как и его новая орфография, могут быть объяснены тем, что авторы надеются протолкнуть его в СССР, все для той же «федоровской революции в коммунистических мозгах».
Очень грустной разновидностью людей в России были толстовцы. Уже по одному воспоминанию о них никому бы не следовало становиться федоровцами. Тем более что, если федоровская русская идея есть истина, она наполнит каждого и всех, без особой монополии кого бы то ни было на эту истину.
Но каждый русский, и особенно молодежь, должны прежде всего узнать ее, испытать эту идею, истинна она или нет, пережить русскую идею Федорова, самую большую и живую Христианскую Идею Воскресения, какая есть в современном человечестве.
Потому-то каждый русский должен бы, кажется мне, прочесть Федорова, о Федорове и этот новый федоровский сборник «Вселенское дело».
Московские весы
Статья в «Возрождении» Д. С. Мережковского «Леонардо да Винчи и мы», эта его замечательная речь о духовном кризисе Европы, сказанная во Флоренции 15 мая 1932 года, не канула, разумеется, незамеченной.
Все схемы Д. С. Мережковского о мире и бытии могут быть спорными.
Но всегда как будто остаются бесспорными и таинственно-сильными предчувствия Мережковского, его предвкушения будущего.
Он точно видит одни тени будущего, падающие на настоящее, он видит одно то, о чем Момзен говорил: «Мировые события, двигаясь на землю, бросают перед собой свои тени».
Но вот недавно мне достались разрозненные выпуски журнала «Весы» за 1904–1908 годы, журнала московских символистов, декадентов, как их звали тогдашние газеты.
Какие канувшие времена… «Дядя Ваня», декаденты, «Чайка» – все ушедшее, дотла. Одна дряхлая пыль, трава забвения…
Но внезапно в тощих книжках забытого журнала, в этой груде, найденной мной у парижских друзей на самой темной книжной полке, встретил я под глубоким слоем пыли такие удивительные, такие сегодняшние речи:
«Я обратился к Владимиру Сергеевичу (Соловьеву) с вопросом о том, сознательно ли он подчеркивает в «Трех разговорах» слова о тревоге, подобно дымке, опоясавшей мир. И Владимир Сергеевич сказал, что такое подчеркивание с его стороны сознательное. Еще тогда я понял, что дымка, затемняющая духовный взор, падает на Россию, явясь вовне в ужасе войны и междоусобия…»
Это пишет в «Весах» более четверти века тому назад Андрей Белый.
И это показалось мне пророчеством о затмении и ужасе России, которое сбылось на нашей судьбе.
Тогда я стал внимательнее перелистывать пыльный журнал, и странно и зловеще заговорила со мною забвенная декадентская Москва, Москва русских девятисотых годов, точно «Весы» и на самом деле – книга русских сивилл.
«Появились слова Д. С. Мережковского, – четверть века назад пишет Андрей Белый, – об апокалиптической мертвенности европейской жизни, собирающейся явить грядущего хама. Появился новый тип, воплотивший в себе хаос, восставший из глубины, – тип хулигана… И стал красен свет, занавешенный пылью: точно начался мировой пожар… Еще Ницше предвидел накануне своего помешательства всемирно-историческую необходимость всеобщей судороги… Все потонет в море огня».
Но ведь почти те же слова повторяет теперь Д. С. Мережковский, предрекая «огненную смерть» Европе-Атлантиде, как будто никакого «тридцатилетнего опыта», о чем он пишет в своей статье, ему и не понадобилось.
Так что же такое увидели московские символисты начала девятисотых годов, эти туманноглазые и косноязычные декаденты, эти полуфлорентийцы, получухны, не то полукривляки, не то полукликуши, а может быть, и зловещие русские пророки?..
Нигде в русской литературе нет такого, как бы сказать, инфернального предвидения наших времен, всего того, что творится на наших глазах, как у московских символистов начала века.
То в полной невнятице, то с потрясающей ясностью они только и заняты пересказыванием своих видений.
Они только и делают, что выкликают всеобщую гибель, всеобщую смерть, «маску красной смерти», как вещает А. Белый. Их всех тешит сладкое головокружение на краю бездны, они восхищены неминуемостью общей гибели. Это какое-то демоническое смакование всеобщей обреченности.
И с каким подавленным сердцем теперь встречаешь в старых «Весах» все тот же упорно повторяемый Андреем Белым грозный гоголевский образ России: Россия – это бедная Катерина, которую беспощадно замучит и погубит страшный колдун в красном жупане…
Ведь Россию, действительно, беспощадно замучил красный жупан…
– Пелена черной смерти… занавешивает просыпающуюся Россию… Русская земля! Враг не дремлет. Все изменилось, всему приходит конец… – кличет в 1905 и в 1908 году Андрей Белый.
Но страшнее его выкликаний, но просто подавляют своей подлинно-сатанинской надменностью – темной гордыней – полупризнания в июньских «Весах» 1905 года Валерия Брюсова, те его полупризнания, весь тайный и ужасный смысл которых стал понятен только теперь, после всего пережитого Россией, уже во времена «безымянного русского ужаса», о котором упоминает в своей статье Д. С. Мережковский.
Вот эти демонические признания Брюсова:
«Агриппа Неттесгеймский учил, что 1900 год будет одним из великих исторических рубежей, началом нового вселенского периода, одного из тех периодов, длительностью каждый в 490 лет, сроки которых делят всемирную историю на последовательные царствования семи космических демонов».
Едва ли кто знал в нашем обществе об этих исчислениях старинных чернокнижников; но несомненно, что как раз на меже новой астральной эры были уловлены чуткими душами как бы некие новые содрогания и вибрации в окружающей нас интерпсихической сфере – и восприняты как предвестие какой-то иной, неведомой и грозной эпохи…
Достоевский и Ницше, два новых «властителя наших дум», еще так недавно сошли со сцены, прокричав в уши мира один свое новое и крайнее «да», другой свое новое и крайнее «нет» – Христу. Это были два глашатая, пригласившие людей разделиться на два стана в ожидании близкой битвы, сплотиться вокруг враждебных знамен. Предвещался, казалось, последний раскол мира – на друзей и врагов Агнца… Дух мистического богоборчества затаился и тлеет на редких очагах демонической культуры…»