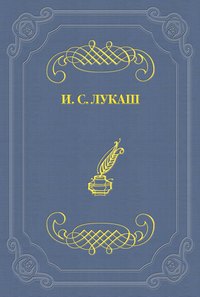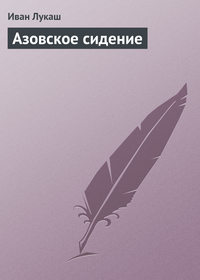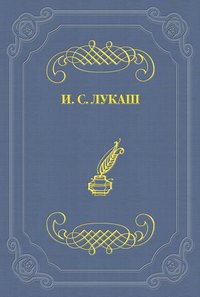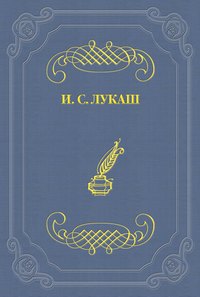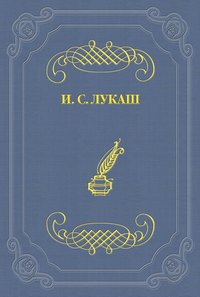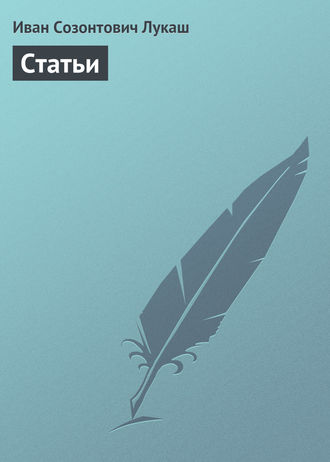 полная версия
полная версияСтатьи
Ворота открылись, пропустили автомобиль и закрылись.
Уже 19 марта А. А. Танеева видела «матроса Деревенко, который сидел, развалясь, в креслах и приказывал царевичу подать ему то одно, то другое. Алексей Николаевич, с грустными и удивленными глазками, бегал, исполняя приказания». Боцман оказался большевиком и вором. Вскоре он покинул дворец.
Солдаты революционной охраны ходили по парку за наследником и великими княжнами, которые были острижены после кори. Солдаты увидели в руках царевича игрушечное ружье, модель русской винтовки. Они потребовали «обезоружить наследника». Царевич разрыдался и долго горевал по своей игрушке…
6 августа 1917 года императора с семьей перевезли в Тобольск. Здесь приходила заниматься с царевичем К. М. Битнер.
«Он был способный от природы, – вспоминает она, – но немного с ленцой. Если он хотел выучить что-либо, он говорил: «Погодите, я выучу». И если действительно выучивал, то это уже у него сидело крепко. Он не переносил лжи и не потерпел бы ее около себя, если бы взял власть когда-либо.
Я не знаю, думал ли он о власти. У меня был с ним разговор об этом. Я ему сказала:
– А если вы будете царствовать?
Он мне ответил:
– Нет, это кончено навсегда…»
Сохранилось письмо царевича из Тобольска от 22 января 1918 года:
«Сегодня 29 градусов мороза и сильный ветер и солнце… Есть у нас хороших несколько солдат, с ними я играю в караульном помещении в шашки… Нагорный спит со мною… Пора идти к завтраку. Целую и люблю. Храни тебя Бог».
На масленице 1918 года семью императора перевели на солдатский паек. По постановлению солдатского комитета разрушили на дворе ледяную гору детей.
30 марта царевич ушибся о лестницу и тяжело заболел припадком гемофилии. 1 апреля государя и государыню увезли в Екатеринбург.
– Поручаю вам Алексея, – прощаясь, сказала императрица Жильяру.
«Почти все в доме плачут, – отмечает он. – Отправляюсь к ребенку, который плачет в кровати…»
В тобольском доме появились новые комиссары, кронштадтский матрос кочегар Хохряков и бывший жандарм Радионов, оба из палачей чека, оба не верят страданиям мальчика. Матрос Нагорный весь день то носит мальчика на руках, то катает его на колесном кресле.
7 мая царевича с великими княжнами на пароходе «Русь» везут в Тюмень. Комиссар Радионов запирает цесаревича с Нагорным в каюту.
Климентий Григорьевич Нагорный бесстрашно заступается за мальчика и требует, чтобы каюту отворили.
8 Тюмени Жильяр в последний раз видел своего ученика и великих княжон под сильным конвоем, у вагона, на запасных путях в Екатеринбург:
«Вдруг перед моим окном прошел дядька царевича, матрос Нагорный. Он нес мальчика на руках…»
В Екатеринбурге, в Ипатьевском доме, царевич лежал в угловой комнате, где были заключены государь и государыня. Теперь сам государь выносил его на руках в сад.
Матрос яхты «Штандарт», верный до смерти Климентий Григорьевич Нагорный был в начале июня увезен из дома Ипатьева и расстрелян. Тогда же был увезен и расстрелян другой дядька царевича матрос яхты «Штандарт», верный до смерти Иван Дмитриевич Седнев.
Сын Седнева, маленький поваренок, оставался в Ипатьевском доме до 16 июня. Его увели из дома и оставили с красноармейским караулом в доме Попова, что напротив. Мальчик весь день сидел у окна и плакал. Что сталось позже с маленьким Седневым – неизвестно…
Священник Сторожев служил 20 мая в Ипатьевском доме обедню и видел царевича Алексея:
«Он лежал в походной постели. Он был бледен до такой степени, что казался прозрачным, худ и удивил меня своим большим ростом. Он имел до крайности болезненный вид. Он был в белой рубашке и покрыт до пояса одеялом».
В постель больному мальчику клали доску для игр и занятий.
2 июня некая Стародумова, мывшая в Ипатьевском доме полы, видела царевича в столовой. Он был в кресле-качалке. С ним говорил Юровский.
В ночь с 16 на 17 июля одному нз соседей Ипатьевского дома, Буйвиду, не спалось и после двух часов ночи он вышел на двор. Из дома Ипатьева он услышал глухие рваные залпы. Их было около 15-ти, а затем три или четыре отдельных выстрела…
Один из убийц, рабочий Павел Медведев, показал, что «после первых залпов наследник еще был жив, стонал. К нему подошел Юровский и два или три раза выстрелил в него в упор. Наследник затих».
Это и были те отдельные выстрелы, которые слышал Буйвид.
На окраине города, в глухом Васенцовом переулке, где жил один из красногвардейцев-охранников Ипатьевского дома, бывший каторжанин Летехин, отбывший каторгу за растление малолетней, нашли украденную собаку царевича Алексея, того самого Джоя, с которым мальчик делился когда-то солдатским черным хлебом у царских кухонь в Ливадии.
У каторжанина Летехина среди наворованных вещей отыскали и дневник царевича, небольшую книжку в твердом, обтянутом сиреневым муаром переплете с золотым тиснением.
Там есть такая царскосельская запись: «Сегодня приезжал Керенский. Я спрятался за дверь, и он, не замечая меня, прошел к папа».
Еще запись:
«Если будут убивать, то, чтобы не долго мучили…»
Последняя запись в Тобольске:
«Как тяжело и скучно».
У Летехина нашли также стекла волшебного фонаря, оловянные пушки, лошадок царевича и его оловянных солдатиков…
Теперь цесаревичу Алексею Николаевичу было бы 26 лет.
Рок Империи
Трагическим роком запечатлено царствование императора Николая II, и слова эти о роке – не сегодняшняя горечь наших душ, потрясенных испытаниями национальной катастрофы, ужасающей революции и гибели империи.
Образы рока проносились перед ликами властителей империи: они – и на царевиче Алексее Петровиче, и на царевиче Иоанне, они – и на Петре III, и на Павле I, и на Александре II.
Образы рока сквозят и в вековой тревоге пророческой русской мысли – не только Достоевского, но и Гоголя, Лермонтова, Тютчева, Леонтьева, Пирогова и фельдмаршала Суворова, который на самой вершине победоносной империи в вещем предвидении времен ее падения исступленно молился: «Боже, избави Россию ране ста лет…»
От восхода и до заката империи, под блеском ее слышалось это страшное содрогание – движение рока.
«Уже с давних пор, – писал Тютчев еще в 1855 году, – в Европе только две действительные силы, две истинные державы: Россия и революция. Они теперь сошлись лицом к лицу, а завтра, быть может, схватятся…»
И они схватились. И в крови, и в разгроме все утверждения империи были опрокинуты всеми отрицаниями революции – революции, зародившейся задолго до Тютчева, предугадывавшейся многими российскими императорами. И Екатерина II, и Александр I, и Николай I, и Александр II слышали устрашающее стремление ее…
Задолго до наших дней имперская власть стала искать выхода из рокового потока империи, и – в эпохи реализма и реформ – не раз подходила вплотную к разрешению революции конституционным путем, самой империи, с опорой на всю силу закона и власти, и – после реакции – становясь в положение борющейся стороны, в роковом страхе перед революцией, загоняла ее в подполье, вбивала в русское тело, впитывало в русскую мысль, в то же время «подмораживая Россию».
Государю Николаю II, по духовному облику и складу характера не императору бурных исторических эпох, а мирному царю тишайших времен царства Московского, суждено было принять все трагическое наследство предков. Не война и не пресловутый 1917 год, а вековечные причины, самый роковой ход империи – вызвали несчастное царствование императора Николая II и трагедию царствующей династии.
Поймем ли мы всю глубину, да и достанет ли наших сил, чтобы коснуться всей глубины человеческой трагедии государя, когда за себя и за сына отрекался он от престола Российского?..
И вот – перед государем и его семьей так же, как и перед всей Россией, перед всеми нами, мертвыми и живыми, с его отречением открылась иная судьба. С этого страшного часа понес император Николай II мученическую русскую судьбу, открывшуюся всем нам в революции. Живым символом, средоточием всех русских терзаний в революцию стал тогда Государь.
Со всей терзаемой Россией государь и его семья, шаг за шагом по всем кругам русского ада, понесли тот мученический венец, который суждено было принять в революции и миллионам русских душ, и миллионам русских семей.
Государь шел по кругам ада со всей Россией. Претерпевал издевательства, как Россия. И голод – как Россия. И тюрьмы, и заключения – как Россия.
Как Россия, он принял и венец мученический, последний, который приняли и принимают теперь вместе с ним тысячи новых мучеников России…
Не достанет у современников сил, чтобы судить злодеяние екатеринбургское. Но кто бы ни был виновником его, наша совесть, наша живая человеческая совесть, как и совесть всех будущих российских поколений, теперь уже никуда и никогда не уйдет от общей нашей ответственности за него. Тени мучеников, тени государя и его семьи на века помутят лик России. Помутнел уже, исказился лик ее, и не сестры ли великих княжон, царевен, русские девушки и русские женщины замучены и затоптаны революцией, и не братья ли царевича Алексея, раздавленные революцией, бродят теперь стадами беспризорных полузверенышей?
Государю и с ним всей России суждено было принять роковое наследство и роковую развязку. Национальная катастрофа разразилась над нашими головами и над нашими душами. И лишь теперь, после крушения, после обвала, мы вполне испытали относительность того самодержавия, которое почиталось тогда чуть ли не единственным существом имперской власти, хотя такое самодержавие византийско-московского идеала было и враждебно, и чуждо империи Петра и всероссийской имперской нации.
Мы испытали относительность всех форм власти, и теперь идет борьба не за формы будущей российской власти, не за монархию или республику, а за самое абсолютное существо власти – возродительницы России и российской нации в полном творчестве, в полной силе и в полном мире, за национальную власть восстановления в отечестве истинного Бога и истинной свободы, за власть России против власти революции…
Есть волнующая легенда о том, как ходит по России отреченный император в старой солдатской шинели со споротыми погонами. Так тень императора в шинели простого солдата идет теперь со всеми живыми и мертвыми воинами России в неумолкаемой борьбе за отечество. Так государь отрекся от престола и причастился новой судьбе России. Какой будет она, не знал ни он, ни миллионы мертвецов за нее, но все они знали, что Россия будет… И, как равный среди равных, идет государь в новой русской судьбе – в русской борьбе…
Революцией разверзся рок над Россией. Революция заключила роковой круг российской истории, но не кончаются революциями истории великих народов и наций.
«Две действительные силы, две истинные державы, – писал в 1855 году Тютчев, – Россия и революция сошлись лицом к лицу…»
Россия и революция сошлись лицом к лицу. Но революция неминуемо несет в себе свое поражение.
Россия победит.
Воин Александр
Отметим еще одну годовщину – двенадцатую. Добровольческая армия выступила из Ростова в Первый кубанский поход 22 января 1918 года.
Первой офицерской ротой командовал полковник Александр Кутепов. Бой под Лежанкой. В студеной воде по горло, под отчаянным огнем первая рота с Кутеповьтм переходит реку. Победная атака.
Бой под Екатеринодаром. Командир ударного корниловского полка полковник Неженцев убит. Командиром корниловцев назначен Кутепов. Это последняя предсмертная воля Корнилова.
Ледяной поход. Горсть солдат России с воином Александром во главе, заметенная снегами и льдом под Таганрогом, исчезнувшая в стуже…
Двенадцатая годовщина похода была безмолвной потому, что в эту годовщину среди первопоходников не было воина Александра…
«Мы уходим в степи, – это слова генерала Алексеева. – Мы можем вернуться, только если будет милость Божия».
Милость Божия свершилась, и они возвращались, и веруют все, что вернутся в Россию, охваченную тьмой, чтобы там зажечь светоч.
О милости Божией в безмолвном горе и молились в эту годовщину первопоходники. Они молились за почивших в боях и мученичестве Ледяного похода, они молились о милости Божией, о спасении и возвращении воина Александра…
Лавр Корнилов
На столе, под бумажным абажуром, горит лампа. Деревянный балкончик повис над темным садом. Париж куда ниже нас. Там огни, на которые тревожно смотреть, особенно на мерцающую красную гирлянду, не знаю, на каком мосту.
Наши руки освещены на коленях, лица в тени.
– Тогда – это было осенью, и я тоже служил вольноопределяющимся в гвардейском полку – в Петербурге, в гвардейских батальонах готовили восстание против советской власти. Тимофей Кирпичников должен был начинать в Волынском, за ним преображенцы в Таврических казармах, семеновцы, егеря.
Выходил как бы март наоборот: восстание против победившей революции.
– Почему вы вспомнили об этом?
– А вот почему? За все, что я делал не так, как мог бы сделать, у меня чувство раскаяния. Но я думаю, что поступил, как надо. И я еще думаю, как счастливы те, кто никогда не знал ни тревог, ни волнений, ни ошибок, ни заблуждений, ни раскаяния. А впрочем, счастливы ли? А у меня, или у нас, жизнь сложилась не так. Виноваты мы в этом? Виноваты. Я никого и не виню, кроме нас самих.
Но такой до нас дошла русская жизнь. Мы с гимназии были уверены, нас уверяли, что Россия в чем-то не такая, какой должна быть. В театре, в книге, в газете, в том, что говорили наши признанные знаменитости и умники, а, главное, во всем русском быте, тяжелом и нетрезвом, надо сказать, было разлито чувство тоски, безысходности, что так дальше нельзя. Я не знаю, почему так было. Но так было.
А потом ударила война. Вот в том, что началась, война, мы уже никак не виноваты. И в поражении мы не виноваты. Армия преодолевала поражения, даже без снарядов. Но не страна. В стране все чудовищнее ползла глухая клевета: все предано, гибнет, идет к разгрому, потому что есть Зимний дворец. Именно в этом была клевета. И ни одного виновного, кроме Зимнего дворца, виновного за всех и за все.
Я не знаю, почему так было. Но так было. Страна не преодолела клеветы и покатилась к марту. И я не знаю, кто виноват в марте. Думаю, все.
Говорилось, будто только переменить правительство, ведущее страну к неминуемому поражению, и все пойдет к победе. Март был взрывом, вернее разлитием духа поражения, не встретившим никакого отпора, и принятым по неискушенности страны за дух победы.
Страна обманулась. Это стало понятно на другой же день после петербургского военного бунта. Революция протащилась обманом. Революция сбила страну с ног обещанием скорой победы. Разве не так?
– Конечно, так, но к чему вы об этом…
– А вот к чему. Я хочу сказать, я допускаю, хотя у меня нет к тому решительно никаких оснований, что Корнилов со всей страной мог обмануться, мог поверить, что после марта страна пойдет к победе.
Не знаю, верил он так или нет, но одно знаю, что именно этот маленький генерал, с пристально прищуренными глазами, с горькой усмешкой, с таким простецким, чуть калмыцким лицом, стал первым сосредоточием всего противодействия мартовскому обману. Это он первый принес духовный меч России: или – или. Или с революцией, или против.
С Корнилова началось русское искупление, преодоление революции. С него началось возрождение русской нации из развала. Явление Корнилова было и осталось чудом, единственной нашей победой после поражения войны и революции.
А белая армия, созданная им, это больше, чем спасение национальной чести. С белой армией в крови и терзаниях, каких не переносило ни одно русское поколение ни при какой татарщине, на смену старой нации, рухнувшей в революции, начала воссоздаваться новая русская нация, преодолевающая революцию.
Все, что было молодого, честного, что только могло уйти, – все ушло к Корнилову. По всей России пронеслось святое дуновение корниловского воскресения.
Это было последнее русское чудо. Последняя русская победа. Последняя Россия. Она была – корниловской, преодолевающей революцию в открытом бою. Другой не было никакой.
Белая армия создала наши жизни, всю нашу судьбу до сегодняшнего дня. С белой армией – все смерти наших незабвенных, все их нечеловеческие муки. Наши пытки и тюрьмы. Наши раны и бегства. Наши неравные бои, годы беспросветной чужбины. Белая армия создала наши души. И духа живого – России, какая спасена и дышит здесь, – ничего не было бы, не будь Лавра Корнилова.
В какой чистоте – я там был и могу это сказать, – в какой святой нетронутости засиял образ России в Галлиполи. Русское Галлиполи – завершенный образ преодоления революции. Там были побежденные? Нет, победившие. Корниловское чувство конечной победы – живое, несомненное – несем в себе и теперь. Знаем и теперь, что правда и справедливость, совесть, честь, свобода с нами. Так началось с Ледяного похода, так и сегодня… Мы – ядро новой русской нации, преодолевающей поражение, революцию, изгнание. Никакой другой русской нации – поймите это, ради Бога, – никакого другого русского содержания решительно нет.
Есть единственная русская нация Лавра Корнилова, выходящая из огня испытаний и мук: здесь мы, там под советами – пусть даже имени Корнилова не знают, но если и там преодолевают революцию, если и там проделывают наш страшный духовный опыт, – и там такие же, как мы.
Корнилов – ось русского послереволюционного бытия. Наша внутренняя ось, вокруг которой вертится все. Другой нет никакой. И если будет воскресение России – оно будет в том, как остатки нации изгнания, точно лохмотья живого знамени, сочетаются в одно с нацией, какая там преодолеет революцию. Так это или не так?
– Думаю, так.
– Тогда пусть же останется нетронутым имя Корнилова. Стыдно за всех нас не потому, что кто-то полез в его судьи, а стыдно за самую возможность спора вокруг его имени в нашей среде, стыдно за то, что корниловцы вынуждены защищать его имя среди нас. Нестерпимо стыдно…
«Судить Корнилова – это вбивать осиновый кол во всех нас, в то, чем мы жили после революции в России, чем еще живы здесь… И, наконец, вы не назовете же князя Пожарского прислужником Смуты за то, что Пожарский пировал в Кремле на свадьбе Лжедмитрия, а генерала Франко прислужником революции за то, что Франко служил в штабе республиканской армии?»
Да не в этом дело, и спорить-то об этом, по-моему, стыдно. А дело в том, что если нет ни там, ни здесь борющейся нации Лавра Корнилова – тогда ничего нет. Тогда пропасть между дореволюционной Россией и торжествующей советской революцией – место пусто.
Старая империя, по нашей вине, или без нашей вины, но рухнула в крови бунта. Корнилов – живой мост между рухнувшей старой империей и новой, второй империей, с ее живой нацией, выходящей из преодоления поражений и революции.
…Наши руки освещены на коленях, лица в тени. Мы больше молчали, а наши отрывочные слова были куда грубее и куда проще, чем я записал.
В темном Париже, далеко, тревожно, мерцают гирлянды огней на каком-то мосту.
Мы молчим и думаем о том, о чем все думают теперь – что же будет, если так пойдет дальше, – что будет со всеми нами завтра?
Генерал Духонин
3 декабря 1917 года
10 лет тому назад, 3 декабря 1917 года, на станции Могилев, у вагона Крыленки, был зверски замучен толпой солдат и матросов Верховный главнокомандующий российской армии генерал Николай Николаевич Духонин.
Генерал-квартирмейстер Юго-Западного фронта, командир Луцкого полка, раненный во время славных боев в дни галицийского наступления Макензена и награжденный орденами Св. Георгия 3-й и 4-й степени и золотым оружием за разведку под крепостью Перемышль, до войны – капитан лейб-гвардии Литовского полка, киевский кадет. От самого детства – русский солдат. Да и вся семья Духонина – военная русская семья, и дед его – участник Отечественной войны.
Когда, казалось, все было кончено, когда октябрь уже опрокидывал Россию, но когда поднялся Корнилов и генерал Алексеев вызвал Духонина в Ставку, – тот молча и твердо принял все – жертву, подвиг, последний долг смерти за армию и Отечество: он принял и штаб Ставки, он принял и главнокомандование после Керенского. И остался он на своем солдатском посту до конца. Он, верный долгу и честный солдат России, как называет его в воспоминаниях своих генерал Деникин.
У него уже не было многомиллионной армии, но в нем горела вся непобедимая Россия, никем не превзойденная ясность сознания национального долга.
И 2 декабря, накануне смерти, он успел предупредить генерала Корнилова о необходимости покинуть Быхов. Но сам остался.
Он остался. И вечером его арестовывают. Агенты могилевского совета везут его к Крыленке.
Один, под конвоем, он стоит на станции Могилев у вагона «главковерха» Крыленки. И там он остался – Верховным главнокомандующим. Он не пожелал избежать последнего исхода, хотя не раз имел возможность покинуть Могилев, – он остался один, чтобы выполнить свой последний долг солдата перед Россией.
Имя Духонина – одно из самых вдохновенных и самых светлых имен героической России. Это – имя долга и подвига.
Вольные птицы
Мы вольные птицы: пора, брат, пора!
Мы сошли вниз по деревянной лестнице. В погребке прохладная тень. Кисловато пахнет вином и холодным пивом. Пол полит водой – в узоры – как у нас в России…
Мой товарищ утер лоб платком, сказал: «Какая жара!», отпил из стакана и начал без всякой увертюры. Впрочем, за годы мы научились понимать друг друга с полуслова:
– На Разночинной, на Петербургской валялась конская падаль. Стужа и падаль. Бок выгрызен собаками или вырезан. Конские ребра зияют, как крючья. Я тогда ел сырую репу. А матери в госпиталь носил котлеты из крапивы. Больше ничего не было. Коммуна.
Мать умерла позже в ссылке. А перед моим бегством из Питера в пустой замерзшей квартире вдруг дребезжали звонки. Так странно. Я вставал ночью отворять, думал: «Обыск, конец». А на площадке никого. Темень и намело снег.
В день отъезда, поверите ли, треснуло сверху донизу наше старое трюмо. Я помню мгновенный, печальный зеркальный звон…
Это было осеннее серое утро. Редкие извозчики еще паслись по Питеру. Костлявые тени возниц, тени лошадей.
У памятника Суворова, на Марсовом поле, повстречались три девушки, знаете, наши питерские, как изящные худенькие иностранки, сероглазые, – нежнее питерской девушки нет на свете, – все уже в платках, под работниц, озябшие, грустные. Как нищие. Одна сказала:
– Счастливый, уезжает…
И вся наша жизнь стала потом отъездом. Уходом. В Киеве большевики ворвались в город. Люди, все бросая, стали уходить. Всю ночь по деревянным мосткам люди шли в Святошино. Там и я грелся у костра заблудившейся батареи. С рассветом мы все были готовы подняться, идти дальше, куда-то.
Но Киев на этот раз отбили. Мы вернулись. И ушли снова в самую гололедицу. Отступление…
В последний раз я лежал в стрелковой цепи в Одессе, на Дерибасовской. Над нами перекатывался пустынный пушечный гром. Из Одессы мы ушли на «Корнилове». Это было в январе. На молу, у пароходных сходней, тянулась темная-темная человеческая очередь.
Ушли в Крым. Ушли из Крыма. На Александровской взорвали бронепоезд и потащились пешком из Симферополя в Севастополь. Рельсы в инее. Догорают огромные костры. Разбитые, пустые вагоны. Пути забиты непрерывной красной стеной теплушек. Идут люди, лошади. Лица в изморози, гривы, шинели. Свороченные, брошенные пушки мерцают от изморози.
На вокзале в Севастополе все разбито. Вагон штаба Кутепова разнесен в щепы. В темном углу кто-то срывает погоны. Мы опоздали. На Екатерининском, на воротах, прибита бумажка, на ней лиловым чернильным карандашом: «Совет р. и с. депутатов». Мы окончательно опоздали. Транспорты ушли. Если нас не подберут, или стреляться, или расстрел.
Но мы добрались до Графской пристани и нас взял иностранный катер.
Мой товарищ – свежий ветер подымает ему волосы – опустил смуглую руку в зеленую севастопольскую воду и быстро утер лицо, глаза – он прощался с последней русской землей, с последней русской водой – и слезы на его загорелом лице смешались с солеными каплями…
Мы ушли из Крыма. Потом из Галлиполи. Мы стали ходить, ходить по всем странам, сущим на свете. Медленный русский ветер.
После большевиков вся наша жизнь стала полетом. Мы отбивались безнадежно от черни и бунта, от подлых извергов и уходили. Мы знали, кто остается – гибель или пресмыкательства.
Мы стояли в огне, подымались на заговоры, на восстания. Мы никогда не пресмыкались. Уходили. Исход – было одно наше спасение, единственная отдушина, какая осталась для живых в России. Иначе глухонемое рабство или смерть.
И уходили мы, не думая о завтрашнем дне… Хлеб наш насущный даждь нам днесь.