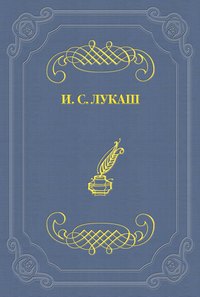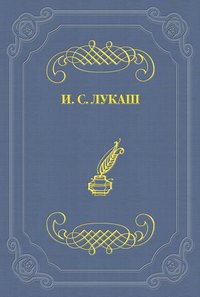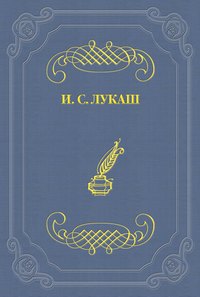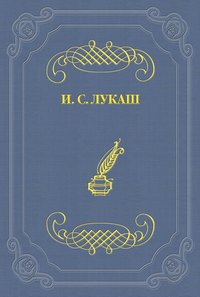полная версия
полная версияСтатьи
И невольно думаешь: не захватил ли теперь, через тридцать лет, этот демонический дух богоотступничества одну шестую часть света и не разгорается ли он теперь всюду темным огнем?
Так, стало быть, – всеобщая гибель, некая «вселенская смазь»?
А в пыльных московских «Весах» – как лепет ночного бреда – то промелькнут вдруг строчки еще почти мальчика Александра Блока, сбывшиеся и на его, и на нашей судьбе:
Будут страшны, будут несказанны,Неземные маски лиц…то встретится вдруг такой полубред М. Волошина:
«Свершилось, – пишет Волошин в 1904 году. – Наступает минута возмездия. Это действительность мстит за то, что ее считали слишком простой, слишком понятной.
Русская литература в течение целого столетия вытравляла мечту и требовала изображения действительности, как она есть. На протяжении целого столетия Гоголь и Достоевский одни входили в область мечты. И кто знает, какие ужасы остались неосуществленными благодаря им в начале восьмидесятых годов.
Чехов в своем многоликом муравейнике исчерпал всю будничную тоску русской жизни до дна, и она подошла к концу.
Подымается иная действительность – чудовищная, небывалая, фантастическая, которой не место в реальной жизни, потому что ее место в искусстве. Начинается возмездие за то, что русская литература оскопила мечту народа…»
Страшное обвинение литературы, которая будто бы должна вбирать в себя все сны, бред, все бешенство, все мечты и химеры людей, а когда не вбирает – не отображает плоти в бесплотном, тогда плоть поднимается на все в неистовой страшной мести… Пусть и странная мысль, но ведь и это предчувствие сбылось: действительность на наших глазах поднялась чудовищной, небывалой, фантастической…
Вот и Розанов в «Весах», на этот раз кривляющийся и со страшным шутовским бормотанием о собственных похоронах:
«Я хотел бы (в предупреждение микробов), чтобы меня обмакнули в коллодиум или в часто употреблявшийся мною при жизни гуммиарабик, хотя, впрочем, «куда бы старый хлам ни выбросили – решительно все равно…»
Так они и выбросили его старое, иссохшее от голода тело…
Вот, наконец, и молодой Д. С. Мережковский девятисотых годов.
Я нашел в «Весах» куски его известной статьи о Достоевском «Пророк русской революции», его заметку о Герцене.
Страннее всего, что и тридцать лет тому назад, еще до великого «опыта», Д. С. Мережковский выкликал и пророчествовал почти совершенно то же и почти совершенно так же, как и теперь.
«Последнее худо уже начинается», – пишет он в «Весах» 1906 года. Слова о «худе» он мог бы повторить и теперь.
В тех же старых «Весах» явственнее и ужаснее читается его известное теперешнее пророчество о гибели Европы-Атлантиды:
«Вся Европы – только затонувший материк, древняя Атлантида, которую зальет волнами русский океан».
Русский океан, с его отвратительной достоевщиной, с его крестьянином, который «так и не сделался христианином», был тогда для Мережковского – бездной богоотступничества, мертвой водой:
«Мы упали в яму, которую рыли другим, – писал тогда Д. С. Мережковский. – В то время, когда думали, что вселенная – труп, мы сами были уже почти трупом, в то время, как мечтали «русским Христом» воскресить вселенную, от нас самих уже отступил Христос…»
Как будто бы все именно так и совершается, мертвые волны мертвой России, от которой отступил Христос, вот-вот готовы как будто захлестнуть эту померкшую Атлантиду-Европу.
И тогда все впадет в последнюю тьму, в последнюю смерть.
Но так ли все это?
Истина ли все эти тридцать лет московских выкликаний, вещунств, тридцать лет инфернальных видений, всеобщей гибели, тридцать лет проповеди полного человеческого безволия перед обреченностью, это постоянное сеяние страха смертного, вместе с попыткой, по словам Д. С. Мережковского, сочетания «верхнего неба» с «нижним», Христа с Антихристом?
Нет, не истина, не правда, а «кощунство», «смешная и страшная нелепость и глубокая ложь», о которой открыто и сказал теперь сам Д. С. Мережковский в своей флорентийской речи. Как будто только теперь открывается ему Истинный Агнц, противоборец смерти, Вечный Жизнедавец. Вечная Воля к преодолению смерти.
Поэтому-то могут еще быть и будут в мире новые утверждения воли к жизни и новое вдохновение о жизни, потому что и могут еще наступить времена не всеобщей гибели, а того Третьего Царства Духа Святого, которое предрекал когда-то сам же Д. С. Мережковский, как бы забывший теперь о своем пророчестве.
Московские весы… Как видно, никто, даже и наши русские сивиллы, не знают, куда еще качнутся чаши московских весов.
Именно потому, что не знают, и нашлось во флорентийской речи Д. С. Мережковского место для таких слов:
«Сейчас Россия молчит, погребенная заживо, но когда встанет из гроба, освободится, то произнесет имя Христа, может быть, так, что его услышит мир».
Так, стало быть, не всеобщую гибель Европе-Атлантиде несут волны русского океана, а всеобщее и новое воскресение во Христе? Как видно, одно понятно и одно ведомо: только тогда установится судьба мира и наша судьба, когда в божественном равновесии станут чаши московских весов.
Добужинский
На выставке «Петербург»
Странный, необыкновенный город Петербург. Автор «Преступления и наказания» называл его самым фантастическим на земном шаре, оттеняя какой-то особый прозаизм Петербурга, его миражную будничность, его посюстороннюю жуть. «Умышленный город» – сказал еще Достоевский и выразил гениальным эпитетом некую сущность Петровой столицы, призрачной Северной Пальмиры, с ее сумасшедшей историей, с ее великодержавным лоском и провинциализмом, с ее особняками и промозглыми питейными заведениями – рядом с ее проспектами, чугуннорешетчатыми набережными, рынками, пустынными площадями и захолустными переулками, и вечной слякотью, и гнетущим мраком зимой, и летней пылью, и сумеречными весенними ночами, и неизбежными наводнениями осенью, когда палит пушка Петропавловской крепости, сотрясая стены политических казематов, и ветер петербургский, ни с каким другим не сравнимый, «отовсюду дующий» ветер обдает лица прохожих колючей изморозью.
Но не таким только вспоминается мне Петербург, город Раскольникова, и злополучного гоголевского Акакия Акакиевича, и Аполлона Аполлоновича из романа Андрея Белого: я вижу и тот, другой, «старый Петербург», величественно строгий, но почти ласково выплывающий из туманов прошлого, Петербург братьев Трезини, Растрелли, Тома де Томона, Воронихина, Баженова, Захарова – Петербург, каким Достоевский его не видел, но видел Пушкин, каким представляется он на литографиях начала XIX века и каким полюбили его художники в начале XX… И мерещится еще третий, мой собственный Петербург, до боли памятный, – Петербург неизгладимых детских впечатлений, оттенивших все остальное, Петербург, с которым смешиваются воспоминания о первых печалях и восторгах сердца: о беготне на горке у памятника Петра, о балаганах на Царицыном лугу, о первых рождественских елках, об откидных ступеньках кареты, доставившей меня в первый раз в Большой театр, и обо всем таинственном игрушечном мире детской, прекрасном, как позже не бывает ничто и никогда.
Можно ли примирить между собою эти три столь разных Петербурга: полубред «Записок из подполья», мечту ретроспективистов «Мира искусства» и сон-воспоминание младенческих лет? Примирить так, чтобы не каждый Петербург волновал отдельно, а все вместе, – дополняя друг друга, сливаясь в художественное целое?
Примирение я нахожу в графике Добужинского. Для меня волнующая прелесть этой графики в «петербургскости», одинаково близкой и Достоевскому, и Пушкину, и… Андерсену. Положительно не знаю, какая нота звучит у него сильнее. Они созвучны в его искусстве, соединяющем элегичность, навеянную альманахами тридцатых годов и панорамами Санкт-Петербурга, и лукавую романтику, по детским воспоминаниям, и поэзию неизъяснимой городской жути.
В такой оценке Сергея Маковского в его превосходной монографии «Графика М. В. Добужинского», изданной в Берлине («Петрополисом»), – определены все творческие «планы» Добужинского, мастера Петербурга во всей его полноте, от гармонии колоннад до петербургской горькой ромашки, что выбивается весной между булыжниками на казенных дворах.
Добужинский – пленник Петербурга. Вряд ли мастер когда-нибудь отойдет, выйдет из петербургского мира, и говорить о Добужинском – это говорить об его Петербурге.
Белыми ночами Достоевского, с их мглой и немочью, страшилищами Гоголя, вереницами теней Гофмана, являлась ему Северная Пальмира и вдруг убегала от него, сжималась, уходила под стекло, за черту старинной гравюры, и умещалась в милом узоре старинной табакерки, и превращалась в игрушечную панораму с толпой забавных игрушечных фигурок. Такова, кстати сказать, на выставке его «Панорама столицы 1912 года».
Добужинский не сразу открыл свой Петербург. Много он поблуждал по столице с томами Гоголя, Достоевского, Гофмана, со связками старинных эстампов и проспектов, а иногда и с листами «Сатирикона».
И когда бы мы, думая о Петербурге Добужинского, одновременно думали о Достоевском и Гофмане, – самый образ мастера, торжественный и щемящий, проникновенный и застенчивый, стал бы только отраженным светом, живописно-графической декорацией чужих переживаний и размышлений, чужих страданий и радостей о Петербурге. Но мастер светит своим светом: Гофман и прочее – только «леса», из которых возвысился прекрасный и жуткий Петербург самого Добужинского.
Вы, конечно, помните его «Екатерининский канал» или его «Колонну Александра», эту трепетную и вместе грозную, как будто звенящую линейность, это скрещивание пространств и линейных форм – петербургскую линию Добужинского?
Я ничего не оцениваю, я делюсь моими впечатлениями, и мне кажется, что линия Добужинского – всегда как бы отдельно от плоскости, выходит за ее пределы, сходит с полотна или картона – вибрирует, и вне их, невидимо, в воздухе, вокруг зрителя. В этом тайна изобразительности Добужинского, его магической линии. Страшный «Портрет» Гоголя вспоминаешь перед его работами… Его Петербург тоже «выходит из рамы», окружает вас со всех сторон, следует за вами, как наваждение, – с вами живет.
С. Маковский в той же книге замечает, что в искусстве графики есть некая магическая сокровенность, заклинательная сущность. График Добужинский, изыскатель книжных эмблем, неутомимый странник по фантастическим, а может быть, и магическим державам знаков и символов, не отыскал ли он среди них и свой Петербург – заклинание?
Его Петербург – магический круг, в который он заключает и нас. Заметьте – мастер никогда не видит Петербурга сверху или со стороны. Ростральная колонна в подтеках серой плесени – но вы не видите ее вершины, а один пьедестал Александровской колонны с ее кадуцеями и воинскими арматурами, и никогда не узнаете, где концы и начала петербургских каналов. Мастер только ведет вас вдоль бесконечного чугунного узора. Есть начало Львиного мостика, а где конец? Конец не на полотне: он – в бесконечности, в вас. Вы сами уже на мосту, а конец его где-то за вами…
Мне кажется, что Добужинский смотрит па Петербург изнутри, и на каждой его петербургской работе есть где-то, я не знаю где, – некая магическая точка, от которой расходится магический круг, и туда входит зритель.
Именно в этом Петербург Добужинского – воистину – магический портрет магического города.
Но населен он игрушечными, а то тяжеловато-гротесковыми человечками или даже карикатурами на людей и подернут белой мглой «достоевщины» и причудливыми тенями Гофмана. Так, может быть, найденный мастером Петербург – призрачное страшилище, которому сгинуть и только?
Нет, и во всех «поволоках», и при всех призраках Петербург Добужинского всегда странно-реален, почти осязательно-вещен. Он всегда в трагическом столкновении с призраками, с обволакивающим его хаосом, но сам он – реальность во всем гармоническом величестве вещных форм.
Вспомните его мучительный «1820 год». Сбылось темное пророчество – «быть ему пусту». Окоченелая смерть. Конец…
И не странно ли, что именно в 1820 годах Петербург оделся последним гранитом, завершил окончательно свой реальный образ, чтобы через столетие стать могилой живых, обнажиться в величественной красоте ирреальности? Точно Петербург отвергся живых насельцев, вымел из-под своих портиков и колоннад полчища призраков – Акакиев Акакиевичей всех мастей, князей Мышкиных во всех степенях сумасшествия, Мармеладовых, Раскольниковых и Аполлонов Аполлоновичей – всех нас, кто бы мы ни были – и остался один на один против пустоты и хаоса.
Всмотритесь же, как в пустоте снегов сопротивляется Петр, стиснутый стужей, и как за исходом этой великой борьбы с пустотой следит красновато-желтый зрачок окаянно-хладной петербургской зари. Боже мой, какой ужасный бег Медного Всадника! Но бег не умолкает и в пустоте.
Или всмотритесь в Исаакий, с черным скелетом рекламной будки в бездне метели: все умерло, нет больше Петербурга – ничто. Но все высится тень Исаакия, и не исчезла в сером хаосе гармоническая линия петербургских домов…
Сергей Маковский в работе о Добужинском отмечает одну странную особенность великого города: молодой Петербург как-то сразу стал старым Петербургом. Дряхлостью веет от него.
Это верно. И верно это потому, что Петербург – город без возраста: ни молодости, ни старости у него нет. У него не было «вчера», а было одно великое «завтра». Так умышлял его Петр: создавая его, он думал об его будущем. Строители Петербурга во все эпохи, всегда, так или иначе, повторяли творческий замысел Петра: они опирались не на «вчера» – его не было, не на «сегодня» – слишком бедным было оно, а на «завтра».
Будущее заложено в первом камне Петербурга. Он всегда устремлен из настоящего, из того, что есть, в то, чего еще нет. Потому, вероятно, он и не знает возрастов: он и «дряхлый» и «юный» вместе – вневременный, вечный.
И все же щемящая печаль, отдаленная скорбность разлита в Петербурге Добужинского… Белая ночь и Настенька, склоненная у канала. Мальчик на костылях на Конногвардейском бульваре в оттепельный день 1920 года, когда отражалось в лужах опустевшее, мертвое небо Петербурга, – мальчик, глядящий на безобразно-зловещую статую Володарского, на каменный мешок с выпростанной черной лапой… Понять ли, какой Петербург открылся детским глазам, узнать ли, что слышала Настенька в безмолвном движении белой ночи?
Твоих задумчивых ночейПрозрачный сумрак, блеск безлунный…Голоса нашей судьбы – то, что мы не разгадали, не услышали и не поняли в Петербурге, а о чем он всегда предостерегал нас. Вот и сгинули мы все вереницей призраков в прозрачном сумраке его задумчивых ночей.
Петербург отринулся нас, отвергся и высится, опустелый от живых, ужасный, вневременный, со своими колоннадами и портиками, город – заклятие, обведенный магическим кругом, и ждет иных, кто его разгадает, поймет и услышит, – сегодня так же устремленный в будущее, как в первый день своего создания…
Фарфоровая Россия
На выставке в Севре
Какое нечаянное свидание: прелестный русский фарфор после всех испытаний революции и изгнания, точно совершив магический круг, собрался в свой материнский дом – в музейные залы Севрской мануфактуры.
Елисаветинские и екатерининские жеманные кавалеры, турки с трубками, немецкие персоны, маски, арлекины, медведи встретились с русскими крестьянками в синих сарафанах, веселыми мужиками в армяках, слугами, нищенками, уличными торгашами. Здесь столпилась старинная фарфоровая Россия всех эпох.
Вас, конечно, всегда трогали эти галантные фигурки бисквитных и глазурных человечков, ростом едва в три вершка, крошечный и хрупкий народ, прелестный тонкостью раскрасок, женственной нежностью, юмором и умом, – всей полнотой русской улыбки. Этот фарфоровый народ обитал в спальнях, залах и кабинетах прадедов, на горках купеческих покоев и горниц, в усадьбах на шифоньере, в полковом чуланце пехотного офицера, в ресторациях, трактирах, на постоялых дворах…
Старинная Россия была не только пудреной: она была и фарфоровой. В малоизвестном и полузабытом керамическом художестве – особая благородная прелесть Российской империи, ее нечаянно-нежное дыхание, легчайшая поступь. Тяжкая Россия всегда была украшена хрупкой гирляндой фарфора.
Недаром удивляет французов, что это аристократическое искусство Севра и Мейсена стало в мужицкой России подлинным искусством народа. Действительно, аристократизм русского мастерства нигде не высказался с такой полнотой, как в нашем керамическом художестве. Началось оно, как и все, что начиналось в империи, «сверху» – мановением императрицы Елисаветы, но уже к началу XIX века превратилось в народное искусство. Мастера русского фарфора были по большинству бородачами-купцами, искусниками из обычных крепостных, и даже простыми мужиками, как, например, братья Новые. А частных фарфоровых заводов знатоки насчитывают в старинной России до трехсот!..
Как видно, хрупкое искусство Севра коснулось самых глубин русской души, чтобы разгореться в России всей прелестью и пышностью своеобразия, изумляющего теперь иностранцев.
Истории фарфора в России еще нет двухсот лет. Императорский фарфоровый завод в Петербурге основан в 1744 году. Первая «табакирка» вышла с завода в 1751 году, первые фигурки – собака, подражание китайским работам, и корова, наша северная «буренушка», – в 1752 году. Первая большая печь затопилась на заводе только в 1756 году, первыми мастерами были – вряд ли не авантюрист Хунгер из Стокгольма и Дмитрий Виноградов, которому помогал Никита Воинов. Виноградов, как и Михайло Ломоносов, был родом из Архангельска. Его не миновала судьба многих взбалмошных русских талантов: наш первый мастер фарфора – спился…
В 1774 году на Императорский завод был приглашен французский мастер Жан-Доменик Рашетт из Монпелье, эмигрант-протестант, едва ли не побывавший в Бастилии. Со времен Рашетта, который тридцать пять лет вдохновлял завод, начался расцвет российского фарфора. С ним работали наши миниатюристы, скульпторы и живописцы: Захаров, Комаров, Васильев, Ушаков, Козлов, Кирсанов. Рашетт – один из примеров того поразительного действия, которое не раз давало в России сочетание романо-русского творческого духа.
Едва через сорок лет после двух первых фигурок Виноградова Императорский фарфоровый завод в 1794 году выпустил из своих мастерских уже свыше 38000 произведений. Это эпоха величественных сервизов Семирамиды Севера – арабескового сервиза Рашетта, насчитывающего 973 предмета, кабинетского, Безбородко, с фресками Гераклума, и знаменитого чайного сервиза Орлова, начатого еще при Елисавете.
Тогда же вышли с завода и первые фигурки того фарфорового народа, который заселил позже и барские дома, и медвежьи углы – всю Россию: 95 фигурок народностей Российской империи и первые фигурки русской улицы и русских ремесел.
Павел I любил красоту. Его поправки на строительных планах Кваренги поражают знатоков. Павел I любил и фарфор. При нем отделение завода было открыто в Гатчине. Был еще открыт фарфоровый завод в Межигорье Киевской губернии.
Классический фарфор Александра I изумителен по грациозности и грандиозности сочетаний древнегреческих, римских и египетских образцов, создавших неповторяемый русский «ампир». Эта эпоха обильно представлена выставкой.
При Николае I русский фарфор как бы тяжелеет, окаменевает. Монументальность его форм, его военная парадность, с видами полковых экзерциций и стройных маршей, когда, кажется, слышен шум пышных султанов, наконец, его непревзойденная по совершенству позолота – все это не может скрыть его внутреннего эклектизма, казенной угрюмости и некоторой скуки. При Николае I от русского фарфора начинает отлетать его играющая и сквозящая живая душа. Это последняя эпоха совершенства. Тогда на заводе, как с гордостью отмечает одна петербургская брошюра 1844 года, работали только русские мастера, начиная со знаменитого Воронихина и кончая Корниловыми, Столетовыми, Зузиными и прочими. Завод тогда выделывал, кроме обычных работ, пасхальные яйца, иконы и даже фарфоровые самовары. Батальная живопись николаевских времен, с парадами и великолено-хладными видами Петербурга, отлично представлена на выставке.
Позднейшие эпохи Императорского фарфорового завода – эпохи вымирания благородного вкуса и стиля – или «обмещанивание» и «онемечивание», или антихудожественные штампы псевдорусского стиля. Все это едва стало проходить в последнее царствование, в кануны революции. Такие последние работы завода, обещавшие отрадные времена нового расцвета, – «Киргиз на корточках», «Нижинский», известное «Свидание» Сомова – тоже даны выставкой…
Так все образы империи и все ее стили, после Елисаветы, оставили свой хрупкий след на фарфоре, и если бы от России остались одни только фарфоровые черепки, то и по ним можно было бы представить ее величие и благородство, гармоническую красоту и мужество, светлую силу и приятную женственность.
Но история Императорского завода отнюдь не исчерпывает всей истории русского фарфора.
Еще при Екатерине II в Дмитровском уезде Московской губернии начала действовать первая частная российская мануфактура – фарфоровый завод Гарднера. Тогда же он прославился своими придворными орденскими сервизами, а позже гарднеровский фарфор залил Россию, и кто из любителей не знает его галантных фигурок, его тончайших чашек, его прекрасных «трактирных сервизов»?
В XVIII веке был еще открыт завод Волкова в Севске, под маркой «Фундатора», заводы Никиты Жадина, Бахметьева и других. Не знаменательно ли, что бахметьевский завод был разрушен Пугачевым?..
Севр и Мейсен были несомненными образцами, но русские мастера не копировали. В свои маленькие скульптуры они, как говорится, вкладывали душу, и уже самые первые работы частных заводов полны живого своеобразия.
С начала XIX века заводы открываются всюду, где только есть огнеупорная глина. Помещики, отставные офицеры, купцы, меценаты, оброчные мужики, художники и прожектеры – кажется, все становятся мастерами фарфора, особенно после запрещения министром Гурьевым ввоза иностранных изделий… Заводы в подмосковных, в Петербурге, в Новгородской губернии, под Черниговом. Кажется, всю Россию охватила фарфоровая лихорадка.
Просто неперечислима чудесная плеяда простых русских имен наших заводчиков и мастеров: Фомин, Насонов, Поскочин, Никита Храпунов, Шерехов, Кисилев, братья Бармины в селе Фрязине, Анохин, Вавила Сабинин, Савельев, Кокошкин, Гулин, Савва Корнилов… Их работы, конечно, не равноценные, многие исчезли бесследно, о многих мы знаем очень мало.
Завод Никиты Храпунова известен, например, по одной фигурке сороковых годов: идет почтенный монах в клобуке, согбенный под тяжестью пшеничного снопа. А в снопе видно миловидное личико грешницы, и не упрятались в солому ее красные башмачки. Дело об этой соблазнительной фигурке, представленной на выставке в двух вариантах, доходило, как говорят, до самого императора.
После Гарднера среди русских частных заводов выделяются завод Алексея Попова, открытый в 1806 году, в селе Горбунове, недалеко от Троицко-Сергиевской лавры, и Миклашевского в селе Волонитине Глуховского уезда Черниговской губернии.
Миклашевский славен великолепными и благородными сервизами, бисквитом, вазами и корзинками, украшенными по образцу испанского и итальянского фарфора выпуклыми цветами и фруктами. Фарфоровый иконостас Миклашевского в церкви села Волокитима – редчайшее, вернее, единственное в своем роде произведение… Что-то сталось теперь с фарфоровым иконостасом в глухом Глуховском уезде?
А Попов – пошел по стопам матушки Екатерины: он – отец игрушечного фарфорового народа, заселившего Россию, он создал целые поколения тех глазурных человечков, которые с изумительной правдивостью запечатлевают ее физиономию и самый ее дух. Правда, на всех фигурках мага Попова налет легкой насмешки, иногда это просто гоголевские персонажи, как Добчииский и Бобчинский, которые есть на выставке, и чувствуется на ранних фигурках Попова влияние Венецианова и Федотова, а на позднейших, последних, – Перова.
Тысячи этих крошечных молодцеватых военных, напыщенных судей, департаментских крючков, слуг, прасолов, купчих, бар и барынек- как бы сама огромная Россия, застывшая так нечаянно в самых хрупких и самых миниатюрных формах…
Завод Попова кончился в шестидесятых годах. Эти годы – вообще конец искусства русского фарфора. Его поглотила фабрика, варварски уничтожившая былой благородный вкус, и в последние десятилетия история российского керамического производства стала бесславной в художественном отношении историей известного фабричного товарищества Кузнецова…
Краткая историческая справка, материалы для которой любезно предоставлены нам Н. Н. Флиге, была необходима, чтобы понять высокое значение и достоинство выставки русского фарфора в Севре.