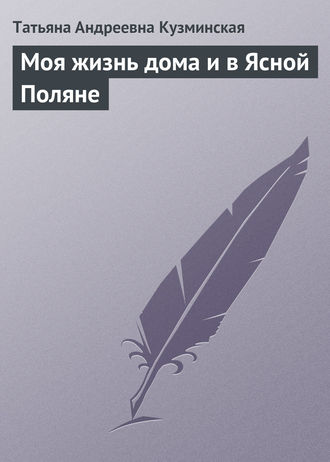 полная версия
полная версияМоя жизнь дома и в Ясной Поляне
– Да, – сказал Лев Николаевич, – это только так кажется. Если подойти к ним ближе, то увидишь другое: у богатого жена больна, дети неудачны, совесть нечиста. У бедного – здоровье, душой спокоен, урожай хороший. Да мало ли что. А в жизни я замечал, что это так, как я говорю. И для счастья нам нужно только слушать наш внутренний голос, и он никогда не обманет нас.
– Нет, обманет, – решительно сказала я. – Ты любишь человека, которого не надо любить – ты несчастлив; ты болен – ты несчастлив; ты сердишься и обижаешь окружающих – ты опять несчастлив. Да много таких примеров, – говорила я.
– Я говорю, – продолжал Лев Николаевич, – надо разобраться прежде всего, что хорошо и что дурно, и в какую сторону идти. А если не разберешься, то и не удивляйся, что будешь несчастлива. Одно можно выработать в себе – это спокойствие и доброту, которых у меня, к сожалению, мало. Мы физически никогда не в нашей власти, но зато нравственно – всегда полная свобода. Но, к сожалению, людей часто стена отделяет от истины!
Эти вечера соединяли нас всех. Даже брат мой, четырнадцатилетний Петя, удивительно милый и симпатичный мальчик, принимал в них участие и с широко раскрытыми черными глазами внимательно слушал слова Льва Николаевича.
Эти разговоры обыкновенно прерывались шумным появлением меньших братьев – Степы и Володи – десяти- и одиннадцатилетних мальчиков. Это был час, когда они приходили наверх. В другие часы они занимались или играли с гувернером французом Гюбер. Они бежали прямо ко Льву Николаевичу; он поощрял их появление, и они знали это. Он возился с ними: учил их гимнастике, сажал на плечи, бегал с ними. Тут присоединялись и мы с Петей, и начиналась беготня кругом дома, т. е. скачки. Всем нам давалось вперед против Льва Николаевича, и он все же выигрывал у нас.
Появлялась и няня, Вера Ивановна, с трехлетним Славочкой. Он тоже шел прямо ко Льву Николаевичу и требовал сказки о семи огурцах. Сказка состояла в том, что мальчик съел семь огурцов. Лев Николаевич рассказывал ее с представлением, как все было:
– Первый огурец, – говорил Лев Николаевич тихим голосом и клал в рот будто маленький огурец. – Второй, – говорил он, проделывая то же самое уже громче и более открывая рот, – гам!
И так постепенно продолжалось до седьмого огурца. Голос возвышался и рот открывался все больше и больше, и, дойдя до седьмого огурца, который с трепетом ожидал Славочка, голос прямо ревел, а рот походил уже на открытую пасть – и Вячеслав, махая руками и ногами, в азарте начинал тоже реветь, как Лев Николаевич.
Но скоро вся эта компания шла спать.
Лев Николаевич подходил к роялю и начинал наигрывать трио «С тобой вдвоем коль счастлив я». Я пела первый голос, Клавдия, как я говорила, «привезла с собой чудесный контральто», – второй голос, и Саша. Лев Николаевич подпевал. Затем составлялся хор. За хором следовала самая разнообразная музыка, которая, по обыкновению, кончалась мазуркой, по моей просьбе. Я любила танцевать ее с братом, который научился в Польше танцевать ее по-настоящему.
– Танцуйте все, – кричала я им, – мы будем делать фигуры!
Лев Николаевич так играл, что действительно нельзя было стоять на месте – и танцевали все.
В дверях показывалась Трифоновна в чепчике и старомодной мантилье, подарок бабушки Марии Ивановны. Трифоновна приходила достать холодный ужин из кладовой, велеть все поставить на стол и приглядеть за всем.
– Степанида Трифоновна, здравствуйте, – слышалось со всех сторон.
Все наши родные знали ее, уважали за ее степенность и возили ей подарки. Трифоновна была очень светская, умела всякому ответить, дорожила отношениями и умела быть и полезной, и приятной.
– Вам, я думаю, теперь хлопотно, – говорил Лев Николаевич, – нас много наехало.
– Ничего, справимся, – отвечала, добродушно смеясь, Трифоновна, – лишь бы чаще приезжали к нам – мы так рады вам. Все у нас хорошо, да только здоровье Андрея Евстафьевича плохо стало, – прибавила она.
Мы шли в столовую, где ожидали нас чай и ужин. Мама разливала чай, а отец сидел обыкновенно на другом конце стола на высоком стуле.
– Люба, налей Трифоновне чашку чая, – говорил отец.
– Не беспокойтесь, Андрей Евстафьевич, – отвечала Трифоновна, – я после напьюсь.
– Что там после, садись, садись.
И Трифоновна садилась немного поодаль стола у окошка и пила с нами чай, чем была очень довольна.
К ужину почти всегда кто-нибудь приезжал к нам из театра, зная, что мы дома. И всех-то у нас принимали радушно, хлебосольно, и всем-то было и хорошо и тепло. Должна сказать, что я редко встречала более патриархальный и гостеприимный дом, чем наш, благодаря удивительной простоте и самобытности склада всего дома, происходившего больше от отца. Он никогда не подражал никому и ничему, был совершенно равнодушен к роскоши я к громким именам. Он одинаково относился, как к фотографу греку Кукули, которого подхватил в Александровском саду, гуляя с ним, так и к какому-нибудь Шереметеву. Он любил иметь полный дом, но без роскоши, как я уже писала.
Толстые вскоре уехали, к вашему большому сожалению, а остальные остались до 12 января 1864 г. и провели со мной мои именины.
Отец пишет Толстым (12 января 1864 г.):
«…Сегодня именины Татьяны Александровны – прошу поздравить ее от меня и извиниться, что прежде не писал. А моя Татьяна завела гитару и бредит цыганскими песнями, а об madame Лаборд и слышать ничего не хочет; вы совсем испортили ее в Ясной.
Подбили мою старуху ехать сегодня в маскарад в ложу, слушать цыган, и сейчас послали за домино, несмотря на то, что уже 11 часов ночи. Народ бедовой, эмансипация настоящая. Хуже поляков».
Я часто впоследствии вспоминала свою мать. С каким терпением и любовью она выносила все, что касалось нас, а ей это было трудно с больным мужем. Мать понимала, что для меня это время было и будет незабвенно.
Это была моя последняя счастливо проведенная зима в Кремле с веселым праздником Рождества. Я писала Поливанову [13 октября 1862 г.]:
«Не завидую вам, что вы живете прошедшим, предмет, а я так себе, настоящим наживаюсь. Верно, мне лучше этих лет и вообще этого время никогда не будет. Я сама это чувствую… Я вам всегда писать буду, если горе и веселое будет, я вам все чертить буду; верно, вы хоть и далеко от нас, а все-таки все понимать и во все вникать будете».
XXI. Письма толстых
Прошла неделя с тех пор, как все разъехались. В доме тишина. Вечер. Мне тоскливо. Тишина упнетает меня. Я одна иду бродить по всему дому.
Мама с папа в кабинете. Здоровье отца плохо. Лиза делает английский перевод.
«Счастливая, – думаю, – всегда занята, не то, что я».
Я обхожу всех. Мальчики внизу с гувернером Гю-бер играют в шахматы. Иду дальше. Слышу разговор в девичьей. Прасковья и Федора о чем-то смеялись, но, увидав меня, переглянулись и замолчали. Мне обидно: я хочу в чем-то участвовать с ними, хочу знать, чем они живут, и что-нибудь услышать от них.
– Федора, тебе хорошо на свете живется? – спрашиваю я. Одиночество навело на меня философские мысли. Федора смеется:
– Ничаво, хорошо, – отвечает она.
– Что ты, дура, смеешься, ты скажи барышне, о чем радуешься, – сказала Прасковья.
– Что, скажи? – спрашиваю я Прасковью.
– Да сегодня к Степаниде Трифоновне сватов засылали из Покровского. Значит, жениха нашей Федоре сватают.
– Кого же? – с удивлением спросила я.
– Да того сторожа, что на Химке у купален живет, – отвечала Прасковья. – Да чего ты, дура, все смеешься. Ты расскажи сама-то, – обратилась она к Федоре.
Но Федора продолжала молчать и улыбаться.
– Ну, а как же дело со сватами было, и сколько их приезжало? – спросила я.
– Да двое – родственники жениховы. Мать женихова их присылала. Мужики хорошие, степенные, – говорила Прасковья.
– Ну и что же они? – спрашивала я.
– Мы Федору-то принарядили и сватам показали. Чаем их напоили у Степаниды Трифоновны в комнате. Ну и ничего, кажись, она им пондравилась.
– Что ж вы меня не позвали? – полушутя спросила я.
– Ну что ж девку-то конфузить! На людях-то и сватам не разобраться, – говорила Прасковья.
– Федорушка, ну, а как же ты решила? – спросила я.
– Да надыть у Любовь Александровне спросить, как они скажут, – отвечала она, краснея.
– Да ведь ты теперь вольная, Федора, – сказала я.
– Ничего, пущай спросит, – вмешалась Прасковья, – Любовь Александровна ей за мать были.
– Мама, наверное, благословит тебя, если ты этого хочешь, – сказала я.
Но Федора так и не сказала ни своего мнения о женихе, ни о СВОИХ чувствах, а только застенчиво посмеивалась и краснела.
«Как у них все это просто и хорошо, никаких ухаживаний, никаких влюблений. Все ясно. И к чему это ожидание год», – невольно применяя к себе разговор с Федорой, думала я.
Через несколько дней мы получили первое письмо от Толстых. Приведу отрывок из письма (от 16 декабря 1863 г.) Сонм к родителям и приписку Льва Николаевича:
«…От поездки в Москву осталось очень приятное, хорошее впечатление, если б не болезнь папа. Непременно за границу надо. Когда вспомню Кремль, мне представляется огромная шумная картина, много лиц, всё любимых, длинный стол, светло, и одно лицо за другим с такими различными и славными выражениями. А у нас тихо, пусто, мирно. И я так привыкла к этой жизни, что уже забыла свою прежнюю кремлевскую жизнь с этой обстановкой, которая теперь оставила во мне такое впечатление. Все еще мне слышится голос мама из саней, когда вы нас провожали, и так я вас всех беспрестанно вижу и слышу. Что-то вы все теперь? Так ли у вас, как было при нас? Должно быть и Соня Горсткина уехала. А если нет, то поцелуйте ее от меня крепко. Я ее еще больше полюбила последнее время. Так мы с ней во многом сошлись. Лиза была как-то особенно мила и весела. Я ее такой никогда не видала. Поцелуйте от меня Таню, тоже особенно. Без нее не то в Ясной Поляне. Так стало тихо, пусто. Не с кем ma tante'aм[94] в безик играть. И они скучают. Вот весной, Бог даст, опять ее увезем. Я ей напишу скоро. Скажите ей, что я очень всегда люблю и что я ей неизменный друг. Слышишь, Танечка?..»
Дальше Соня спрашивает совета о маленьком Сереже.
Приписка Льва Николаевича:
«Я так доволен своей аккуратностью в сроке пребывания в Москве, что намерен во всем быть аккуратен и писать вам так же аккуратно, как М. А. Нынче хоть поздно, но приписываю только подтверждение всего, что пишет Соня. Только с Горсткиной мы не сошлись в том, что нужно мужей ревновать, зато сошлись в том, что она прелесть какая милая».
Через несколько времени я получила полушуточное и полусерьезное письмо от Льва Николаевича.
«Mademoiselle!
Aimer ou avoir aime cela suffit!..Ne demandez rien ensiute. On n'a pas d'autre perle a trouver dans les plis tenebreux de la vie. Aimer est un accomplissement[95].
Вы взыграйте, гусли мысли,Я вам песенку спою.La jeune fille n'est qu'une lueur de reve et n'est pas encore une statue[96].
Кабыла i… паганец.
В центре земли находится камень алатырь, в центре человека находится пупок. Как непостижимы пути Провидения! О, младшая сестра жены своего мужа! В центре его иногда еще находятся предметы. Все предметы подлежат закону тяготения в обратном отношении квадратов расстояний. Но допустим противное. Наталья Петровна не может есть ботвиньи. Лошадь возвращается к своему стойлу. Игра случайностей преследует сына праха. Возьми и неси его выше».
Дальше идет шутливое описание нашей поездки весной с братом и cousin Кузминским:
«Я видел сон: ехали в мальпосте два голубя, один голубь пел, другой был одет в польском костюме, третий, не столько голубь, сколько офицер, курил папиросы. Из папиросы выходил не дым, а масло, и масло это было любовь. В доме жили две другие птицы; у них не было крыльев, а был пузырь; на пузыре был только один пупок, в пупке была рыба из охотного ряда. В охотном ряду Купфершмит[97] играл на валторне, и Катерина Егоровна[98] хотела обнять его и не могла. У ней было на голове надето 500 целковых жалованья и резо[99] из телячьих ножек. Они не могли выскочить, и это очень огорчало меня. Таня, милый друг мой, ты молода, ты красива, ты одарена и мила. Береги себя и свое сердце. Раз отданное сердце нельзя уж взять назад, и след остается навсегда в измученном сердце. Помни слова Катерины Егоровны: в шманткухен[100] не надо никогда подливать кислой сметаны. Я знаю, что артистические требования твоей богатой натуры не таковы, как требования обыкновенной девушки твоих лет; но, Таня, я, как опытный человек, любящий тебя не по одному родству, говорю тебе всю правду. Таня, вспомни M-me Laborde, и у нее ноги слишком толсты по туловищу, что, с некоторым вниманием, ты можешь всегда заметить, когда она на сцене выходит в панталонах. Жизнь переделает многое. Извини меня, милая Таня, что я даю тебе советы и стараюсь развивать твой ум и твои высшие способности. Ежели я позволяю себе это, то только потому, что искренно люблю тебя.
Твой брат Лев».
Письмо это, чушь, перемешанная с серьезными советами, – мне было понятно.
Отец писал и говорил Льву Николаевичу, чтобы он почитал мне мораль, и что я его одного слушаюсь. Я, прочитав это в письме, сказала Льву Николаевичу:
– Терпеть не могу этих моралей из «Зеркала добродетели»[101] и не буду их слушать.
Лев Николаевич в своих письмах упоминает об этой книге. К сожалению, большинство писем нешуточных пропало. Их пересылали по просьбе брата в Польшу, где он служил.
Я писала Соне и Льву Николаевичу, что хандрю и не знаю, кому верить и чему верить, что папа, хотя и осторожно, дает мне чувствовать, что этот брак ведет за собою препятствия, почти непреодолимые, а что Сергей Николаевич мне ни разу не писал об этом.
Лев Николаевич пишет мне (приписка в письме С. А. Толстой от 20 февраля 1864 г.):
«Да, будь умна, милая Таня. Ей Богу, лучше. Чему быть, тому не миновать. Жизнь устраивает всё по-своему, а не по-нашему, и на это не надо сердиться и ждать терпеливо, умно и честно. Иногда думаешь, что жизнь устраивает противно твоим желаниям, а выходит, что она делает то же самое, только по-своему. Всё это к тому, что дурацкой проигрыш всегда сильно действует и переменяет и возбуждает человека. Я по опыту знаю. Ежели он теперь поедет за границу, чего я очень желаю, то там он вполне опомнится, и там, что скажет и решит, то будет правда. Когда ты увидишь Сережу – ежели увидишь – возьми с него слово написать тебе из-за границы. И что он оттуда напишет, тому верь. А впрочем, главное, будь умна и не увлекайся романтизмом. У тебя целая жизнь впереди и жизнь, обещающая много счастия. Прощай».
Такие письма поддерживали меня нравственно. Наступил самый скучный для меня месяц – февраль. Но все же я не унывала и старалась полезно проводить свое время: училась музыке, пению, брала уроки английского языка и много читала. Но когда запахло весной, приближалась святая, любимая моя неделя, меня потянуло в Ясную.
XXII. Весна
– Мама, когда же вы меня пустите в Ясную? Я немогу больше оставаться в Москве, я все пропущу: и прилет птиц, и как оденутся «Чепыж», «Заказ» и ясенские липы в саду, – говорила я, чуть не плача.
– Подожди еще: снег в овражках лежит, – говорила мама. – Ведь только еще начало апреля. Куда торопиться. Опять же и Саша приедет. Он хочет с тобой ехать.
– Мне скучно, меня душит Москва, я в Ясную хочу продолжала я, чуть не плача. – Я Соню хочу.
– Ты блажишь, и это нехорошо. Опять же ты невеста, и тебе неловко торопиться в Ясную.
– Почему? Очень мне нужно! Ведь он за границей. Меня Левочка и Соня еще в марте уговаривали ехать в Ясную.
– Мало ли что уговаривали, – продолжала мама. – Тебе будет неловко перед людьми, что ты торопишься к его возвращению в Ясную, тебя же осудят.
Мне вдруг показалось обидным, что я чего-то жду, что я должна считаться с какими-то приличиями невесты, а он свободен (как мне тогда казалось) и живет за границей. Меня угнетала мысль, что я пропускаю расцвет весны, из-за чего? Я совсем и не еду в Ясную из-за того, чтобы его видеть, да его и нет! – говорила я себе.
– Мама, – вдруг решительно, раскрасневшись от волнения, сказала я, – я презираю этот ложный стыд, про который вы говорите мне.
– Напрасно, это не ложный стыд, это приличие, это известная скромность молодой девушки.
– Нет, нет, – кричу я, – это не скромность, это приторное притворство! А я не хочу его!
16-е апреля 1864 г. Я с братом в Ясной. Брат отпущен ненадолго. Дорогой он говорил мне, что отец переводит его в гвардию, что польская глушь и чуждая ему сфера тяготят его.
– Хотя есть в полку хорошие товарищи, с которыми жаль будет расстаться, – прибавлял он.
Лев Николаевич встретил нас в Туле. Он здоров, весел, мил и бодр, чему я была рада. Соня писала, что он хандрил и кашлял, и я боялась его встретить хворым.
Нас ожидают катки тройкой. Тот же Индюшкин с подслеповатыми глазами и доброй улыбкой, тот же Барабан в корню, с шлеею, подвязанной веревочкой, и милая Белогубка и Стрелка на пристяжке.
О, как радостно забилось мое сердце при виде всего этого!
В Ясной все то же. Тетенька встречает меня словами:
– Notre chere Таня nous revient avec les hiron-delles[102].
– Наша-то, наша приехала! – кричит Наталья Петровна, обнимая и целуя меня.
Соня здорова, весела, и опять у меня с ней бесконечные беседы.
– Таня, ты просила меня устроить тебя одну внизу в маленькой комнате, – говорила Соня. – Я приготовила тебе, пойдем смотреть. Без твоей просьбы я бы не решилась поместить тебя в такую комнатку.
– Ты знаешь, мне совестно и кажется, что я стесню вас, с прибавлением вашего семейства, – сказала я.
– Какие пустяки ты говоришь! – воскликнул Лев Николаевич. – Ты нас никогда ничем не стеснишь. А потом ты думаешь, ты даром живешь у нас – я тебя всю записываю, – сказал он, смеясь, полушутя, полусерьезно.
Соня повела меня вниз. Я не узнала этой комнатки в одно окно. Пол был обит сукном. Постель, туалет, все было белое, прозрачное с розовыми лентами. Драпировки, стены – все белое. Я была очень довольна.
– А рядом с тобой будет детская с Марьей Афанасьевной, Сережей и девочкой Таней, которую я ожидаю в октябре, – сказала Соня.
Тяга вальдшнепов была во всем разгаре, и в тот же вечер Лев Николаевич и мы все поехали на тягу.
Мы остановились недалеко от пчельника в молодом лесу. Все заняли свои места. Рыжий сеттер Дора, еще щенком подаренный Льву Николаевичу моим отцом, теперь красивая, большая собака, лежал у ног Льва Николаевича.
Тишина была полная. Даже Соня, не умеющая сидеть без дела, находя себе всегда какое-нибудь занятие даже в лесу, притихла.
При приближении вальдшнепов с их характерным хорканьем и свистом – все замирало.
Дора, навострив уши, сидя на задних лапах, вся превращалась в слух. Быстро, как бы раскачиваясь на лету, пролетали парами и по одному вальдшнепы. Слышался взвод курков, раздавались выстрелы… Но не знаю, к счастью или к несчастью, но выстрелы были редко удачны.
Я раньше бывала в этом лесу, но теперь не узнала бы его. Так красив был его весенний пушистый наряд при закате солнца. Вдали кричали зайцы, и слышалось фырканье наших лошадей.
– Таня! – окликнул меня Лев Николаевич. – Каков вечер, а запахи какие? Лучше твоих «Violettes de Parme»[103].
– Да, да, прелесть, – восторженно отвечала я. – А ты не знаешь, что я испытываю – какой рай после городской пыли, духоты и треска мостовой.
Я в первый раз видела весну в деревне. Она трогала меня. Эта весна действительно была такая, какую описал много позднее Лев Николаевич в романе «Анна Каренина».
«Прекрасная, дружная, без ожидания и обманов весны, одна из тех редких весен, которым вместе радуются растения, животные и люди».
Что можно прибавить к этому описанию?
Брат Саша говорил Льву Николаевичу, что утренняя тяга не так хороша, как вечерняя. Это взволновало отца, и он писал Льву Николаевичу (3 мая 1864 г.):
«…Я все еще не насытюсь рассказами Саши, но впрочем он тюлень, от него не скоро добьешься подробных описаний всех происшествий – подавно охотничьих. Между прочим, разговаривая об тяге вальдшнепов, я вижу, что он наврал тебе чепуху, да еще меня тут припутал; он уверял тебя, что в утреннюю тягу вальдшнеп не кричит. Вальдшнеп тянет почти во всю ночь, но среди ночи реже, чем на зорях. В утреннюю зорю он начинает тянуть перед рассветом и тянет до восхождения солнца – кричит все равно, как вечером, а летит тише и плавнее. Слышно его далеко, но они так рано начинают тянуть, что не всякого разглядишь.
Бывало, я всегда становился лицом к востоку, чтобы его виднее было, и не раз случалось мне убивать вальдшнепа и не видеть, куда он упал. Иногда приносила собака, а большею частью я поднимал их тогда, когда кончалась тяга и я сходил уже с места.
Утренняя тяга восхитительна и часто бывает гораздо лучше вечерней. Мы, бывало, в мае придем с вечерней тяги, напьемся чаю, поужинаем, приляжем, поболтаем, иногда и немного заснем, а глядишь, уж пора идти; в мае выходили мы из избы в половине второго и не позднее двух часов, подавно, если это было еще в первых числах мая. Обыкновенно с утренней тяги ходил я в лес за рябчиками на манку[104] или с подходу за тетеревами, которых подчуфыковал.
Блаженные и незабвенные времена! Выше удовольствия в жизни я не ощущал, как те, которые доставляла мне охота, не как промышленнику, но как обожателю природы и наблюдателю того, что в ней таится.
После этого вообрази, как бы я счастлив был, если б мог вместе с тобою, в твоем обществе насладиться этим удовольствием. Не люблю я этого гама и шума, неизбежных атрибутов охоты с гончими и борзыми; для меня не в пример приятнее тишина и неторопливость, неизбежные при ружейной охоте. С доброй собакой и ружьем на плече и одному скучно не бывает. Не поленись, сходи когда-нибудь на утреннюю тягу, но возьми с собой провожатого без ружья, который бы стоял около тебя и принес бы тебе вальдшнепа, которого бы удалось тебе убить, да и всегда не лишнее иметь при себе ночью в лесу надежного товарища; пожалуй набредешь и на волка, а он как раз стащит собаку, подавно, если она далеко отбежит. Мы, бывало, всегда опасались этой встречи и ночью держали собаку около себя, а молодых держали на сворке…»
Прочитав это письмо, Лев Николаевич сказал:
– Так может писать только настоящий охотник, понимающий и любящий природу.
Я была горда за отца. «Это справедливо», – думала я.
Помнится мне один случай, происшедший с нами. Виною его была я.
Мы ехали на тягу в катках тройкой. Нас было шесть человек, из них двое гостей, приехавших из Тулы: Келлер и Мичурин – учитель музыки. Мичурин часто бывал у нас, играл со Львом Николаевичем в четыре руки, а впоследствии давал детям уроки музыки.
На этот раз решили ехать на тягу за реку, через большой лес. Местоположение было дивное, и новизна места веселила меня. Я ехала вместо кучера, как это вошло в обыкновение. Уроки Сергея Николаевича послужили мне впрок.
Тяга была из удачных. Мы замешкались. Я нашла упавшее гнездышко с яичками и занялась им. Одна Соня торопила нас домой. Мы и не заметили, как быстро стемнело, и набежала большая тучка.
– Таня, темно, довезешь ли нас? – спросил Лев Николаевич.
– Довезу. Я хорошо вижу.
– Ну, да я только потому и оставляю тебя, что сам вижу очень плохо.
Не могу сказать, что я без страха садилась на козлы, но я стыдилась признаться в этом и храбрилась.
Плотину через реку Воронку мы проехали благополучно, хотя молодая пристяжная, навострив уши от шума воды, как раз на мосту налегла на коренника. Вспомнив, что делал в таких случаях Индюшкин, я слегка хлестнула пристяжную. Усердный старик Барабан навел порядок и вывез нас благополучно к самому лесу.
«Теперь самое трудное, – думала я, – это темный лес».
Поднялся ветер, который смутил меня. Мы въехали в самый лес. Сначала в темноте я ничего не разбирала. Надеясь на лошадей, я пустила их свободно.
– Таня, ты видишь что-нибудь? – с тревогой спросил Лев Николаевич.
– Ничего, вижу, – нехотя отвечала я.
Дорога лесом шла с версту. Весенняя грязь – топкий суглинок с глубокими неровными колеями и буграми то и дело затягивал колеса и шатал нас из стороны в сторону.
Накрапывал дождь, сверкнула молния. Глаза мои привыкли немного к темноте, и я уже разбирала дорогу. Мы ехали шагом, и одна моя забота была не зацепить за суки деревьев пристяжную и колесом за пень.
«Господи! пронеси нас», – тихонько молилась я.
Этот путь казался мне бесконечным. Но вот мы миновали лес и въезжали на довольно широкую дорогу, ведущую мимо гумна.
«Дома, дома!» – весело думала я и пустила лошадей мелкой рысцой.
– Ай да кучер! – сказал Лев Николаевич, – довез нас.

