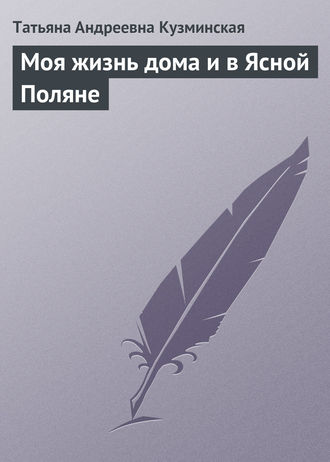 полная версия
полная версияМоя жизнь дома и в Ясной Поляне
Теперь, если напишешь, то уже вероятно за границу; я тебе сейчас же адрес дам. Как хорошо было, и охота, и последняя поездка в Пирогово, как мы все прощались.
Ну, Соня, прощай, тетеньку от меня и Марью Николаевну расцелуй, и тебя крепко обнимаю, желаю позднее и благополучнее родить. Что Сережа здоров ли? Левочке кланяюсь. Когда-то я опять увижусь с вами! Все храбрюсь, храбрюсь, а все не могу всего из себя выдавить. Как бывает дурно, сейчас тогда убегу куда-нибудь, выплачусь и опять готова перед родителями и всеми. Все думала: вот 16-го приедут к вам Марья Николаевна, Зефироты, весело вам.
Левочке я куплю, что просил.
Твоя Таня».
Часть III
1864–1868
I. Операция отца
Начало октября 1864 г. Мы в Петербурге у дяди Александра Евстафьевича, брата отца. Здоровье отца ухудшилось. Призваны лучшие доктора. За границу не едем. Решили делать операцию трахеотомии. Отец просил Раухфуса быть его оператором. Раухфус был тогда молод и только что входил в славу. Выбор был удачен. Раухфус был не просто хороший хирург, – он был талантлив. Со временем это была популярная знаменитость, что не мешало ему сохранить во всю свою жизнь скромность и вести трудовую жизнь, делая добро, где только можно.
Отец простудился, и операция была отложена. В это время мы узнали о печальном известии – падении Льва Николаевича с лошади. Я писала об этом брату. Приведу отрывок моего письма (от 11 октября 1864 г.):
«Левочка поехал на охоту один с борзыми на сумасшедшей лошади Машке[110]. Вскочил русак. Он:
– Ату его!
И поскакал во весь дух. Наскакал на узкую, но глубокую рытвину. Лошадь не перескакала и упала, он с нее и расшиб и вывихнул себе руку. Лошадь убежала, он встал и поплелся. Он говорит, что ему казалось, что все было очень давно, что он когда-то ехал и упал и т. д. До шоссе было с версту. Он дошел и лег. Проезжали мужики, положили на телегу и повезли в избу, чтобы не испугать Соню. Мама приготовила ее, но все-таки было ужасно. Приехал доктор Шмигаро и восемь раз принимался ее править, и ничего не сделал.
Мама одна все присутствовала при этих страданиях. Шмигаро уехал, и утром приехал другой, который с хлороформом выправил отлично руку. Ночь он провел в страшных страданиях, а теперь он почти здоров».
Этот случай убедил меня, что одна беда никогда не бывает, а влечет за собою другую.
По ответу отца можно судить, как поразило его и всех нас это известие. Отец пишет (в ответ на письмо Сони, написанное раньше моего письма к брату) из Петербурга 6 октября 1864 г.
«Милые и добрые друзья мои.
Я нахожусь со вчерашнего дня в таком волнении, что не был даже в состоянии взять пера в руки, чтобы изъявить вам мою радость и поздравление об новорожденной Татьяне. Вчера в два часа пополудни получили мы телеграмму, а в 4 часа принесли нам письма от мама и Сони. Ужасная катастрофа твоя, любезный Лев Николаевич, так уничтожила нас всех, что мы с Таней оба просто расплакались, и я долго не мог ее утешить; а брат мой принялся тебя бранить, что ты, как отец семейства, должен бы более себя беречь и не ездить на охоту на лошадях, которые не приспособлены к ней. Одним словом, твой вывих руки заглушил в нас всякую радость и навел на всех большое уныние.
Признаюсь, что я до сих пор не могу успокоиться. Вся эта ужасная картина: твои страдания, Соня, жена и все прочие, не знающие, за что взяться и чем пособить, и кончательно твой урод Шмигаро, который берется за дело, ему незнакомое – все это расстроивает душу и наводит хандру, от которой я и так не знаю куда деваться…»
Настал ожидаемый тяжелый день. С утра начались приготовления. Помню эту безмолвную суету, чужих лиц в белых фартуках, длинный стол в пустой комнате и дядю Александра Евстафьевича, энергично распоряжавшегося всем.
Когда все стихло, бодрым шагом вошел отец. Он не имел угнетенного вида, но милое лицо его выражало волнение.
Я с Лизой стояли в стороне. Отец обратился ко мне:
– Таня, ты бы ушла, а Лиза пускай останется. Лиза тоже обратилась ко мне с этими словами.
– Папа, я не уйду, – решительно сказала я. Затем подошел Раухфус и тоже уговаривал меня уйти. До сих пор не понимаю, почему так настойчиво выпроваживали меня и оставляли сестру. Вероятно, мой непрочный вид, в сравнении с Лизой, не внушал доверия. Я опять повторила, что хочу быть с отцом и не уйду.
– Оставьте ее, пускай делает, как хочет, – сказал отец. – Я готов. Можно начинать.
Операция началась. Хлороформировать отца было невозможно. Наступила мертвая тишина. Лиза стояла около отца. Я оставалась на своем месте, поодаль, не спуская глаз с отца. Я видела, как он страдал.
Когда показалась тонкой струйкой кровь, послышался легкий стон, но стон не отца.
Я взглянула на сестру. Она помертвела, зашаталась, и один из фельдшеров сильной рукой обхватил ее и почти вынес на руках в другую комнату. Ей сделалось дурно при виде крови.
Я испугалась за отца и близко подошла к тему.
– Ничего, папа, Лиза сильная, ничего, ты не беспокойся, – говорила я, чтобы только его успокоить.
Я видела, что дурнота Лизы очень волновала его. Он взял меня за руку и так держал все время. Я чувствовала, что ему было приятно иметь около себя близкое существо.
Операция продолжалась 35 минут.
Самая ужасная минута была последняя, когда трубку вставили в горло. Папа вдруг поднялся, стал как бы ловить воздух и показывать рукой, чтобы ему дали писать. Ему подали бумагу и карандаш, и он написал: «Задыхаюсь… умираю…»
Раухфус успокаивал его, что это сейчас пройдет, что это обычное явление: напор воздуха слишком силен. Раухфус учил отца дышать.
Эта страшная минута, когда я видела отца с блуждающими глазами и мертвенным цветом лица, мне показалась вечностью.
Оправившись после удушья, отец с чужой помощью перешел в свою комнату.
Я побежала к себе и, упав на кровать, плакала и молилась.
Следующие ночи Лиза и кузина попеременно дежурили у отца. Отец поправлялся, но медленно. Я дежурила у отца по вечерам. Я помню трогательное внимание его: для меня всегда был приготовлен пряник, мармелад или что-нибудь сладкое. Папа знал, что я это люблю, а дядя смеялся и дразнил меня говоря: «Ах ты, балованная baby!»
Мы получили телеграмму от Толстых, что Соня благополучна и мама приезжает в Петербург. Отец принял радостно это известие.
Мама в Петербурге. Я ожила. «Теперь все пойдет на лад», – говорила я себе.
И действительно, отец сразу стал бодрее, он лучше и спокойнее спал ночи. Мама водворилась в кресле у его изголовья, и это внушало всем нам веру в хороший исход. С приездом мамы навещали нас родные, но к отцу никого еще не пускали. Я виделась с Кузминским, с Поливановым. Анатоля в Петербурге не было, чему я была рада.
Пребывание мое в Петербурге казалось мне продолжительным. Оно было так непохоже на то, как я была здесь два года тому назад, и одна лишь милая Верочка уносила меня немного в молодой мир. Она, по настоянию отца, гуляла, каталась со мной и делала со мной кое-какие покупки.
Мама рассказывала нам о страданиях Льва Николаевича:
– Хотя ему и вправили руку, но все же я не очень надеюсь на его выздоровление. Уж очень плохи тульские хирурги, да и сам Лев Николаевич неосторожен.
Говорили и про Соню, что девочка ее славная, здоровенькая, и Соня сама кормит ее.
– А Варенька и Лиза в Ясной? – спросила я.
– Как же, они все время с Соней; очень милые девочки, – прибавила мама.
– Счастливые, – чуть не со слезами сказала я. Лиза и я поехали домой. Нас посылала мать: дом остался без хозяев. Мне мама поручила надзор над домом и деньги, Лизе – детей и все хозяйство.
II. Дома
Хотя дома, как говорится, и стены помогают, но все же было грустно въезжать в пустой дом. Только и была приятна радостная встреча братьев. Они шумно встретили нас в передней, когда увидали в окно нашу карету. Я сразу принялась за хозяйство. Я пишу Соне, 23 октября 1864 г.:
«Вот мы и в Москве, милая Соня. Мы приехали вдвоем третьего дня. Все дети, люди нам ужасно обрадовались. Папа мы оставили в хорошем духе и состоянии, и все читал нам нотации, чтобы мы под вагон не попали. Вообрази, Соня, в Москве Трубецкой объявил в Совете, что получили депешу, что папа умер. К детям приехал Анке, убитый, грустный, Армфельд. Сидят и разливаются, плачут. Одни Перфильевы знали правду; к детям беспрестанно приезжали узнавать, что они, и думали, что им еще этого не писали. Одним словом, в Москве его все похоронили и оплакивали. Клавдия прилетела в день нашего приезда без воротничка, растрепанная, в слезах посмотреть, что мы. Это очень хорошо, значит, долго жить папа. У нас так тихо, так пусто в доме без родителей. Лиза ноет и скучает целый день, а я с утра до ночи пою и занимаюсь „почем тетерева?“. Все хозяйство мама поручила мне. Я теперь езжу закупать яблоки, заказываю стол, выдаю все и веду счеты. Я так рада, что мы уехали из Петербурга: он такое дурное впечатление произвел на меня этот раз… Опять та же Москва, так же скучно, да еще без родителей. Как я скучно, дурно кончаю свои 17 и начинаю 18 лет… В Петербурге папа подарил мне чудную настоящую гитару. Я так к нему привязалась в Петербурге, что очень скучаю по нем, а изноешься на него смотреть, как он изменился, исстрадался, а мама до того с ним каждой безделицы пугается, что я ее не узнаю: она, такая твердая обыкновенно, теперь сама похудела, с нами прощалась, чуть не плакала…»
Ко дню своего рождения, 29 октября, я получила от Вари и Лизы Толстых письмо с припиской Льва Николаевича. Лев Николаевич пишет мне:
«Здравствуй, Таня. Поздравляю тебя. 18 лет, это лучший, самый лучший возраст. В этом-то году и придет тебе твое хорошее счастье. И больше меня ему никто радоваться не будет. Покинула ты меня – мой стремянный. Я без тебя изувечился. И, право, начинаю бояться, не остаться бы калекой 4 недели, а рука всё не поднимается и всё болит. И Фанни убежала от меня и пропала. Я послал искать. Что у вас? что мой дорогой, милый Андрей Евстафьевич? А я – гадкий эгоист, в душе рад, что вы вместо Ниццы, Бог даст, рано весной к нам приедете. – То-то я буду доволен. Правда, ты говорила, что неприятно писать далеко. Пишешь и думаешь: что-то у вас там? Либо Андрей Евстафьевич еще не совсем хорош; либо ты влюбилась уже в какого-нибудь молодого оператора и уехала за границу, а я тебе буду писать об ясенских зайцах. – Соня очень хороша и мила со своими птенцами и труды свои несет так легко и весело. Нынче только она замучилась девочкой, и оттого письмо ее невесело. Прощай, будь здорова и счастлива. Пиши и целуй всех наших».
Родители вернулись из Петербурга в начале ноября к нашей общей радости. Я пишу Соне (13 ноября):
«Мне были две радости за раз, милая моя Соня: приезд родителей и твое давно ожидаемое письмо. Папа мы нашли гораздо лучше, мама веселая и довольная, что опять дома. Петя ездил их встречать, они приехали 12-го… Приехали, растрогались мы все и они ужасно при свидании, этакого случая не было еще никогда. Сейчас пошла суета, раскладка, рассказы, кофе, оживили весь дом после такой тишины. Мама привезла нам много нарядов, тебе плед. Понравится ли? Мне очень. И тут же я получила твое письмо и обрадовалась ему и Зефиротским и не знаю, как тебе сказать, ужасно. Вот так родители у меня, столько приятностей от них…
Соня, ты меня все хвалишь, что я хозяйка и сама хорошая; хвали, голубчик, мне это приятно от тебя слышать…
Какие на меня, Соня, минуты находят отличные: мысли все светлые, приятные, начинаю петь, и голос чистый станет, потом скорее беру журнал и записываю все свое состояние и мысли и так мне не то, что весело делается, а очень хорошо и легко и что-то необыкновенно ясно. Хочу подольше удержаться в этом состоянии, а оно так и проходит понемножку; его у нас никто не знает и не понимает, а я живу и берегу эти минуты… Прощай, душенька, целую крепко тебя… Левочка, мамаша продала еще маленькую „Ясную Поляну“ на 7 рублей. Посылаем желатин, что ты просила, запонки и еще какие-то письма от дяди Володи.
Ваша Таня».
Дошли до нас слухи, что Лев Николаевич, вопреки запрещению тульского хирурга Преображенского, пошел на охоту с ружьем и как-то неосторожно сбил повязку. Рука начала болеть и не могла подниматься. Это так смутило его, что он решил ехать в Москву и советоваться с Поповым, известным в то время хирургом.
Он приехал к нам с своим лакеем Алексеем Степановичем. Это было в 20-х числах ноября 1864 г. Пригласили хирургов; был консилиум, и мнения врачей разошлись, Лев Николаевич был угнетен своею болезнью. То он решал делать операцию, т. е. сломать неправильное сращение кости, то, слушая советы иных докторов, решал лечить руку ваннами и массажем.
Так прошла неделя. Он нервничал, хотя и заботился о помещении первой части «Войны и мира» в «Русском вестнике», издававшемся Катковым. К нему из редакции ездил Любимов. Лев Николаевич пишет жене [27 ноября 1864 г.]:
«Надо было слышать, как он в продолжение, я думаю, 2-х часов торговался со мной из-за 50 р. за лист ‹…› Я остался тверд и жду нынче ответа. Им очень хочется, и вероятно согласятся на 300, а я, признаюсь, боюсь издавать сам».
Лев Николаевич сердился на мелочность Любимова и говорил, что он решил печатать сам отдельной книгой, если Катков будет еще торговаться. Но Любимов так пристал, что Лев Николаевич отдал первую часть в редакцию за 300 р. за лист.
С печатью он покончил. Теперь оставалось решить с рукой. Он долго колебался, советовался с 5–6 докторами и все же не решал. Все почти были против операции. Наконец, как это бывает почти всегда, незначительный ряд обстоятельств, самых ничтожных, заставил его принять решение делать операцию.
После того, как ему сказали, что гимнастика сделает ему пользу, он стал ее делать, но мазание и растирание руки только ухудшали его боль. Он пришел в уныние и поехал в водолечебницу к известному Редлиху.
Лев Николаевич пишет сестре моей [29 ноября 1864 г.]:
«‹…› я очень уныл, и в этом унынии поехал к Редлиху; когда Редлих, у которого была выгода брать с меня деньги, на гимнастике сказал, чтоб я правил, то я окончательно решился; по чистой правде, решился я накануне в театре, когда музыка играет, танцовщицы пляшут, Мишель Боде владеет обеими руками, а у меня, я чувствую, вид кривобокий и жалкий; в рукаве пусто и ноет».
Вечером, как-то до театра, мы разговорились о его руке. Он спросил меня, как бы я сделала на его месте, дала бы править и ломать руку, и было ли бы мне неприятно иметь убогого мужа. Последнее он спросил меня как бы в шутку.
– Я не верю ни в гимнастику, ни в ванны. Это «ies remedes des bonnes femmes»[111], как говорил наш француз Пако, – сказала я решительно.
– Ну, а насчет мужа? – спросил Лев Николаевич.
– А мужа с одной рукой иметь как-то неловко, совестно, – сказала я, подумав.
– Отчего? – спросил он.
– Мужской силы нет, которая должна быть. Это должно быть мужу обидно, и стало быть и жене.
Лев Николаевич пишет Соне, диктуя мне, на другой день:
«‹…› Бояться хлороформа и операции мне было даже совестно думать, несмотря на то, что ты обо мне такого низкого мнения; неприятно мне было остаться без руки немного для себя, но право больше для тебя, особенно после разговора с Таней, который меня еще больше в этом убедил».
– Зачем ты пишешь про меня, – сказала я. – Соня еще обидится на меня.
– Пиши, пиши, ничего, – сказал Лев Николаевич и продолжал диктовать:
«‹…› Катков согласен на все мои условия, и дурацкий торг этот кончился ‹…› но когда мой porte-feuille[112] запустел и слюнявый Любимов понес рукописи, мне стало грустно, именно оттого, за что ты сердишься, что нельзя больше переправлять и сделать еще лучше».
III. Операция Льва Николаевича
На 28-е ноября была назначена операция. У нас в доме с утра почему-то была суета, но все успокоилось, когда приехали доктора. Лев Николаевич смешно описывает, диктуя мне, этот день:
«Теперь следующий день, мое памятное 28-ое. С утра начались необыкновенные события и суетня во всем доме, как-то: первое, барышни, уступавшие мне комнату, переносились; второе, Анночка ma chere[113] с стиркой, произведшей тоже не малое волнение; потом третье: мама с девами, Степой, Лапой, няней поехали в баню; 4-е: приехала Захарьина[114], тоже событие; 5-е: полотеры, которые, мешаясь всем на дороге, танцевали при этом по комнатам; 6-е: портниха с шубками и наконец 7-ое: ожидание Попова и приготовление к операции. Операцию тебе описала Таня, которая обо всем могла иметь большее понятие, чем я; я знаю только, что не чувствовал никакого страха перед операцией и чувствовал боль после нее, которая скоро прошла от холодных компрессов. Ухаживали и ухаживают за мной так, что желать нечего, и только совестно; но, несмотря на все, вчера с расстроенными нервами после хлороформа, особенно после твоих писем, которые пришли четверть часа после операции, я Бог знает как хотел, чтобы ты тут была…».
Операцию делали в спальне матери, предварительно очистив комнату. Отцом были приглашены три хирурга: Попов, Нечаев и его помощник Гаак. Рядом в комнате стояли уже наши два служащих: они должны были тянуть больную руку, чтобы сместить ее с прежнего места. Это был самый трудный и тяжелый период операции. В комнате осталась мать, Алексей и я. Присутствуя при операции отца, я уже смело осталась при Льве Николаевиче, тем более, что он сказал мне:
– Напиши Соне все подробно. Ей интересно будет знать про все мелочи.
К сожалению, подробное письмо мое не сохранилось.
Лев Николаевич очень спокойно приступил к операции, но не мог заснуть от хлороформа. Возились долго. Наконец, он вскочил с кресла, бледный, с открытыми блуждающими глазами; откинув от себя мешочек с хлороформом, он в бреду закричал на всю комнату:
– Друзья мои, жить так нельзя… Я думаю… Я решил…
Он не договорил. Его посадили в кресло, подливая еще хлороформ. Он стал окончательно засыпать.
Сидел передо мной мертвец, а не Лев Николаевич.
Вдруг он страшно изменился в лице и затих.
Двое служащих, по указанию Попова, тянули из всех сил руку Льва Николаевича, пока не выломали неправильно сросшуюся кость. Это было очень страшно. Мне казалось, что без хлороформа операция эта была бы немыслима. Меня охватил страх, что вот он сейчас проснется.
Но нет, – когда рука безжизненно повисла, Попов ловко и сильно как бы вдвинул ее в плечо. Я как сейчас вижу все это, такое сильное впечатление произвела на меня эта операция. Мама подавала лекарства, поддерживала его голову, и после наложенной повязки его стали приводить в чувство. Но это было почти так же трудно, как и усыпить его. Он долго не приходил в себя. Когда он очнулся, то пожаловался на боль в руке, Я просидела с ним весь вечер. Он страдал от тошноты – следствие хлороформа – и долго мучился ею.
Когда же он через два-три дня писал Соне про операцию, он не упоминал о своих страданиях. Я спросила его:
– Ты скрываешь это от нее?
– Да нет, да я не особенно страдал. Я думал, будет хуже.
Прошло несколько дней. Лев Николаевич, видимо, поправлялся. Он принимал к себе всех, кто приезжал навещать его. Помню, приехал как-то вечером А. М. Жемчужников и Аксаков, и Лев Николаевич по настоятельной просьбе их прочел им начало своего романа. Я тоже сидела, слушала чтение и наслаждалась. Он отлично читал вслух – живо и весело.
Лев Николаевич пишет об этом вечере Соне:
«Еще приятное, и очень приятное, впечатленье было нынче то, что Жемчужников приехал ко мне, и я, против твоего совета, обещался прочесть ему несколько глав. Случайно в это же время приехал Аксаков. Я им прочел до того места, как Ипполит рассказывает: одна девушка, и им обоим, особенно Жемчужникову, чрезвычайно понравилось. Они говорят: прелестно. А я и рад, и веселей писать дальше. Опасно, когда не похвалят или наврут, а зато полезно, когда чувствуешь, что произвел сильное впечатление».
Первое время после операции я писала под его диктовку письма к Соне и роман «1805 год», т. е. «Войну и мир». Я как сейчас вижу его: с сосредоточенным выражением лица, поддерживая одной рукой свою больную руку, он ходил взад и вперед по комнате, диктуя мне. Не обращая на меня никакого внимания, он говорил вслух:
– Нет, пошло, не годится! Или просто говорил:
– Вычеркни.
Тон его был повелительный, в голосе его слышалось нетерпение, и часто, диктуя, он до трех, четырех раз изменял то же самое место. Иногда диктовал он тихо, плавно, как будто что-то заученное, но это бывало реже, и тогда выражение его лица становилось спокойное. Диктовал он тоже страшно порывисто и спеша. У меня бывало чувство, что я делаю что-то нескромное, что я делаюсь невольной свидетельницей внутреннего его мира, скрытого от меня и от всех. Мне припоминались слова его, написанные в одной из педагогических статей по поводу совокупного сочинения учеников школы Ясной Поляны. Он пишет о себе:
«Мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть: зарождение таинственного цветка поэзии».
Наша диктовка обыкновенно кончалась словами:
– Я тебя замучил. Поезжай кататься на коньках.
И я ехала с братом, а позднее, когда рука подживала, и он приезжал с дедушкой подышать воздухом и посмотреть на катающихся. Дедушка все это время был у нас и очень баловал меня. Возил мне всякие безделицы, конфеты и горевал, что не имеет прежнего состояния, чтобы взять меня совсем на житье в Петербург.
– Тогда я был бы счастлив, – говорил он. И за это я очень любила его.
Мы иногда ездили в театр и Лев Николаевич с нами. Помню, как понравилась ему новая пьеса Островского – «Шутники». Я взглянула на него в тот момент, когда старик находит на улице подкинутый шутниками денежный пакет, дрожащими руками открывает его и видит, что он пустой, и слышит насмешливый хохот шутников. У Льва Николаевича стояли в глазах слезы, и я сама не могла сдержать слез и прикрыла глаза биноклем. «Это самое сильное место в пьесе». Помню еще, как он восхищался музыкой «Гильом-Телль» – оперы Россини. Особенно первыми двумя актами. Обыкновенно, при возвращении домой, мы иногда очень приятно и весело разговаривали, ужинали и пили чай. Иногда затевался или интересный, или веселый разговор, и мы сидели дольше обыкновенного.
Перед отъездом Льва Николаевича в Ясную отец, по просьбе Анастасии Сергеевны Перфильевой, уговорил его прочесть у них что-либо из начатого романа.
Скажу несколько слов о семье Перфильевых.
Кто не знал в те времена патриархальную, довольно многочисленную, с старинными традициями семью Перфильевых? Они были коренные жители Москвы. Старший сын генерала Перфильева от первой жены был московским губернатором и старинным другом Льва Николаевича.
Я помню, когда вышел роман «Анна Каренина», в Москве распространился слух, что Степан Аркадьевич Облонский очень напоминает типом своим В. С. Перфильева. Этот слух дошел до ушей самого Василия Степановича. Лев Николаевич не опровергал этого слуха. Прочитав в начале романа описание Облонского за утренним кофе, Василий Степанович говорил Льву Николаевичу:
– Ну, Левочка, цельного калача с маслом за кофеем я никогда не съедал. Это ты на меня уж наклепал!
Эти слова насмешили Льва Николаевича.
Анастасия Сергеевна была очень популярна в Москве. Ее здравый ум, энергичный, смелый характер с отзывчивым сердцем имели притягательную силу и внушали общее уважение.
Перфильевы были друзьями моего отца. По просьбе отца, устроить чтение у Перфильевых Лев Николаевич согласился, только просил не приглашать много гостей, так как чувствовал себя еще не совсем окрепшим. Его желание было исполнено.
IV. Чтение «Войны и Мира». Отъезд Льва Николаевича
В Перфильевской, полутемной большой гостиной, освещенной двумя олеиновыми лампами, собралось несколько человек. С приездом Льва Николаевича пошли приготовления к чтению. Я описала этот вечер в письме к Поливанову. Приведу первую половину письма (без даты), уцелевшую по странной случайности:
«Милый предмет, давно не писала вам, зато много пережила. Прочтите письмо к Саше, где пишу про Левочкину операцию. Теперь он поправился и папа устроил чтение его начатого романа у Перфильевых. Мама не здорова, и мы две девы поехали с папа. Опишу вам все по порядку.
У Перфильевых было несколько человек. Приготовления к чтению напоминали что-то торжественное, вроде как приготовление к крестинам: полутемная гостиная, столик с свечами и водой. Настасья Сергеевна в высоком чепце, на высоком диване. Папа возле. Он в духе и доволен. Когда все уселись, Левочка начал читать. Но начал как-то слабо, точно конфузился. Я оробела. Думаю: „Все пропало“.
Но потом он как бы оправился и читал так твердо, так увлекательно, что я чувствовала, как он потащил всех за собой в высоту. И мне хотелось закричать: „Лечу, лечу!“ Помните, как бывало я кричала после пения или „Евгения Онегина“, что улетаю, а вы спокойно скажете: „Все же на месте останетесь“.

