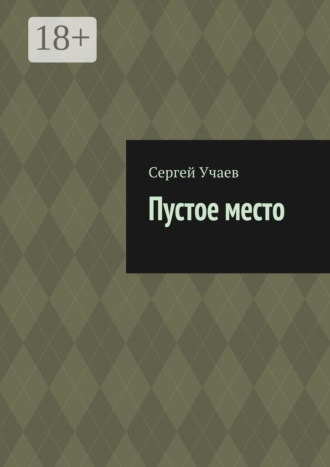
Полная версия
Пустое место
Оттрубив свое, я засобирался. Все, на сегодня с меня хватит. Разумное-вечное посеял, не взойдет, правда, ну да это уже не моя забота. Доброе дело во имя зла сделал. Квесты выполнены, уровень пройден. Сохраняем игру до завтрашнего дня и домой-домой со всех ног.
– Николай Петрович!
В дверях маленькая, худенькая, ни дать ни взять – подросток, Ольга Геннадьевна. Черт, надо было побыстрее сбрасывать в сумку свои манатки, а не копаться. Сделал дело, гуляй смело.
– Вы уже уходите?
– Не просто ухожу, а убегаю со всех ног, Ольга Геннадьевна.
– Торопитесь куда-то?
Лицо востренькое встревоженное, глазешки так и хлопают подведенными ресничками.
– Ага, домой.
– Не задержитесь на секундочку? Вы мне ужас как нужны.
– Не задержусь. Тем более раз ужас. Сейчас сюда следующий класс придет.
– А, поняла, давайте тогда ко мне пойдем. У меня уроки кончились, и никого нет.
Звучит заманчиво.
– Что у вас случилось? – спросил я уже по дороге.
– Да я все с анкетой этой проклятой. Меня же назначили, – раздраженно замахала она руками.
Нервная. Культурная-культурная, а нервная. В истерике, наверное, страшна, подумал вдруг я. Худая, маленькая, обязательно должна быть неудержима в гневе. Но это так, неподтвержденная гипотеза, поскольку видеть ее в крайнем гневе и раздражении мне еще не приходилось. Так только, легкая форма случилась пару-тройку раз в том году.
Анкета. Что они все как с цепи сорвались? Им вчера только поручили, а они уже носятся с ней как угорелые. И еще подумалось. Ольга Геннадьевна – это последняя. Хоть Людмила Ивановна ко мне не придет. Недолюбливает. А так, терпи. Бремя умного человека. Слушать тебя особо не хотят, но если какое дело завертелось, то без тебя точно не обойдутся.
Мы спустились к Ольге Геннадьевне.
Хорошо у нее в кабинете. Сторона в отличие от того класса, в котором я в основном занимаюсь в этом году, солнечная, да и побелили, покрасили в светлые тона. Приятно находиться, не то, что в кабинете литературы, который напоминает каморку Раскольникова. Даже в этом историки выше нас, филологов.
Мы уселись за одну из парт. Ольга Геннадьевна, судорожно пометавшись по своему столу, сунула мне листочки с анкетой. Одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что это практически тот же самый вариант, что и у Екатерины Сергеевны. Правда, качество печати лучше. Ну точно, с интернета скачали. Хотя если у нас задания для внутришкольных олимпиад с каких-то левых сайтов набирают, что тут удивляться. Здесь тем более – сам бог велел. Кому хочется свою жизнь на пустяки тратить? Для галочки делаем. Как на это все посмотрят проверяющие? Я вспомнил фильм «Заводила», где группа поддержки, ведомая Кирстен Данст, вместе с другими командами представила публике одну и ту же программу. Здесь почти такой же случай. Но теперь нынче везде и во всем так. Законы с чужих передираем, что уж говорить об остальном. Наш устав школьный тоже, говорят, Сигизмундыч где-то в интернете скачал. Впрочем, кто будет разбирать? Его ж никто никогда не читал и не прочтет. Разве мы по уставу живем? Мне кажется, никто уже давно ничего нигде не читает. Даже проверяющие. Они тем более. Приезжают – «и садятся все за стол, и великий пир пошел».
Ольга Геннадьевна выжидающе смотрит на меня.
– Где-то я уже это видел, – говорю я.
А сам думаю: что она мне на это скажет. Смотрю за реакцией.
– В смысле?
– Чухлонцева мне сегодня показывала практически то же самое.
– Так я это с Интернета взяла, – ей как будто становится легче (не заморачивается молодое поколение, откровенно и бесстыдно, что естественно, то не безобразно). – Тем лучше. Значит, споров будет меньше.
Как все запросто у нее. Действительно, почти подросток. Но за этой подростковостью та же женская линия. Между олечкиным цинизмом, отсутствием стеснительности, к которым я уже привык, и обволакивающей мягкостью Екатерины Сергеевны много общего.
Женщины. Иногда мне становится нестерпимо жаль их. И это не жалость свысока, мол, убогие создания. Это сожаление о чем-то несбывшемся. О некоем несвершившемся обещании, неосуществленном идеале. Нет, не о блоковской незнакомке. Даже в ней слишком много этого жалкого женского. Очарованная даль против пьяниц. Это как раз очень по-женски. Всегда против, всегда в противовес. Не из себя, самостоятельно в силу своего разумения, а именно в противовес. На публику. Это катастрофическое соотношение слабости и зависимости больше всего отталкивает в женщине. Ну вот зачем они обе прибежали ко мне сегодня? Для чего им я понадобился? Хватали бы свои бумажки и бежали бы сразу к Палычу и Сигизмундычу. Нет, им обязательно нужна санкция самца. Твердая почва, от которой они оттолкнутся и двинутся дальше.
Эта робость, соседствующая с необыкновенной плоскостью мышления и самоуверенностью, произрастающей от противного, меня в женщине удручает неимоверно.
Женщина вообще несуразна. И не только на своем жизненном излете, когда она бочкообразная с разросшейся грудью и распухшим телом начинает брать всех вокруг своей добротой. Молодая женщина, девушка – столь же несуразны. Когда я гляжу на них, то думаю, что им очень мешает тело. Оно просто обременяет их. Даже такое маленькое и невыпуклое в положенных местах мальчуковое, как у Ольги Геннадьевны. Вся жизнь женщины – это борьба с собственным телом, с грудями, с истекающими ежемесячно жидкостями. Женский дух томится в теле как в темнице. Здесь какая-то насмешка природы: эмоциональная, порывистая, романтичная, она прикована к земле своей тяжелой округлой плотью, предназначением порождать плоть, изнуряющей всю ее жизнь промежностью. В этом стремлении украсить свое тело восприятие собственной плоти как чего-то чуждого, выражается ярче всего. Так украшают елку, так делают ремонт. Белят, клеят обои, красят. Не зря все это в народе называют штукатуркой. Женщина лишена цельности, и она отделывает свое тело как нечто внешнее. Собственно во всем, или почти во всем, что кажется важным по сути, по бытию, она проявляет эту легковесность, отчужденность, склонность не к творчеству, а к украшательству.
И эта история с бумажкой Сигизмундыча совершенно женская. Зачем, для чего она? – такие вопросы не стоят перед ней, они просто редко закатываются в ее головку. Женщина не видит здесь принципиального момента. Поэтому она ставит галочку. Поэтому она ищет не пути решения вопроса по существу, а способа скрасить, то, что ей показалось неприятным или неверным, неправильным, неэстетичным. Анна Николаевна, которая разбушевалась на собрании, в этом смысле женщина нетипичная. А может быть уже и вовсе не женщина. Это вполне возможное объяснение. Со старостью женщина становится более цельной, потому что перестает быть женщиной. Бабушка, старуха – это словно вид другой. Впрочем, верхоглядство никуда не уходит, оно остается и в старости, теряя в выпуклости и неестественности. Тело усыхает, пропадает огонь. Истлевшее всегда выглядит цельным.
5 сентября
Сегодня суббота. Наверное, я люблю субботу. Во-первых, потому что пусть это и рабочий день, но уроков сегодня немного – всего два. Во-вторых, у меня все начинается с третьего урока. Теоретически можно поспать. В-третьих, Тане, это жена, тоже не надо спешить в свою контору. Однако она встает, рано, как обычно, чтобы проводить Машу. Для дочери сегодня обычный учебный день, и ей надо тащиться в школу также, как и в будни. Они вдвоем негромко шумят на кухне, готовят завтрак. Слышен шум воды, позвякивание крышки от чайника, шуршание оберток – открывают печенье и пробуют конфеты. Я, пользуясь привилегией субботнего дня, сижу в спальне, не мешаюсь под ногами. Как только все сделают, они обязательно меня позовут. «Не готовить же завтрак двоим отдельно», – в этом жена абсолютно права.
Ждать приходится недолго. Не успел я пробежать глазами и двух страниц в книжке, как раздается знакомое: «А тебе что, особое приглашение нужно?»
Резко, но действенно. Я захлопываю книгу и отправляюсь на кухню, дабы принять участие в утренней общесемейной трапезе.
Кухня у нас небольшая, небогато обставленная, как и положено интеллигентной семье, не обремененной вещизмом и материальными возможностями. В уголке четырехконфорочная печь с духовкой, которую жена стянула из своей старой квартиры. В полную силу из четырех конфорок работает только две, да еще духовка нормально печет. Некомплект, но нам хватает и этого. Сварить картошку или суп на семью из трех человек – многого не надо. Таня периодически подымает тему обновления кухонной техники. Разговор обычно заканчивается ничем – бюджет пуст и, напротив, нуждается в постоянном секвестре. И так уже, как и правительству, приходится экономить на социальных расходах. Жена отказалась от косметики и регулярных походов к зубному, я от своих книжек и журналов, Маша перестала ходить на музыку.
На кухне мы вместе собираемся за столом нечасто и, как правило, совершенно случайно. Обычно обедаем перед компьютером или телевизором в зале. Некоторые, вроде моих отца с матерью, имеют телевизор еще и на кухне – маленький такой бормотунчик, заменяющий радио из детства. У нас не только по причинам финансового характера, но и по принципиальным соображениям маленького окна в мир на кухне нет. На самом деле, это даже хорошо. Когда еще так вот посидишь в тишине втроем?
Возможно, за это я теперь и буду любить субботу. Семья за столом – классика. Маша пьет чай, мы с женой – кофе, естественно растворимый, бюджетный. Раньше у жены был бзик варить настоящий кофе, но опыт показал, что хоть это и вкусно, но обременительно и по времени и по финансам. На столе пара купленных вчера булочек в каком-то подобии вазы, печенье, несколько конфеток – не очень вкусные, честно сказать, сплошной сахар и вязкий пищевой пластилин. Беззвучие, свежий холодок утра, пробивающийся сквозь окно, бодрые ранние солнечные лучи. В тишине это особенно хорошо. Но Таня на молчание не настроена, и магия тихого утреннего единения, почти храмовой тишины, разрушается ее болтовней. Я на нее действую как катализатор. Как видит меня, сразу же начинает говорить.
Сегодняшняя тема – зимнее обмундирование.
– Маше надо зимнее что-нибудь покупать. Она из своего уже выросла. Мы позавчера мерили, пока тебя не было. Да и надо ей что-нибудь не такое откровенно девчоночье по фасону, без кошечек и цветочков, что-то более взрослое, строгое. Ребенок-то вырос.
– Да-да, – соглашаюсь я с ней и, лавируя под градом ее слов, продолжаю впитывать в себя атмосферу необычного утра. Вроде ничего такого, пустяки, а мне почему-то нравится. Словно невидимая сила перетекает в тебя. Чувствуешь ее упругую пружинящую основу – семья за столом.
– Что «да-да?» – меж тем долдонит о своем жена. – Нужно определиться, когда пойдем по магазинам искать. В какие магазины идти тоже надо подумать. В детские, мне кажется, бесполезно, там и ростовки такой нет.
– Тань, в какой магазин идти, это тебе лучше знать. Я женское пока еще себе не покупаю.
– Все смеешься. А у ребенка зимней куртки нет. Говори, когда пойдем? Завтра?
– Завтра не получится. Во-первых, денег нет, зарплату только через месяц дадут. Во-вторых, мне завтра к родителям надо в сад съездить, помочь им вывезти кое-какое барахло.
– И ты мне только сегодня об этом говоришь?
– Почему сегодня? Я еще позавчера тебя предупредил, когда отец звонил.
– Не помню. Предупреждал? – спрашивает она у дочери. Всегда так делает в спорных вопросах.
Маша сегодня особенно задумчива и молчалива. Сидит себе в халатике, мочит печенюшку в чае, еще с раннего детства привыкла, и никак не отучится. А раньше, еще не так давно, годика два-три назад, она тоже щебетала не переставая. Рот не закрывался. Могла с мамой конкурировать влегкую и по силе голоса и по интенсивности речи.
– Что? А, нет, не предупреждал, – соглашается она, не спрашивая, о чем шла речь, с Таней.
Маша, скорее всего, вопрос даже не слышала. Витает где-то в облаках. Это я давно уже научился распознавать. Еще бы выведать, что за облака у нее там такие. Но автоматически согласилась с матерью. Всегда так делает, лет с пяти, как начали мы ее вовлекать в семейный совет по тем или иным вопросам. Не то из женской солидарности, не то из прагматических соображений. С мамой спорить – себе дороже. Папа пообижается-пообижается, да и выкинет все из головы, а мама долго помнит.
Но, может, я и не прав. Твердой убежденности нет. Черт его знает, вполне вероятно, что и не говорил. Закрутился с этим проклятым первым сентября и пошло-поехало все из головы вываливаться.
– Коля. Вот видишь. Зачем меня за дурочку считаешь?
– Я не считаю. Просто был уверен, что сказал.
– Да у тебя всегда так. Признался бы честно.
– В чем?
– В том, что ты меня ни во что не ставишь. Что я для тебя как мебель, как предмет обстановки.
– Ну с чего это ты такое говоришь?
– Говорю. У меня же глаза есть. А ты и сейчас из меня дурочку делаешь.
Маша, замечая, что тихое поначалу утро грозит перерасти в полномасштабный скандал, предпочла ретироваться.
– Так, ладно, я пошла
– Иди-иди, – киваю.
Спасайся. А то мама сейчас разойдется не на шутку.
Пока Маша переодевается и прихорашивается перед зеркалом, Таня продолжает:
– Почему нельзя просто предупредить? Проявить уважение. Ведь у людей могут быть свои планы.
«Какие там у нас могут быть планы», – думаю я про себя. За неделю так набегаешься, что лежишь пластом два дня на диване. Точнее, один. Нет ни сил, ни желания куда-нибудь ползти на улицу. Да и идти, по большому счету, некуда. Раньше, в детстве, мы каждое воскресенье всей семьей направлялись в кино или в гости. Теперь ходить в гости нет никакого желания, а в кино незачем. Вон по интернету все показывают, смотри, за всю жизнь не пересмотришь.
– И вот ты к ним в сад попрешься вместо того, чтобы как все нормальные люди провести выходные с семьей…
– Я бы и вас взял. Хотите?
– Ты еще издеваешься, – бросает она мне, выскакивая в прихожую, проводить Машу.
– Пап, пока, – машет мне дочь уже в плащике и берете с помпончиком из коридора.
– Пока-пока, – не вставая, отмахиваюсь я ей в ответ.
Жена целует дочь перед выходом. Дверь захлопывается, и мы остаемся с ней вдвоем в звенящей тишине утренней квартиры.
Она возвращается за стол.
– Ну зачем ты туда поедешь? Позвони, откажись, – уже спокойно просит она и берет меня за руку.
Объяснять ей, что это родители, и от них трудно вот так, просто отказаться, долго, муторно и бессмысленно. Да и не в этом, в общем-то, дело.
– Я еду сейчас, чтоб потом не ехать, – наконец, цепляюсь я за ниточку лжи. – Они ведь сейчас только первую партию вещей и урожая вывезут. Потом еще в октябре поедут. Каждый год одно и то же. Ты же знаешь.
Она сидит молча, ковыряя чайной ложкой в кружке.
Сразу и не поймешь, что там она думает.
Вдруг встает и обнимает меня.
– Коля, Коля, почему ты для всех, только не для нас с Машей? Даже твои учителки от тебя что-то урывают.
– Ничего они не урывают, – говорю я и целую ее.
Она тянет меня за собой из кухни.
Мой кофе так и остается недопитым.
Спустя какое-то время я наконец выхожу из подъезда. Прохладно. Но холодком по утрам тянет уже и в августе. Рано утром порой стоит довольно густой туман. Он висел и сегодня, заслоняя соседние дома. Однако сейчас белесая пелена развеялась. Вокруг легкая водянистая взвесь и холодные лучи солнца. Прохожих немного, но больше, чем по субботам летом. Многие, подобно мне, все же отправляются сегодня на работу. Обычно я еду в школу на троллейбусе для скорости. Но сегодня, несмотря на то, что время уже слегка поджимает, хочется пройтись пешком. После утреннего.
Женщина опустошает мужчину. Но иногда это опустошение бывает приятным. Ты можешь что-то дать, и от тебя этого хотят и ждут. Не знаю, как кого, а меня окрыляет именно этот абстрактный смысл отношений. Физиологическая часть любви с годами становится чем-то символическим. В ней начинаешь ценить нечто потаенное, лежащее по ту сторону от избитых пошлых телодвижений. Весь человек раскрывается здесь, весь он здесь без утайки. А если нет, то это действительно самое скучное занятие.
Таинство брака. Очень верное определение.
Пустой и довольный я шагаю по улицам. Если бы не школа, осень была бы прекрасна. Но есть какой-то закон в жизни, что самые приятные вещи непременно оказываются чем-то отравлены. Работать летом и зимой, отдыхать осенью. Весна – это даже не время года, а какое-то недоразумение. Ей не достает оригинальности. Впрочем, расцветающая юность всегда неоригинальна. Это относится и к людям. Есть своеобразие в стариках и зрелых людях, свое лицо в детях. Подростки абсолютно одинаковы в своей переходности. Ребенок вытесняется взрослым. Вот и Маша, дочь, стала совсем неинтересной. Утратила детскую непосредственность, не обрела взрослой степенности и уверенности. Стала призраком, тенью себя бывшей и отблеском грядущей. Эфемерное призрачное создание, несмотря на наливающуюся плоть. Но разве она в человеке главное? Четкое детское истаяло, пропала твердость и непосредственность, начинаются духи и туманы, вслед за которыми окостенение и угасание рвущегося мятежного духа в стареющем теле. «Глаза навсегда потеряли свой цвет».
Я и сам чувствую старение. Стою подолгу у окна и рассматриваю в образовавшееся от яркого солнца отражение собственные вваливающие щеки. Когда это началось? Когда я начал терять себя? Лет в двадцать шесть. Я обнаружил это в командировке. Душевая комната в стандартном гостиничном номере, большое зеркало на стене, вширь, а не в длину. Они всегда их вешают так, чтобы приходилось наклоняться. Я увидел себя, еще не успев поклониться раковине. Куда исчезла юношеская худоба? Плотный объемный бок. Хоть сейчас подавай на вертеле. Дальше и пузо подтянулось. Кожа потеряла гибкость и эластичность. В молодости тело пело как струна, теперь поскрипывает подобно старому комоду. А внутри я все тот же. Несмотря на годы, несмотря на опыт.
6 сентября
В субботу вечером позвонил отец и еще раз напомнил, что они с матерью ждут меня в воскресенье в саду. Я не забыл. Как это вылетит из головы, когда весь вечер по этому поводу зудит и бушует жена. Пусть возмущается. У нее предназначение такое. А моя доля – терпеть и смиряться. Пусть хоть кто-то в семье станет смиренным. Жена выговорится и утихнет. Уже сам факт, что она только о саде и говорит – признак того, что она приняла мою поездку как нечто неизбежное. Есть и другие свидетельства. Пока я пялился в компьютер, просматривая новости («США блокируют новую инициативу РФ», «Пьяный сожитель убил семидесятилетнюю женщину после того как она отказала ему в интимной связи», «Список предметов по ЕГЭ будет расширен»), она взялась копаться в шкафу и отыскала мои старые джинсы и ветровку, добавила свитер.
– В свитере будет жарко, – заметил я, не отрывая глаз от экрана. – Завтра обещают солнечно, без осадков.
– Будет тепло, снимешь. На то, чтобы болеть, у нас денег нет, – отрезала она, продолжая дальнейшие поиски в развалах старой одежды.
Я промолчал. Бессмысленно что-либо комментировать. Одеть меня по своему разумению – это единственное чем она может до конца выразить свое недовольство.
Пришла Маша. Уроки у нее закончились давно, но она, видимо, забежала к своей подружке Даше Бессоновой, раз с таким опозданием добралась до дома. Мне Даша не нравится, больно резвая для своих лет, втянет еще во что-нибудь Машу. Вертихвостка, красится, болтает без перерыву. Поди, уже одни мальчики на уме. «Любит музыку, любит танцевать». Но других подружек у дочери пока на горизонте не наблюдается, не лишать же ребенка радости общения. Да и вообще, пусть Таня за ними присматривает, она лучше разбирается, куда их там женская дружба ведет – к высотам или к обрыву. А то я влезу, как слон в посудной лавке. У меня же первая реакция – запретить. Потому что так проще. Думать не надо, напрягать голову, влезать во все эти хитросплетения человеческих связей.
С того самого момента, когда Таня пришла из женской консультации, или откуда там они обычно приходят самый первый раз, я думаю о том, что хорошо, что Бог дал нам дочь. Некоторые тоже так считают. Юрий Михайлович, мой тогдашний начальник, когда я сообщил ему о рождении дочери, воскликнул: «Ну ты и везунчик, Николай Петрович. Это лучше чем „Волгу“ в „Спортлото“ выиграть». Наверное, я и в самом деле счастливый. Родись мальчик, я бы просто не знал, что с ним делать. Отцы радуются наследнику просто потому, что никогда не задумываются о себе как воспитателе. Тупая уверенность самца, что импринтинга будет вполне достаточно. «Эй, приятель, посмотри на меня, делай как я, делай как я!» Воспитание сына между тем с моей колокольни видится мне какой-то непосильной задачей. Интересно, думает ли также Таня о Маше? Мне отчего-то сдается, что нет. У женщин как-то все проще, органичнее. Хотя, может, я ошибаюсь, и в душе она также как и я рассуждает: «Почему не мальчик? Коля, наверняка, воспитал бы его лучше меня». Так это или нет, я никогда не узнаю, равно как и она не узнает о моей тихой радости, о том вздохе облегчения, который вырвался у меня тогда, много лет назад, когда она пришла счастливая и довольная.
– Значит, все-таки поедешь, – прервала мои размышления Таня, складывая аккуратно в стопку предназначенные мне вещи.
– Поеду, – отозвался я. – А что, ты со мной хочешь?
– К твоим родителям? Ни за что.
– Почему нет? День завтра хороший. Возьмем Машку с собой. Побродим все вместе по русским осенним полям, постоим под ярким синим небом у желтых берез. Напитаемся духом родной природы.
– Картина конечно, красивая, но только ты забыл упомянуть о том, что до полей и берез нужно еще как-то добраться.
– Да там и добираться нечего. Сел на электричку и ту-ту – через час с небольшим почти на месте.
– Вот этот час туда и час обратно меня и смущает. Толкаться по грязным электричкам в собственные выходные – потерянное для жизни время.
– Не так уж ты и стара, чтобы рассуждать об утраченном времени. В молодости надо жить, разбрасываться, ничего не жалеть.
– Пап, придумай что-нибудь пооригинальнее. На роль Табакова из «Розыгрыша» ты не тянешь, – заметила Маша, направляясь к креслу, стоящему в самом углу комнаты, чтобы устроиться удобнее перед телевизором.
Она все это время переодевалась, но слышала наш разговор из другой комнаты
– То есть ты, как и мама, не желаешь приобщиться к красотам осенней природы? Ну не хочешь, как хочешь. Вот молодежь пошла. Ничем жертвовать ради романтики не готовы.
– Жертвенности учить надо, – глухо проворчала ушедшая в глубины встроенного шкафа жена. – А тебе все некогда было. Ты ведь ни дочь свою не научил, ни учеников собственных. Да и где тебе, здесь нужно личным примером.
Да, с личным примером у меня плоховато. Не умею я красиво подать свою жертвенность. Но слова жены, сказанные не впервые (она постоянно намекала на то, что для дома и семьи я делаю недостаточно), меня привычно задели. Разве не для них я хожу в эту чертову школу и занимаюсь там всякой ерундой? Разве в моей жизни нет ни малейшего элемента жертвенности? Послушать их, так я законченный эгоист. Та же моя завтрашняя поездка, неужели не жертва?
– Я завтра в сад поеду, чем не личный пример, – решил озвучить я последнюю мысль вслух.
– Не подойдет, – отозвалась жена. – Это жертва за наш счет. А тебе только в удовольствие, подальше от нас.
Круг замкнулся, она вновь въехала в колею утреннего разговора. Дальше все будет только обо мне и моем недостойном поведении. На работе я учитель, дома – вечный ученик. Но жена не стала продолжать. Бросила копаться в шкафу, решив, что той одежды, которую она мне отыскала, достаточно, и ушла на кухню, кормить Машу.
Выехал я пораньше, на восьмичасовой электричке. На дворе сентябрь, утро воскресное, по дачам нынче не шибко ездят, поэтому мне досталось не просто свободное место, а целая свободная лавочка. Обратно, наверное, в таком просторе уже не поедешь. Но мне и не слишком-то надо. Думаю, для меня отыщется какое-нибудь местечко в небольшом грузовике или фургончике, в котором поедут дачные вещи родителей.
Осенью мне все интересно. Жена отчасти была права, я поехал не без удовольствия. Но не потому, что не пожелал оставаться дома, а потому что захотелось вдохнуть сентябрьского загородного воздуха, пройтись по притихшей дороге мимо опустевших садовых домиков, поглядеть на ту самую уставшую перед зимой ниву, о которой так любили писать поэты (знали-таки толк в жизни!), послушать жалобное клекотание птиц. Когда-то и Таня все это понимала и ценила. А может быть не протестовала против осенней природы потому, что частью всего этого осеннего раздолья был я. В первые годы нашей совместной жизни мы время от времени ездили в сад. Особенно часто уже тогда, когда родители с него выезжали окончательно. Я знал, где взять ключ, а вещи нам были не нужны. В тишине и запустении сада, освободившегося от летней мещанской жизни (сади-копай-собирай), было что-то притягательное. Казалось, что в целом мире нет никого кроме меня с ней. Мы оставались на ночь, безуспешно пытаясь спастись от ночного холода – собранными за день полешками, спиртным и жаркими объятиями. Дикое, безумное, прекрасное время. Время открытости, время, когда семейная политика и борьба за свою территорию еще не сожрала всю непосредственность наших первых отношений. Юная, отчаянная, задумчивая и загадочная, простая и открытая. Такой она была.



