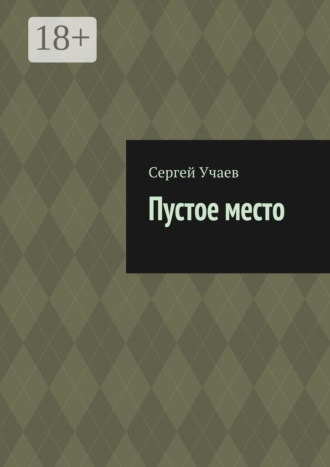
Полная версия
Пустое место
Отец сухо, по-стариковски, засмеялся.
– Да я уже и так молчу по твоей методе. Ты ведь меня не первый год учишь. Но теперь даже молчание раздражает.
– Значит, неправильно молчишь. Лицо не то делаешь.
– Поди, разбери его какое им лицо нужно.
– Ты умный, должен разбирать. Это я старый дурак с железками все возился. А у тебя профессия «человек-человек», как там это в советское время называли. Для тебя отношения между людьми должны быть как семечки.
– Так так и есть.
– Есть, – хмыкнул он. – Только практических результатов не видать. Все теория. Высокая наука. А другие вон, глупее тебя, высоко ускакали. Взять, к примеру, Юдина, дружка твоего с кафедры. Я его встретил недавно. Машинка у человека, зарплата и должность. Все как положено степенному человеку средних лет. Всю страну объездил, а скоро и мир обскачет на симпозиумах этих. А ты все на своих двоих ко мне в сад ходишь. Вот цена твоих представлений о людях. Неправильные они у тебя какие-то, несвоевременные. Духу эпохи не соответствуют. С машиной так туда-сюда бы катался всей семьей. Да и к соседу не пришлось бы идти транспорт выпрашивать. Вывез бы нас, как все белые люди.
О, как, крестьянская логика – и абстрактное суждение выдал и практическую выгоду для себя отыскал. Был бы ты, Коля, как все, так повез бы меня отсюда на своей машине. А так, дурак, и проку от тебя отцу нет никакого.
– Ты видел Юдина? – осенило вдруг меня.
– Ну да. Не просто видел, разговаривал с ним. Он сам меня остановил возле супермаркета, того, что рядом со мной, ну ты знаешь, как его там, не то «Полюшко», не то «Горюшко». Как зайдешь, на цены посмотришь, так и впрямь горюшко. Поздоровался. Про тебя расспрашивал. Как ты, что ты.
– А ты что?
– Ничего. Также как и ты отвечаю ему: нормально.
О Пашке Юдине я вспоминать не любил. Долгое время мы дружили. Со старших классов еще. Он появился у нас в школе зимой, в девятом классе. Невысокий, губастый подросток, с жидкими, будто сальными волосами, зачесанными на прямой пробор. Прическа придавала ему вид отталкивающий, но всякая попытка изменить ее приводила к еще более печальным для Пашки последствиям. Он поэкспериментировал первое время, и, вытерпев немало насмешек, в конце концов, вернулся к базовому варианту. Родители его, не то военные, не то инженеры-строители, а может и то, и другое, я так и не смог до конца разобраться, переехали с какого-то северного города. Постепенно, несмотря на далеко не выдающуюся внешность и отсутствие явно выраженных мужских талантов в виде силы, ловкости и ума, Юдин сошелся практически со всеми ребятами. Неудивительно, при его способности к общению. Но из всего класса отчего-то выделил он особо меня, и, называя вещи своими, именами, постепенно навязал мне свою дружбу. Начал заходить ко мне в гости домой, сперва робко и осторожно, потом, на правах близкого друга, чаще и увереннее. Оттуда и пошло его знакомство с моим отцом. Вместе с Юдиным мы поступили после школы на филологический. Ни у него, ни у меня душа к математике и физике особо не лежала. Нет, могли бы пойти на физику, как жестко настаивал пашкин отец, пытаясь одолеть упрямство сына, и там могли бы учиться, перебиваясь с тройки на четверку. Голова варила и в этом направлении. Но сердце и душа требовали чего-то помягче, чем цифры и железки. Мы ударились в филологию. Выбор, в целом, был тоже во многом не добровольным. Я хотел на исторический. Пашку привлекала психология. Но психологического у нас в университете в чистом виде не было, только с педагогическим уклоном. А конкурс на исторический превышал все мыслимые пределы. Так мы оказались в среде филологов, не мечтая о филологии, но, как показало будущее, будучи к ней вполне пригодны. Оба мы потом, по окончании университета, остались на кафедре. Я – сразу, Юдин, сделав полуторагодовой штрафной круг в школе в качестве рядового учителя русского языка и литературы, то есть в том качестве, в каком я оказался ныне, дождавшись момента, когда одна из преподавательниц вышла на пенсию, а потом и вовсе укатила из города, сбросив с себя почасовку. Пашка ухватился за открывшуюся возможность и полгода ухитрялся потом совмещать почти полторы ставки в школе с часами в университете. Потом мы вместе с ним работали на кафедре несколько лет – «молодая надежда», «наше будущее». Практически одновременно защитили диссертацию. А затем… Затем я покатился в бездну, как поется в одной модной песне.
– А он что говорит?
– Да ничего не говорит особенного. Зачем ему ваши отношения со мной выяснять?
Отец поколебался, помялся и потом добавил.
– Я все-таки попросил его насчет тебя.
– В смысле?
– Попросил взять обратно. Такой человек, говорю, пропадает. Ты же его знаешь, говорю ему, все же со школы дружили.
Я разозлился.
– Зачем? Зачем ты лезешь не в свое дело?
– Как это не мое. Ты мне не чужой человек. Да и он не совсем чужой. У другого бы не попросил.
– Как ты не понимаешь, что у таких людей ничего просить нельзя?
– У всех просить можно. Язык не отвалится. Я по твоему «нормально» вижу, что у тебя и в школе нелады. Мать мне тоже говорила.
– Она-то откуда знает?
– Это я тебе не скажу. Неизвестный информационный источник в правительстве, как теперь пишут в газетах.
Я как дурак хожу себе, живу. А мою жизнь, оказывается, словно под микроскопом изучают, собирают информацию, подшивают листочки. Судя по всему, больше на пенсии заняться не чем. Пенсия – время слежки и тотального контроля за окружающими. Легендарных бабушек развеяло со скамеечек почти повсеместно. Новые бабушки и дедушки, сократили объем потребляемой информации, целого дома им много. Теперь достаточно шпионить за своими родными и близкими. Но кто бы это мог быть? Таня – исключено, она уж точно с моими родителями ничем делиться не будет. Да ее на разговор с ними на аркане не затащишь. «Только через мой труп!» Общих знакомых у нас нет. Кто бы мог так досконально все рассказывать любопытным старичкам о том, что у нас в доме происходит? И тут я понял. Маша! Вот кто у нас сливает всю информацию. Вот кто у нас хорошенько постукивает. Бдительный гражданин с активной общественной позицией растет, что и говорить. Впрочем, чего это я, не обязательно постукивает. Просто добрые бабушка и дедушка усаживают любимую внученьку на своей теплой кухоньке. Ставят перед ней чашку чая, достают пирожки, или там, оладушки с вареньицем, моя мама любит соответствовать заданному общественным мнением канону бабушки, и под весь этот лживый семейный уют начинают тянуть из моей дочери всю подноготную о том, что там у нас происходит в доме, чем это мы там занимаемся? Нет, это определенно Маша. То-то, она в последнее время начала избегать визитов к любимым прародителям. Я списал это все на взросление и подымающийся подростковый нигилизм. А оно, вот как. Взросление есть, но оно проявляется в том, что до Маши, наконец, доперло, что ею манипулируют, что она подобна троянскому коню в нашей семье. Вернусь, надо будет с ней обязательно поговорить. До конца поднять ей веки на бабушку с дедушкой.
Мы закончили возиться с яблоками. Отнесли потяжелевший таз на веранду. Улов небольшой, но пакет заполнили.
– Давайте, пообедаем, что ли? – предложил отец.
– А может лучше закончить все? – спросил я.
– А что тут заканчивать? Почти уже все собрано по коробкам.
– А я тогда вам зачем нужен был?
– Грузить на машину поможешь.
– Да, это дело конечно трудное, для того, кто мешки яблок на собственном хребте только так тягает. И вы ради этого меня вызвали?
– А ты не рад, что приехал?
– Я бы, откровенно говоря, это радостью не назвал. Все-таки у меня один выходной, нетрудно осознать и войти в положение. Я мог бы приехать и попозже. Дома тоже есть чем заняться.
– Коля, почему ты так нас не любишь? Ведь ты к нам в последнее время даже не заходишь. За все лето ни разу не был.
«Ну вот, опять они за свое».
– Некогда, поэтому и не заходил.
– Это летом-то некогда?
– Объяснять долго. Не поймете. Не поймете, что это такое, когда никуда не хочется идти, да и идти, по большому счету, теперь не к кому и незачем.
Отец пожал плечами, мол, чудак-человек. Мать просто промолчала. Спорить не стали. Мы занялись вместе с ним упаковкой последних вещей, мать потихоньку начала кашеварить, варить суп из консервы на скорую руку. Я раньше очень его любил. Сам даже делал его одно время, здесь в саду, пока отец с матерью деловито копались в огороде. Теперь уже разучился, скорее всего. У нас в семье Татьяна с Машей окончательно забрали стряпню в свои руки. Но я особо на кухню, готовить, никогда и не стремился. Да, давненько я не пробовал такой консервной ушицы. Пахло вкусно. Как там в рекламе: «знакомый с детства вкус».
Солнце разошлось вовсю, да и плита дала обильное тепло. В домике стало даже жарковато. Мать отирала пот, то и дело выходила к нам, окончательно переместившимся из сумрака комнаты на залитую светом солнца веранду.
Как только все доварилось, разлили суп по тарелкам, сели обедать. Больших тарелок, эмалированных было всего две. Поэтому мать взяла себе маленькую, мою, детскую, с довольными собачьими мордочками по краям.
– Зачем? – спрашиваю. – Берите свои. А это моя, я из нее и буду хлебать.
– Ну что ты, смеешься что ли? – сказала мать.– Ты уже мужик здоровый, тебе надо порцию больше.
Я не стал спорить. Повисла тишина. Только ложки стучали о тарелки, да отец вдруг время от времени громко прихлебывал суп.
– А я думал, что тарелка затерялась, пропала за давностию лет, – нарушил я молчание, которое начало казаться мне неестественным.
– А чего ей теряться? – поддержал разговор уставший сидеть в тишине отец. – Мы хорошие вещи не выкидываем. Не такие уж богатые.
– Ну не скажите.
– А что, ты думаешь у нас пенсия большая разве?
– Верю, что небольшая. Однако же сад содержать хватает.
– А куда денешься? Как-никак все свое. Помидорчики, огурчики, картошечка, яблочки те же, что мы с тобой только что собирали. Летом – свежий воздух. Мы же не привыкли в квартире киснуть, – не преминул снова уколоть меня отец.
– Да мне кажется, что вы больше сюда вкладываете. Те же огурчики-помидорчики можно купить гораздо дешевле на рынке, да даже в магазине.
– Купить можно, – согласилась мать. – Но разве знаешь, как там их чужие люди выращивали? А здесь все свое, своими руками…
– Экологически чистое, – вставил отец, доскребая гущу из тарелки.
– Да я бы тоже с удовольствием в земле покопался, – соврал я в целях примирения.
– Так копайся, что мешает?
– Жизнь. Точнее ее темп.
– Фу-ты, ну-ты. Опять он за свое. Чем же она мешает тебе? Смотри, вон, сколько садов вокруг. Люди позанятее тебя держат. Спешат, торопятся со всех ног. Некоторые после работы заезжают. Сергей Николаевич, который через два дома вправо живет, так тот летом на пару-тройку часов появлялся чуть ли не каждый день. Я его спрашиваю: не тяжело ли? Так он говорит: «Наоборот, не в тягость. Приезжаю сюда хоть на час – уже отдыхаю». Разве не молодец? Бери пример. Вот как надо жить.
– Так у него своя машина.
– Правильно. Про машину я тебе как раз и говорил. Кто тебе мешает свою завести?
– Да где я такие деньги возьму?
– В кредит. Все берут, и ты бери. Надо жить, надо хотеть всего и сразу, не то, что мы в советское время, все сидели и ждали, когда нам партия даст. Ты вроде молодой, а тоже видать успел уже заразиться – все тебе подать и создать должны. Наверное, и с работы бегаешь туда-сюда по той же причине. Все, как рыба ищешь, где глубже. А нигде. Как потопаешь, так и полопаешь. Самому надо брать. Помнишь, реклама была такая когда-то: «Бери от жизни все!»
Я не стал спорить про партию и патерналистские настроения. В детстве я, как и все мальчишки, мечтал о машине. Собирал марки с грузовыми и легковушками, даже с автобусами, просил отца выписать журнал «За рулем», который выписать, на самом деле, было невозможно – дефицит. Но чем старше становился, тем больше желание иметь машину ослабевало. Прав ли отец в том, что желания делают человеческую жизнь, заставляют человека двигаться вперед? Не знаю. Жизнь нынешняя говорит в его пользу, подтверждает его правоту каждый день и час. Кто захотел, тот и съел. Но разве в жизни дело. Вопрос во мне. Я, еще когда сам учился в школе, понял, что машина не для меня. Слишком у меня эстетическое к ней отношение. Любоваться любуюсь, а вот сесть за баранку никак не решусь. Это как с женщиной. Все через это проходили. Нравится девушка страшно, глаз не можешь отвести, все мысли только к ней и возвращаются. Но представить себя рядом даже и не смеешь. Как же так возможно: я и она. С течением времени это нежелание иметь машину подкрепилось у меня стойкой фобией. Я стал панически бояться кого-нибудь задавить. Со стороны страшным кажется такого рода опасение у человека, который никогда не водил. Но набравшись историй об автопроисшествиях из новостей, уже в зрелом возрасте, когда я начал жить с Таней, окончательно принял решение, что машины у меня никогда не будет. Как ни странно, Таня, когда я поделился этим мучавшим меня время от времени страхом с ней, меня только поддержала: «Не хочу, чтобы ты водил. Столько автокатастроф. Мужику машина нужна только для того, чтобы он не пил, а ты у меня и так не пьющий». На том и порешили. Но это не мешало мне смотреть на автомобилистов с некоей скрытой завистью. Они составляли особую породу, касту посвященных. Женщины на машинах повергали меня в еще больший испуг. Слава Богу, среди наших училок никого таких не было, не то что в университете, где половина женской части кафедры являлась «лошадной». Каждый день я смотрел на них из окна университета, как они выскакивали из своих машинок, запирали их, заботливо, с нежностью и все больше и больше чувствовал, что машину я никогда не заведу. Теперь уже не из-за страха, а из стойкого сформировавшегося нежелания принадлежать к определенному антропологическому типу.
За нами приехали чуть раньше. Отец, глядя на то, как я тут маюсь в одиночестве и скуке, позвонил своему знакомому и тот лишь обрадовался тому, что можно подскочить, не дожидаясь первоначально означенного срока.
Темно-синий японский универсал, осторожно пробиравшийся по грунтовой дороге садов, посыпанной гравием, я увидел первый. Из него выскочил невысокого роста молодой человек. Ну, молодой я говорю условно, лет на 5 – 7 моложе меня. Отец, заслышав шум шуршащего гравия, а может быть, просто увидев в окно желанное авто, тоже вышел на улицу.
– Здорово, дядя Петя, – пожал владелец машины отцу руку.– Ну что, грузимся и полетели?
– Так это и есть твоя машина?
– Ну, да. А что, не нравится?
– Нет, хорошая, красивая. Просто я думал, что у тебя этот, фургончик.
– Дядя Петя, ну ты даешь. Ну, на кой мне фургон. Для меня после того как я с женой развелся и этого за глаза. Дачи у меня нет, на пикники одному можно и на чем-нибудь покомпактнее ездить.
– Значит, я что-то не так понял.
– Скорее всего, – согласился соседский родственник и тут же начал командовать погрузкой. – Так. Надеюсь, вы готовы? Тогда быстро грузимся и полетели. Много у вас барахла?
Вещей, на мой взгляд, внезапно оказалось даже слишком. Все это было не тяжелое, поэтому, хотя мы и забили коробками всю заднюю часть соседской «Мицубиси», она нисколько не просела на задний мост.
– Мешки? Мешки можете на заднее сиденье забросить. Один человек свободно поместится. Вам же одного хватит? – распоряжался погрузкой соседский потомок.
– Нам два нужно, – сказала мать.
Но как мы не суетились, два не выходило.
– Второй раз я не поеду, – сразу предупредил водитель. – Так что решайте, может быть, что-нибудь оставите.
Но отец не хотел ни второй раз ехать, ни оставлять что-то. Видимо, надоело ему каждый год по два раза маяться. Он хотел увезти все и сразу. Рядили так и этак. Меняли коробки и мешки местами, перекладывали и перетасовывали, теряя время. Но выходило, что как не поставь – все идет, к тому, что еле-еле остается одно место на заднем.
Мне надоело наблюдать за этой суетой и слушать, как постепенно разгорается перепалка между отцом и матерью. Поэтому я сказал:
– Ладно, хватит, тусовать барахло туда-сюда. Поезжайте вдвоем с отцом.
– А как же ты? – спросила мать.
– А я тем же путем, каким приехал сюда, спокойненько на электричке.
– На автобус, на автобус можно еще.
– Петь, ну какой автобус. С первого числа отменили его. Кого ему возить-то?
– Точно, и вправду отменили, – осознал отец.
– Ладно, не будем спорить тут, – прервал я их. – Садитесь и с Богом.
Они собрали последние вещи, переоделись, заперли сад. Я попрощался с матерью и помог сесть ей в машину. Отец садился последним.
– Жалко, что так получилось. Я надеялся, что ты поможешь мне еще в городе сгрузиться, все это наверх стаскать и в погреб к нам. Но, видно, ничего не поделаешь, придется самому как-то выкручиваться.
Я кивнул головой. Они сели в машину. Мать помахала мне в окошко, я стоял с той стороны, где она сидела. Водитель газанул. Через несколько секунд они свернули за поворот.
Я остался один посреди мертвого поселка.
7 сентября
После семейной интермедии я вновь вернулся на поле боя за человека, за наше светлое будущее. Раньше это было сердце. Нынче – совсем другое заведение. Это я о школе, если непонятно. От высоких слов в последнее время тошнит непереносимо, однако, как назло, их становится только больше и больше. Здоровый цинизм конца 90-х именно сейчас пришелся бы мне по душе. Тогда говорить высокопарно считалось почти неприличным. Расцвел цинизм, устои пошатнулись. Но на то и заповедь Писарева, бей что есть сил, что прочно, то выстоит, а остальное – хлам. Жестко. Кто скажет – дарвинизм, а я скажу – правда жизни. Соответствие действительности, реализм жесткий и жестокий. Тяжелый, если можно так сказать, реализм. Но с этим можно работать. От этого можно оттолкнуться. А теперь, поди ж ты, что ни собрание педколлектива, то речь годная на передовицу в газету «Правда». Или в «Российскую газету»? Теперь так больше пристало. Она на сегодняшний день рупор официоза. В «Правде» печатают высокопарные обороты нынешних российских коммунистов.
В общем, не суть важно. Главное, что и рядовой состав потянулся туда же. Ни слова в простоте вымолвить не могут. Все кружат и куролесят вокруг того, как «космические корабли бороздят просторы Большого театра». Самое главное, что вся эта чушь про «высокие идеалы» с размаху натыкается на мычание и бессвязное бормотание учащихся. Посмотришь на многих наших дражайших ребятишек, на будущую нашу надежду и опору, и видишь, что высокие идеалы довольно далеко. Пацаны даже компьютерные игры обсуждать перестали. Такое падение. Помню, студентов лет пять назад они прежде всего интересовали. Кто кого завалил. Ночные рейды на босса. Только и разговоров. Теперешние, подобно сонным мухам, ползают между парт и по коридорам, время от времени лениво пихаются локтями друг с дружкой или гогочут над какой-то ерундой, отысканной у кого-нибудь в телефоне. Девицы, которых развелось просто несметное количество, класса с седьмого начинают активно истекать половой истомой. У большинства просто какое-то назойливое желание, чтобы их трахнули. «И жить торопится, и чувствовать спешит». Причем одноклассники в качестве помощников в этом деле почти никогда не рассматриваются. Яростное желание, чтобы это был кто-нибудь постарше. Сплошные «легкие дыханья», прям деваться некуда. Бурное обсуждение собственных откровенных фоток «Вконтакте», я стараюсь не слушать, но уши воском-то не зальешь, подробности подчас текут неостановимой рекой. И вот ты уже доподлинно знаешь, что какая-то Трофимова из 8 «Б» вывесила свою обнаженную натуру, не всю, конечно, а так, не то самое начало, не то фрагмент, с намеком на завтрашнее продолжение. Пип-шоу для малолетних. Но уже одна прелюдия вызвала бурю ехидных комментариев и такой поток самопальных фотожаб, что незадачливая начинающая порнозвезда вынуждена была удалить потом аккаунт и вовсе. Таких историй воз и маленькая тележка. Если не фотки, то перманентное заигрывание и обсуждение пустых фраз типа «Ой, а ты интересная», или еще более откровенных «А ты любишь с мальчиками или девочками?». Много из этого я бы не знал, поэтому уже начинаешь сам выходить из кабинета, чтоб совсем не упасть духом – неужто все такие? Но избавиться от этого эха сетевой жизни почти невозможно. Ольга Геннадьевна меня время от времени просвещает, когда я от скуки забредаю к ней на перемене. У нее, в отличие от меня, профиль «Вконтакте» есть, и, поскольку она самая молодая в нашей школе среди учителей, ее то и дело одолевают ученицы с просьбами задружиться. Она редко отказывает. В итоге ее страничка с известной регулярностью переполняется приступами откровенности и перепащиванием откровенных фоток.
Жизнь настоящая бежит не просто за пределами школы, но и за пределами подлинной реальности. Слава Богу, к старшим классам по моим наблюдениям все устаканивается. Девицы становятся более тихими и спокойными, не то после первого аборта, не то осознав, что все мужики – козлы и счастье в труде, как писали у нас в свое время в университете на партах. Однако, средние классы – это ужас, ужас, ужас.
Хотя для меня же в какой-то степени лучше. Планка требовательности руководства падает. «Только бы без скандалов, Николай Петрович! Только без скандалов!» И я тихонько веду свое безнадежное судно русской словесности, беспокоясь больше о том, чтобы не было бунта среди команды, чем о том, чтобы достичь пункта назначения. Сложно привить любовь к покрывающейся паутиной забвения отечественной классике тем, кто грезит о живом, о поцелуйчиках, а вполне вероятно еще о чем-то погорячее. Поэтому я все-таки стараюсь не думать о высоком. Тем более что год за годом все больше и больше сомневаешься в высоте пыльных полок с невероятным обилием мудрых мыслей. Может быть, жизнь нужно, наоборот, прожить глупо. Может это ошибка – отойти в мир иной так ни разу не опозорившись и не оскандалившись по-человечески, в общепринятом («застигнут со спущенными штанами») смысле этого слова, нашептывает тебе на ушко бес.
Понедельник принято называть тяжелым днем. Но для меня он прошел быстро и незаметно. Ни я, ни ученики, не отошли еще от выходного дня, а поэтому нейтралитета не нарушали. Я им что-то рассказывал. Они меня нехотя что-то спрашивали, писали в тетрадках, строили схемы предложений на доске, о которых забудут уже через час. День состоялся.
Ко мне сегодня никто не зашел, если не считать кратких встреч в коридоре с Анной Николаевной и Сергей Сергеевичем, да и я не слишком горел желанием видеть кого-то. Поздоровался, уже уходя из школы издалека с Палычем, и поскакал со всех ног домой. Отлежаться, отдохнуть. Ведь работать еще целую неделю. Скорее бы каникулы. Я хочу, чтобы каникулы были каждый день.
8 сентября
В отличие от вчерашнего, этот день начался с неприятностей. Секретарша Даша, возраст молодой, глупа, но исполнительна, поймав меня на перемене, когда я шагал побалакать к Светлане Викторовне, передала, что меня просят зайти к Сигизмундовичу. Не могу сказать, что это такое уж радостное известие. Но прятаться смысла нет. Напротив, надо скорее встретить опасность с открытым забралом. Все отталкивающее и отвратительное надо прокручивать как можно быстрее, именно потому, что оно не несет радостей. Проглатывать быстро и зажмурив глаза, наподобие горькой микстуры. Ну, вы знаете, примерно так, как на картинках рисуют в детских книжках.
Я хотел зайти к Сигизмундовичу на большой перемене. Очень удобно. Не придется оставаться после уроков, разговор будет кратким и по существу, не превратится в растянутую пытку.
Я спустился на второй этаж. Кабинет самого великого завуча из всех существующих в мире завучей находился рядом с кабинетом директора. Но дверь оказалась закрыта. Пошел, наверное, в столовую, обедать. Можно было, конечно, спуститься и туда. Но я не чувствовал себя настолько уверенным, чтобы заставить руководство посреди собственной священной трапезы заниматься моей персоной, поэтому повернулся и решил забежать на следующей перемене. Еще лучше, перемена короче, общение насыщеннее и информативнее. Однако стоило мне сунуться в кабинет через урок, как он, едва увидев меня, замахал руками: после, после, зайдите потом, сейчас страшно занят. Жалко, конечно, но и это хороший знак. Если он не хватает меня за шкирку, то это значит, что дело не такое уж срочное и важное. Черт бы побрал это начальство, которое вечно нагоняет завесу таинственности! Сказал бы, о чем будет идти разговор, я бы знал, насколько это серьезно и стоит ли опасаться неприятностей или каких-то подвохов.
Но о чем это я, подвохов надо ждать всегда.
Я подождал еще один урок. Впрочем, вру, томиться от скуки, в тоске поглядывая на медленно сменяющиеся циферки часов, мне не пришлось. Девятый класс был не слишком настроен на работу, поэтому пришлось приложить максимум усилий для того, чтобы навести порядок, дабы удержать аудиторию от окончательного распада. Путем окриков и недвусмысленных угроз мне это все-таки сделать удалось, и они к середине урока сникли, превратившись в аморфную пассивную массу. Даже Тубельников – вечный двоешник вдруг угомонился, заинтересовавшись чем-то во взятом у соседки Гужеевой смартфоне. В обычное время я бы обязательно сделал замечание, но тут урок был последним, я подустал от предыдущих классов и ожидания разговора с Сигизмундовичем, поэтому махнул на происходящее на моих глазах нарушение дисциплины рукой. Пусть себе сидит, смотрит. Главное, что Гужеева ничего ему не говорит. Видимо, сама отдала ему. Мы ухитрились, несмотря на задержку, сделать за оставшееся время два упражнения, и я вышел из кабинета вполне довольный.



