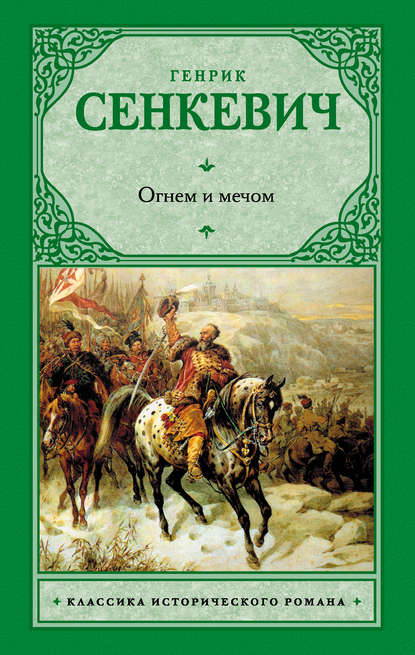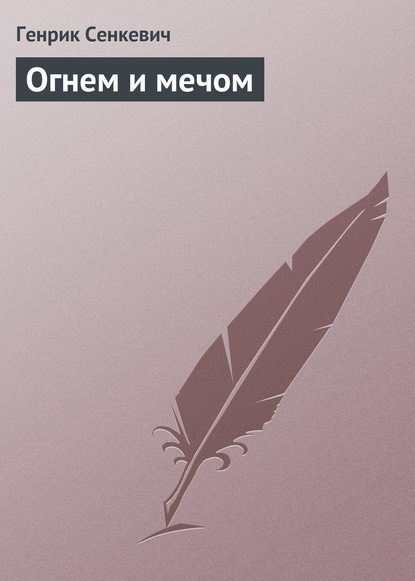полная версия
полная версияПотоп
– Ну, придется просидеть до утра, ложиться нельзя. Того и гляди, подъедут. И, в пример другим, он сел на пороге избы с мушкетом в руке, солдаты сели вокруг него, разговаривая друг с другом тихо или напевая вполголоса, и все время прислушивались, не раздастся ли среди ночных отголосков леса топот и фырканье лошадей.
Ночь была погожая и лунная, но шумная. В глубинах леса кипела жизнь. Была пора течки, и пуща гремела вокруг грозным ревом оленей, и рев этот, короткий, хриплый, полный гнева и бешенства, отдавался во всех частях леса, в глубине и поблизости, иногда тут же, рядом, в нескольких десятках шагов от избы.
– Если они поедут, то будут тоже реветь по-оленьи, чтоб обмануть нас, – сказал Белоус.
– Ну, нынче ночью еще не подъедут; пока мужик доберется до них, настанет утро, – ответил другой солдат.
– А завтра, пан вахмистр, хорошо бы осмотреть хату и под стенами в земле порыться; раз тут разбойники живут, должен быть и клад.
– Лучший клад вон там, – заметил Сорока, указывая на конюшню.
– Мы их возьмем с собою?
– Дурак! Здесь выхода нет – кругом болото.
– Да ведь мы сюда приехали?
– Бог помог. Сюда никто не сможет попасть, и никто отсюда не выйдет, если дороги не найдет.
– Днем найдем.
– Не найдем, они нарочно ложные следы оставили. Не надо было мужика отпускать.
– Да ведь знаем мы, что до дороги отсюда день езды, – сказал Белоус, – и она вон в той стороне…
Тут он указал рукой на восток.
– Будем ехать, пока не приедем, вот и все!
– А ты думаешь, что, на дорогу выехав, барином будешь? Нешто тебе больше разбойничья пуля нравится, чем виселица – там?
– Как так, отец? – спросил Белоус.
– Там уж нас, наверно, ищут.
– Кто, отец?
– Князь.
Тут Сорока вдруг замолчал, за ним замолчали и другие, точно испугавшись чего-то.
– Ох! – сказал наконец Белоус. – Тут плохо и там плохо… Як нэ круты, нэ вэрты…
– Загнали нас, как сиромах, в силки; тут разбойники, а там князь! – сказал другой солдат.
– Чтоб их громом разразило! Лучше дело с разбойниками иметь, чем с колдуном! – ответил Белоус. – А князь не простой человек, ох не простой. Завратынский ведь с медведем мог бороться, а он у него саблю из рук вырвал, как у ребенка. Не иначе как околдовал его князь – я ведь и то видел, что когда он потом на Витковского бросился, то на глазах у меня как сосна вырос. Не будь это, я бы его живьем не выпустил.
– И так ты дурак, что на него не бросился!
– Что бы делать, пан вахмистр? Я думал так: сидел он на самом лучшем коне, значит, коли захочет, удерет, а если наедет, так я с ним не слажу – колдуна ведь человеческой силе не одолеть. Из глаз пропадет или тучей накроется…
– Оно правда, – сказал Сорока, – когда я в него стрелял, его точно мглой подернуло – вот и промахнулся… С коня всякий промахнуться может, когда конь под ним танцует, но так, с земли, этого со мной уж десять лет не случалось.
– Что говорить! – сказал Белоус. – Лучше сосчитать: Любенец, Витковский, Завратынский, наш полковник – и всех их один человек уложил, безоружный. А ведь каждый из них с четырьмя мог сладить. Без чертовой помощи он бы этого сделать не мог.
– Одна надежда на Бога; раз князь колдун – черт ему и сюда дорогу укажет!
– У него и без того руки длинны – пан такой, каких мало.
– Тише! – сказал вдруг Сорока. – Что-то шелестит в лесу!..
Солдаты замолчали и прислушались. Действительно, неподалеку слышались какие-то тяжелые шаги, под которыми явственно шелестели опавшие листья.
– Лошади – ясно слышно! – шепнул Сорока.
Но шаги стали удаляться от избы, и вскоре раздался грозный и хриплый рев оленя.
– Это олени. Самец ланям голос подает, потому – другого рогача почуял.
– По всему лесу рев, как у черта на свадьбе.
Они снова замолчали и стали дремать, один только вахмистр поднимал порою голову и прислушивался, потом наконец ближайшие сосны из черных стали серыми, и верхушки их белели все больше, точно их кто-нибудь полил расплавленным серебром. Олений рев замолк, и в глубинах леса царила совершенная тишина. Понемногу рассветная муть стала редеть, белый бледный свет впитывал в себя золотой и розовый отблеск, наконец настал день и озарил утомленные лица солдат, спавших глубоким сном перед избой.
Вдруг дверь избы открылась, и на пороге показался Кмициц.
– Сорока, ко мне! – крикнул он. Все солдаты тотчас вскочили.
– Господи боже, ваша милость уж на ногах! – воскликнул Сорока.
– А вы спали, как волы; можно было бы вам головы срубить и за забор выбросить, прежде чем кто-нибудь из вас проснулся бы.
– Мы сторожили до утра, пан полковник, и уснули только перед рассветом. Кмициц стал смотреть по сторонам.
– Где мы?
– В лесу, пан полковник.
– Да ведь вижу. Чья это изба?
– Мы сами не знаем.
– Иди за мной! – сказал пан Андрей.
Кмициц вошел в избу, Сорока последовал за ним.
– Слушай, – сказал Кмициц, сев на настилку, – это князь меня ранил?
– Так точно.
– А где же он сам?
– Убежал.
Наступило минутное молчание.
– Это плохо, – сказал Кмициц, – очень плохо. Лучше было б его убить, чем отпускать живым.
– Мы так и хотели, но…
– Но что?
Сорока рассказал в нескольких словах все, что случилось. Кмициц слушал его совершенно спокойно, только глаза его сверкали. Наконец он сказал:
– На этот раз он вырвался, но мы еще встретимся. Почему ты свернул с дороги?
– Боялся погони.
– И хорошо сделал. Погоня, наверное, и была. Нас слишком мало, чтобы с войском Богуслава встретиться, кроме того, он теперь уехал в Пруссию, туда мы гнаться за ним не можем, надо подождать.
Сорока вздохнул с облегчением. Пан Кмициц, очевидно, не очень уж боялся князя Богуслава, если говорил о том, чтобы его преследовать. Это чувство сейчас же передалось старому солдату, привыкшему думать головою своего полковника и чувствовать его сердцем. Пан Андрей глубоко задумался и, очнувшись, стал чего-то искать на себе.
– А где мои письма? – спросил он.
– Какие письма?
– Которые были при мне! Они были спрятаны в поясе! Где пояс?
– Пояс я сам снял с вашей милости, чтобы вам легче было дышать. Вот он лежит!
– Давай!
И Сорока подал ему пояс с карманами, которые стягивались шнурками. Кмициц развязал их и быстро вынул бумаги.
– Это грамоты к шведским комендантам, а где же письма? – спросил он встревоженным голосом.
– Какие письма? – снова спросил Сорока.
– Тысяча чертей! Письма гетмана к королю шведскому, к пану Любомирскому, все те, которые у меня были?!
– Если их нет в поясе, значит, их нигде нет. Должно быть, потеряны в дороге.
– На коней и искать! – крикнул не своим голосом Кмициц.
Но прежде чем изумленный Сорока успел выйти из комнаты, Кмициц бросился на настилку, точно силы вдруг оставили его, и, схватившись за голову, повторял стонущим голосом:
– Письма мои, письма мои!
Между тем солдаты уехали, кроме одного, которому Сорока велел караулить избу. Кмициц остался один и стал раздумывать о своем незавидном положении.
Богуслав бежал. Над паном Андреем нависла страшная и неотвратимая месть могущественнейших Радзивиллов. И не только над ним, но над всеми, кого он любил – короче говоря, над Оленькой. Кмициц знал, что князь Януш не задумается ранить его в самое больное место, то есть мстить ему на панне Биллевич. А ведь Оленька в Кейданах в полной зависимости от страшного магната, сердце которого не знало жалости. Чем больше раздумывал Кмициц над своим положением, тем больше убеждался, что оно было ужасно. После его попытки похитить Богуслава Радзивиллы будут считать его изменником; сторонники Яна Казимира, приверженцы Сапеги и конфедераты, восставшие на Полесье, считают его тоже изменником, запродавшимся Радзивиллу.
Среди всех лагерей, партий, иностранных войск, занявших теперь Речь Посполитую, не было ни одного лагеря, ни одной партии, ни одного войска, которые не считали бы его своим величайшим и заклятым врагом. Ведь назначил же Хованский награду за его голову, а теперь ее назначат Радзивиллы, шведы – и, кто знает, не назначили ли уже сторонники несчастного Яна Казимира. «Заварил кашу, а теперь приходится расхлебывать», – думал Кмициц. Похищая князя Богуслава, он делал это для того, чтобы бросить его к ногам конфедератов, дать им несомненное доказательство того, что он порвал с Радзивиллом, стать в их ряды и приобрести себе право бороться за короля и за отчизну. С другой стороны, Богуслав был в его руках заложником безопасности Оленьки. Но теперь, когда Богуслав перехитрил Кмицица и бежал, исчезла не только безопасность Оленьки, исчезло и доказательство того, что пан Кмициц не притворно бросил службу у Радзивилла. Дорога к конфедератам открыта, но если он наткнется на отряд Володыевского и его приятелей – полковников, они, может быть, даруют ему жизнь, но захотят ли они принять его, как товарища, поверят ли они ему, не подумают ли, что он приехал шпионить или перетягивать людей на сторону Радзивилла? Тут он вспомнил, что на нем тяготеет кровь конфедератов, вспомнил, что он первый перебил взбунтовавшихся венгров и драгун в Кейданах, что он рассеивал мятежные полки и принуждал их к сдаче, что он расстреливал непокорных офицеров и резал солдат, что он укрепил Кейданы валами и этим обеспечил могущество Радзивилла на Жмуди.
«Как же мне идти туда, – думал он, – ведь для них чума более желанный гость, чем я! Будь у меня Богуслав на аркане, тогда бы можно, но теперь, с пустыми руками…»
Будь у него хоть эти письма, то, если бы он и не купил ими доверия у конфедератов, он все же держал бы ими в руках князя Януша, так как эти письма могли подорвать кредит гетмана даже у шведов… Ценой этих писем можно было бы спасти Оленьку.
Но злой дух сделал так, что письма пропали.
Когда Кмициц передумал все это, он снова схватился за голову.
«Я изменник в глазах Радзивилла, изменник в глазах Оленьки, изменник в глазах конфедератов, в глазах короля… Я погубил все: честь, себя, Оленьку».
Рана на лице горела, но еще более мучительный огонь жег душу… К довершению всего страдало и его рыцарское самолюбие. Богуслав разбил его самым позорным образом. Что в сравнении с этим были сабельные удары Володыевского, которых он не сумел отразить в Любиче? Там его победил вооруженный рыцарь, которого он вызвал на поединок, здесь – безоружный пленник, который был у него в руках!
С каждой минутой Кмициц видел все отчетливее, в какое страшное, в какое позорное положение он попал. И чем больше присматривался он к нему, тем явственнее вставал перед ним весь его ужас… Он находил все новые темные стороны: позор, стыд, гибель его самого, гибель Оленьки, обида, нанесенная отчизне, – и в конце концов его охватил страх и изумление.
– Неужели все это сделал я? – спрашивал он самого себя. И волосы дыбом вставали у него на голове. – Это невозможно. Меня, должно быть, еще лихорадка трясет! – вскрикнул он. – Матерь Божья, ведь это невозможно!..
«Слепой, глупый сумасброд! – сказала ему совесть. – Разве не лучше было тебе стать на сторону короля и отчизны, не лучше было послушаться Оленьки?»
И скорбь забушевала в нем вихрем. Эх! Если бы он мог себе сказать: «Шведы против отчизны – я против них! Радзивилл против короля – я против Радзивилла!» Как ясно, как чисто было бы тогда на душе. Он набрал бы тогда шайку забияк и головорезов и гулял бы с ними, как вихрь по полям, подкрадывался бы к шведам и проезжал по их трупам, с чистым сердцем, с чистой совестью… Как лучами солнца, залитый славой, он стал бы перед Оленькой и сказал:
– Я уже не разбойник, преследуемый законом, я защитник отчизны, – люби же меня так, как я тебя люблю!
А теперь что?
Но гордая душа слишком привыкла делать себе поблажки, не хотела сразу во всем сознаться: это Радзивиллы опутали его, довели до гибели, покрыли позором, связали руки, лишили чести и любимой девушки.
Пан Кмициц заскрежетал зубами, протянул руку в сторону Жмуди, где сидел князь Януш, гетман, как волк на трупе, и вскрикнул сдавленным от бешенства голосом:
– Мести! Мести!
Вдруг, охваченный отчаянием, он бросился на колени среди горницы и проговорил:
– Даю обет тебе, Господи Иисусе Христе, изменников этих бить и избивать, огнем и мечом преследовать, до последнего издыхания и скончания живота! В том мне, Царю Назарейский, помоги! Аминь!
Но какой-то внутренний голос сказал ему в эту минуту: «Отчизне служи, месть – потом!»
Глаза пана Андрея лихорадочно горели, губы ссохлись, он дрожал всем телом, как в горячке, размахивал руками и, разговаривая с самим собой, ходил или, вернее, бегал по горнице и наконец опять упал на колени:
– Вдохнови же меня, Господи, что мне делать, чтобы мне не сойти с ума!
Вдруг он услышал гул выстрела – лесное эхо отбрасывало его от сосны к сосне, пока не донесло до избы, словно раскат грома. Кмициц вскочил и, схватив саблю, выбежал в сени.
– Что там? – спросил он солдата, стоявшего у порога.
– Выстрел, пан полковник!
– Где Сорока?
– Поехал письма искать.
– Где выстрелили?
Солдат указал на восточную часть леса, поросшую густым кустарником:
– Там!
В эту минуту послышался топот лошадей, которых еще не было видно.
– Слушать! – крикнул Кмициц.
Из зарослей показался Сорока, летевший во весь дух на коне, а за ним Другой солдат.
Оба они подъехали к избе и, соскочив с лошадей, стали за ними, как за прикрытием, с мушкетами, обращенными к зарослям.
– Что там? – спросил Кмициц.
– Шайка идет! – ответил Сорока.
II
Стало тихо, но вскоре в ближайших зарослях послышался шум, точно там проходило стадо кабанов. Но шум этот чем был ближе, тем становился все слабее, потом опять воцарилась тишина.
– Сколько их там? – спросил Кмициц.
– Человек шесть будет или восемь, сосчитать не успел, – ответил Сорока.
– Тогда наше дело верное. Они с нами не сладят.
– Не сладят, пан полковник, только нужно одного живьем взять и попытать, чтобы он нам дорогу указал…
– Успеем еще. Слушай!
И едва Кмициц проговорил «слушай», как из зарослей показался белый дымок, и точно птицы прошуршали по траве в каких-нибудь тридцати шагах.
– Мелкими гвоздями стреляют из самопалов, – проговорил Кмициц. – Если у них мушкетов нет, они нам ничего не сделают, оттуда не донесет.
Сорока, держа одной рукой мушкет, положенный на седло стоявшего перед ним коня, приложил другую к губам, сложил ладонь в трубку и закричал:
– А покажись-ка кто-нибудь из кустов, мигом кувыркнешься! Настала тишина, потом громкий голос спросил из зарослей:
– Кто вы такие?
– Лучше тех, что по проезжим дорогам грабят.
– По какому праву вы нашу избу заняли?
– Разбойник о праве спрашивает?! Палач научит вас праву – к палачу и ступайте!
– Мы выкурим вас, как барсуков из норы.
– Ну выкуривай, только смотри, как бы самому тебе не задохнуться в этом дыму.
Голос в зарослях умолк; вероятно, нападающие стали совещаться; между тем Сорока прошептал Кмицицу:
– Надо будет кого-нибудь заманить и связать, тогда у нас заложник и проводник будет.
– Нет! Если кто-нибудь из них придет, – сказал Кмициц, – то только на наше честное слово.
– С разбойниками можно и честного слова не держать.
– Тогда и давать не надо! – возразил Кмициц.
Но вот из зарослей послышался новый вопрос:
– Чего вы хотите?
Отвечать стал сам Кмициц:
– Мы бы как приехали, так и уехали, если бы ты, болван, рыцарское обхождение знал и не начинал с самопала.
– Ты тут не загостишься, вечером наши приедут сто человек!
– А до вечера к нам двести драгун придет, и болота вас не защитят – есть и такие, что дорогу знают, они же нам дорогу и показали.
– Значит, вы солдаты?
– Не разбойники, ясное дело.
– А из какого полка?
– А ты что за гетман? Не тебе нам отчет давать.
– Ну так съедят вас волки!
– А вас вороны заклюют!
– Говорите, чего хотите, черт вас дери! Зачем в нашу избу залезли?
– Иди-ка сюда ближе! Нечего горло драть из зарослей. Ближе!
– На слово?
– Слово рыцарям дают, а не разбойникам. Хочешь – верь, хочешь – не верь.
– А можно вдвоем?
– Можно.
Немного погодя из зарослей, шагах в ста, вышло двое высоких и плечистых людей. Один из них шел немного сгорбившись: он был, должно быть, уже пожилой человек; другой же шел прямо и только с любопытством вытягивал шею по направлению к избе. Одеты они были в серые суконные полушубки, какие носила мелкая шляхта, в высокие кожаные сапоги и меховые шапки, надвинутые на глаза.
– Что за черт? – пробормотал Кмициц, пристально разглядывая этих двух людей.
– Пан полковник, – сказал Сорока, – чудо какое-то! Ведь это наши люди!
Те подошли еще на несколько шагов, но не могли разглядеть стоявших у избы, так как их закрывали лошади…
Кмициц вышел к ним навстречу. Но они все еще не узнавали его, так как лицо полковника было обвязано платком; все же они остановились и стали рассматривать его с любопытством и тревогой.
– А где же твой другой сын, Кемлич? – спросил пан Андрей, – Уж не убит ли?
– Кто это? Как? Что? Кто говорит? – спросил старик странным и как бы испуганным голосом. И застыл в неподвижности, широко открыв глаза и рот; вдруг сын, у которого были молодые и зоркие глаза, сорвал шапку с головы.
– Господи боже! Отец, да ведь это пан полковник! – воскликнул он.
– Иисусе! Иисусе сладчайший! – затараторил старик. – Это пан Кмициц!
– Ах вы такие-сякие, – сказал, улыбаясь, пан Андрей, – так вот вы как меня встречаете!
Старик подбежал к избе и закричал:
– Эй! Идите сюда все! Сюда!
Из зарослей показалось еще несколько человек, между ними был второй сын старика и смолокур; все бежали сломя голову, так как не знали, что произошло…
Старик снова крикнул:
– На колени, шельмы! На колени! Это пан Кмициц! Какой дурак из вас стрелял? Давайте его сюда!
– Да ты сам стрелял, отец! – сказал молодой Кемлич.
– Врешь, врешь, как собака! Пан полковник, кто же мог знать, что это ваша милость в нашем жилье. Ей-богу, я глазам еще не верю!
– Я сам собственной персоной! – сказал Кмициц, протягивая ему руку.
– Господи! – отвечал старик. – Такой гость в лесу! Глазам не верю. Чем же мы вашу милость принимать будем? Если б мы только догадаться могли, если б мы знали…
И он обратился к сыновьям:
– Ну, живо, болваны, беги кто-нибудь в погреб, меду неси!
– Так дай ключ от колоды, отец! – сказал один из сыновей.
Старик стал искать за поясом и в то же время подозрительно посматривал на сына:
– Ключ от колоды? Знаю я тебя, мошенника! Сам выпьешь больше, чем принесешь. Что? Нет, уж лучше я сам пойду! Идите только бревна отвалите, а я открою и принесу сам.
– У тебя, значит, погреб под бревнами, пан Кемлич? – спросил Кмициц.
– Да разве можно что-нибудь спрятать от таких разбойников? Они и отца родного готовы съесть! – отвечал он, указывая на сыновей. – А вы еще здесь? Идите бревна отвалить. Так вот вы как отца слушаете!
Молодые люди опрометью бросились на двор, к кучам нарубленных дров.
– Вижу, ты по-старому с сыновьями воюешь, – сказал Кмициц.
– Да кто же с ними поладит? Драться умеют, добычу брать умеют, а когда придется с отцом поделиться, я у них из горла должен свою часть вырывать… Вот какая мне, старику, от них радость!.. А парни как туры. Пожалуйте в избу, ваша милость, тут мороз пощипывает. Господи боже, такой гость, такой гость! Ведь мы под командой вашей милости больше добычи взяли, чем за весь этот год… Теперь – хоть шаром покати. Нищие мы! Времена плохие, и все хуже… А старость не радость… В избу пожалуйте, челом бью. Господи! Кто мог тут вашу милость ожидать!..
Старик Кемлич говорил как-то особенно быстро и жалостно и все время украдкой поглядывал по сторонам тревожными глазами. Это был костлявый старик, огромного роста, с вечно недовольным и сердитым лицом. Глаза у него косили, как и у обоих сыновей, брови нависли, под огромными усами торчала отвисшая нижняя губа, и, когда он говорил, она поднималась у него почти до самого носа, как у беззубых людей. Его дряхлость страшно не соответствовала крепости всей его фигуры, обнаруживавшей необычайную физическую силу и выносливость. Движения у него были быстрые, точно весь он был на заводных пружинах; он вечно поворачивал во все стороны голову, стараясь охватить глазами все, что его окружало: и людей, и вещи. По отношению к Кмицицу он с каждой минутой становился все подобострастнее, по мере того как в нем оживала привычка слушаться прежнего начальника, страх перед ним, а может быть, преклонение или привязанность.
Кмициц хорошо знал Кемличей, так как отец и оба сына служили под его начальствам в то время, как он в Белоруссии, на свой страх, вел войну с Хованским. Это были храбрые солдаты, столь же жестокие, сколь храбрые. Сын, Козьма, одно время был знаменщиком в отряде Кмицица, но вскоре он отказался от этой почетной должности, так как она ему мешала брать добычу. Среди игроков, гуляк и забубённых головушек, из которых состоял отряд Кмицица и которые днем пропивали и проигрывали то, что ночью кровавыми руками вырывали у неприятеля, Кемличи отличались необычайной жадностью. Они собирали добычу и прятали ее в лесах. Особенно жадны были они к лошадям, которых продавали потом по усадьбам и городам. Отец дрался не хуже сыновей-близнецов; после каждой битвы он вырывал у них самую лучшую часть добычи и слезно жаловался при этом, что сыновья его обижают, грозил им отцовским проклятием, стонал и причитал. Сыновья ворчали на него, но, будучи от природы глуповатыми, позволяли отцу тиранить себя. Несмотря на постоянные ссоры и драки, в битве они бешено заступались друг за друга, не жалея крови. Товарищи не любили их, но боялись: в столкновениях они были страшны. Даже офицеры избегали их задевать. Один только Кмициц возбуждал в них неописуемый ужас, да еще, пожалуй, пан Раницкий, перед которым они дрожали, когда лицо его от гнева покрывалось красными пятнами. В обоих они чтили их высокое происхождение, так как Кмицицы еще недавно были самым влиятельным родом в Оршанском повете, а в жилах Раницкого текла сенаторская кровь.
В отряде говорили, что они собрали огромные сокровища, но никто не знал хорошенько, была ли в этом хоть доля правды. Однажды Кмициц отправил их увести табун лошадей, взятых в добычу, – с тех пор они исчезли. Кмициц думал, что они погибли, солдаты говорили, что они удрали с лошадьми, так как слишком тут было велико для них искушение. Теперь, когда пан Андрей увидел их здравыми и невредимыми, когда из стойла подле избы слышалось ржанье каких-то лошадей, а радость и подобострастие старика перемешивалась с каким-то беспокойством, пан Андрей подумал, что солдаты были правы.
И вот, когда они вошли в избу, он сел на подстилку из шкур и, подбоченившись, посмотрел старику прямо в глаза и потом спросил:
– Кемлич! А где мои кони?
– Иисусе! Иисусе сладчайший! – застонал старик. – Золотаренковы люди забрали, избили нас, изранили, больше ста верст за нами гнались, еле мы ноги унесли. Мать честная, Богородица! Мы не могли уж ни вашей милости, ни отряда найти. Загнали нас сюда, в эти леса, на голод и холод, в эту избу, в эти болота… Благодарение Богу, ваша милость живы-здоровы, хоть, вижу, ранены. Может, осмотреть рану, целебным отваром смочить? А сынки-то мои? Пошли бревна отваливать? Чего доброго, дверь выломают и к меду подберутся. Голод здесь, нищета, только грибами и пробавляемся. Но для вашей милости будет что и выпить и перекусить… Так вот, забрали они у нас коней, ограбили… Что уж говорить – и службы у вашей милости нас лишили. Куска хлеба нет на старости лет, разве что вы, ваша милость, нас приютите и на службу опять примете…
– Может и так случиться, – ответил Кмициц.
В эту минуту в горницу вошли два сына старика: Козьма и Дамьян, близнецы, парни рослые, неуклюжие, с огромными головами, поросшими невероятно густыми и твердыми, как шетина, волосами, неровными, торчащими у ушей и на макушке какими-то фантастическими клочьями и чубами. Они остановились у дверей, так как не смели сесть в присутствии Кмицица. Дамьян сказал:
– Бревна отвалили!
– Ладно, – сказал старик Кемлич, – пойду принесу меду. Тут он многозначительно посмотрел на сыновей.
– А коней Золотаренковы люди забрали, – сказал он с ударением.
Кмициц взглянул на обоих парней, стоявших у дверей, похожих на два деревянных чурбана, грубо вытесанных топором, и спросил вдруг:
– Что вы тут делаете?
– Лошадей забираем! – ответили они одновременно.
– У кого?
– У кого попало.
– А у кого всего больше?
– У Золотаренковых людей.
– Это хорошо, у неприятеля можно брать, но если вы у своих берете, так вы бездельники, а не шляхтичи. Что с лошадьми делаете?