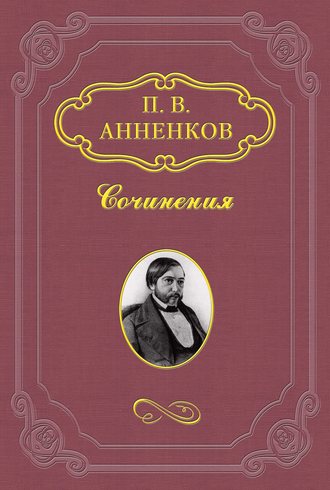 полная версия
полная версияЗамечательное десятилетие. 1838–1848
См. о Белинском «в другой среде», вне своего круга, в «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаева (Гослитиздат, 1950, стр. 256–259, 296–300).
97
Это утверждение Анненкова неверно, потому что мемуарист абстрактно и формально трактует вопрос о «дельном» в учении славянофилов, то есть об отношении их к народным началам, к «народному быту». Когда К. Д. Кавелин в одном из писем 1847 г. на основании ряда последних «программных» статей Белинского (таких, как «Взгляд на русскую литературу 1846 года», «Ответ «Москвитянину» и др., в которых критик выступает страстным обличителем «космополитов-западников») заговорил о славянофильских нотах в статьях Белинского, последний ответил ему: «Терпеть не могу восторженных патриотов, выезжающих вечно на междометиях или на квасу да каше… но, признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспаспортные бродяги в человечестве» (Белинский, т. XII, стр. 433). Очевидно, Анненков не понял этой борьбы в двух направлениях Белинского. демократа в последние годы и потому здесь и ниже говорит об «уступках» Белинского славянофилам.
98
Речь идет о брошюре К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (1842). Белинского «возмутили» в этой брошюре и выспренний тон Аксакова и попытка славянофильских кругов (Аксакова, Шевырева), приписав Гоголю «эпическое созерцание» жизни на манер древних, представить его героев носителями русского «субстанциального», а значит, положительного начала и тем ослабить обличительный пафос «Мертвых душ». На брошюру К. Аксакова Белинский откликнулся заметкой «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души», напечатанной в «Отечественных записках», 1842, № 8, а затем, после ответа К. Аксакова, опубликованного в № 9 «Москвитянина» за 1842 г., остро полемической и развернутой рецензией «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души», опубликованной в № 11 «Отечественных записок» этого же года.
99
В действительности же Белинский и Герцен, в отличие от славянофилов и таких западников, как Н. Кетчер, были далеки от того поверхностного и прямолинейного противопоставления столиц, которое приписывает им Анненков. См. об этом у Герцена в очерках «Москва и Петербург» (1842), «Станция Едрово» (1846), у Белинского – в статье «Петербург и Москва» (1844).
100
В своих «Воспоминаниях о Белинском» Тургенев относит личное знакомство с критиком к «лету 1843 года». Однако, по свидетельству Белинского, оно произошло в середине февраля 1843 г. через П. В. Зиновьева, с которым Тургенев был за границей (Белинский. т. XII, стр. 139). До этого Белинский уже внимательно следил за выступлениями Т. Л. в печати – так подписывался Тургенев под своими первыми произведениями (см., например, Белинский, т. XII, стр. 111). Когда в апреле 1843 г. вышла в свет «Параша». Рассказ в стихах» за подписью Т. Л., Белинский отозвался о произведении Тургенева восторженной рецензией, появившейся в майском номере «Отечественных записок». Характерно, что уже в первых письмах с упоминанием о Тургеневе встречаются указания, что Белинский воспринимает его как своего «союзника» против славянофильского лагеря (см., например, письмо к В. Боткину от 31 марта – 3 апреля 1843 г. – Белинский, т. XII, стр. 151).
101
196
102
Белинский и Герцен иначе думали о «нравственном» характере своих врагов, а их писания (Дмитриева, Языкова и др.) справедливо воспринимали как доносы и именовали в подцензурной печати не иначе, как «юридическими бумагами» и т. п. «Из манеры славянофилов видно, что если б материальная власть была их, то нам бы пришлось жариться где-нибудь на лобном месте», – записал Герцен в дневнике 20 ноября 1844 г. (Герцен, т. II, стр. 390).
103
В действительности отрицательное отношение Белинского к сборникам «харьковскому», «архангельскому» и другим объяснялось тем, что в них не было ничего «местного», а печатались те же непризнанные столичные «гении» – Бенедиктов, Кукольник, Шевырев и др.; кроме того, все эти сборники, помимо «провинциальности», отличались, как правило, еще и славянофильской или националистической тенденцией. См., например, рецензии Белинского на «харьковский сборник» «Молодик», издаваемый И. Бецким (Белинский, т. VII, стр. 87–92, т. VIII, стр. 105–111).
104
Вопрос об отношении Белинского к славянству значительно сложнее, чем это представляется Анненкову, который попросту приписал критику западническую точку зрения, а потом зачислил его на этом основании (см. ниже) в разряд доктринеров-централизаторов типа Б. Чичерина. Белинский действительно резко отрицательно относился к панславистскому движению, но не потому, что боялся «возвышения племенного творчества» за счет «европейского образования», как пишет Анненков, а потому, что отлично понимал реакционный характер этого движения, возбуждаемого идеологами так называемой официальной народности (М. Погодин), славянофилами (Хомяков и др.) и поддерживаемого в правительственных сферах. По справедливому мнению Белинского, панславистская пропаганда, раздуваемая крепостниками и реакционерами, отвлекала внимание от бедственного положения народа в России, от разрешения насущных «национальных» вопросов и ничего хорошего не сулила угнетенным народам. Этим объясняются некоторые его резкие оценки тех явлений, которые подчас не заслуживали такой резкости. Выступая против панславизма, Белинский вместе с тем сочувствовал национально-освободительным движениям славян (см. в письмах Белинского отзыв о Мицкевиче, о польском революционере Мерославском, его гневные обличения усмирителей Польши – Белинский, т. XI, стр. 576, т. XII, стр. 402).
105
См. об этом в заключительной части статьи Белинского «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» (1842).
106
Судя по нумерации, дальше должны были следовать гл. XXI и XXII, очевидно выяснявшие то, что «происходило вокруг имени Гоголя», то есть говорившие о гоголевском направлении, так как в конце гл. XX сделан лишь приступ к этому.
107
Данное письмо Гоголя является ответом на единственное дошедшее до нас письмо Анненкова к Гоголю от 11 мая 1843 г., напечатанное в книге: «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», I, стр. 127. Письмо Анненкова было адресовано в Рим, где Гоголя уже не было, почему в его письме и значится, что художник Иванов переслал ему петербургский адрес Анненкова и сообщил о готовности последнего выполнять поручения Гоголя. Начало и заключительная часть письма приводятся с незначительными отклонениями (см. Гоголь, т. XII, стр. 251–256).
108
Под «московской партией» подразумевается круг славянофилов вкупе с М. Погодиным и С. Шевыревым.
109
Анненков приводит это письмо Гоголя, опустив его деловое начало и заменив ряд слов другими: слово «тьмит» словом «темнит», «присовокупите» – «присоедините», «оставим yтo» – «оставлю yтo». Курсив принадлежит Гоголю (Гоголь, т. XII, стр. 297–299).
110
В 1847 г. Анненков получил не одно, а четыре письма от Гоголя из Остенде: от 12 августа н. ст., от 31 августа н. ст., от 7 сентября н. ст. и от 20 сентября н. ст. (см. Гоголь, т. XIII). Гоголь знал, что Анненков в дружеских отношениях с Белинским, Герценом, Тургеневым, и его письма проникнуты интересом к этим людям, олицетворявшим уже новую, мало знакомую ему Россию.
111
Анненков цитирует середину письма Гоголя из Москвы Н. Я. Прокоповичу от 29 марта, по-видимому, 1850 г., так как в 1848 г. Гоголь не был в Москве. Курсив принадлежит Анненкову (см. Гоголь, т. XIV, стр. 174).
112
По свидетельству современников, к середине сороковых годов влияние «Отечественных записок» во главе с Белинским настолько возросло, а его разоблачения славянофильского учения действовали так неотразимо, что это вызвало тревогу в славянофильском лагере. До 1845 г. славянофилы не имели своего прямого печатного органа. С конца 1844 г. они решили приспособить для этой цели «Москвитянин», который на определенных условиях и перешел в их руки с января 1845 г. Что «Москвитянин» новой редакции был задуман как орган, вокруг которого должны сплотиться все не согласные с Белинским, доказывается тем, что к участию в журнале, используя недовольство московских западников «крайностями» Белинского, предполагалось привлечь Герцена и Грановского, не говоря уже о Корше. Сплочению этих разнородных сил должно было способствовать и выдвижение в качестве редактора И. В. Киреевского, слывшего среди славянофилов и западников «эклектиком» (Герцен). О переменах в редакции были осведомлены находившиеся за границей Гоголь и Жуковский. «Я рад, между прочим, тому, – писал Гоголь 26 декабря н. ст. 1844 г., – что Москвитянин переходит в руки Ивана Васильевича Киреевского. Это, вероятно, подзадорит многих расписаться… Чего доброго, может быть, Москва захочет доказать, что она не баба» (Гоголь, т. XII, стр. 424). Однако надежды не оправдались. Появление в это время стихотворных доносов Н. М. Языкова привело к окончательному разрыву со славянофилами Герцена, Грановского и др., а вместе с этим отпал и вопрос об их участии в славянофильском органе. На первых порах славянофилы ревностно принялись за издание, но выпустили всего лишь три книги и, подготовив материал для четвертой, снова передали журнал Погодину. В № 1 «Москвитянина» за 1845 г. были напечатаны стихи В. А. Жуковского, М. Дмитриева, Н. М. Языкова, появилась статья М. Погодина «Параллель русской истории с историей западных европейских государств, относительно начала», а также начало статьи И. В. Киреевского «Обозрение современного состояния словесности» (имела продолжение в №№ 2 и 3); в следующих книгах были напечатаны статьи А. С. Хомякова: «Письмо в Петербург» (№ 2), «Мнение иностранцев о России» (№ 4); статья П. В. Киреевского «О древней русской истории» (№ 3) и др. На эти-то статьи и ссылается Анненков ниже.
113
Статья С. П. Шевырева называлась «Взгляд русского на современное образование Европы» и была напечатана в № 1 «Москвитянина» за 1841 г. Статья И. В. Киреевского, конечно далекая от шевыревских несуразностей, по существу не только не наносила удара Шевыреву, а, наоборот, во многом углубляла и развивала основные положения его статьи. Белинский не нашел в статье «ничего нового», хотя отметил, что «не новое» было высказано с таким мастерством, какое редко встречается в оригинальных статьях русских писателей. Основную мысль статьи Киреевского хорошо выразил Герцен, когда писал, сравнивая статьи М. Погодина и И. В. Киреевского и уличая редакцию в непоследовательности: «Г-н Погодин доказывает, что два государства, развивающиеся на разных началах, не привьют друг к другу оснований своей жизни; г. Киреевский стремится доказать, напротив, что славянский мир может обновить Европу своими началами» (Герцен, т. II, стр. 137).
114
Неточно: третья статья И. В. Киреевского, посвященная «текущим явлениям литературы», появилась в мартовской книжке «Москвитянина» за 1845 г. (отд. «Критика», стр. 18–30) и отличалась, по характеристике Белинского, «больше чем легкостью». Киреевский повторял в ней избитый булгаринско-шевыревский тезис, будто «Отечественные записки» гоняются за Западом и подрывают авторитеты отечественной литературы. Уничтожающий разбор этой статьи Белинский дал в обзоре «Литературные и журнальные заметки», напечатанном в майском номере «Отечественных записок» (Белинский, т. IX, стр. 67–74).
115
Известная книга Кюстина — Сustine, «La Russie en 1839» («Россия в 1839 году»), записки маркиза Кюстина, легитимиста, о своем путешествии в Россию, изданные в 1843 г. в Париже и запрещенные в России.
116
И здесь и выше Анненков преувеличил «раздвоение» в лагере славянофилов и степень отступления «Москвитянина» новой редакции от прежних начал этого журнала Однако несомненно, что известное отступление все же имело место. «Это несомненное отступление, – писал Г. В. Плеханов, – надо рассматривать как доказательство того, что не остался без результата сильный артиллерийский огонь, которым «западные» батареи ответили на вызов, содержавшийся в статье Шевырева» (Соч., т. XXIII, стр. 50). И все же «Москвитянин» не пошел. «Москвитянин» не отвечал ни на одну живую, распространенную в обществе потребность, – писал Герцен в «Былом и думах», – и, стало быть, не мог иметь другого хода, как в своем кружке» (Герцен, т. IX, стр. 168–169). Погодин снова стал во главе журнала не через год, как пишет Анненков, а с четвертого номера. В рецензии на вторую часть «физиологии Петербурга» (лето 1845 г.) Белинский уже писал о возвращении «Москвитянина» к прежним погодинским «правилам» (Белинский, т. IX, стр. 216).
117
Это свидетельство Анненкова подчеркивает лишний раз, насколько ощутимо для современников было наличие двух принципиальных линий в борьбе со славянофилами: ясной, твердой, последовательной линии Белинского и линии собственно западников типа Грановского, колеблющихся, непоследовательных, ищущих «примирения».
118
Это одна из тех глав, которые придают особую ценность воспоминаниям Анненкова в отличие, например, от воспоминаний И. И. Панаева (ср. описание жизни в Соколове в это лето в его «Литературных воспоминаниях», 1950, стр. 209–214), А. И. Герцен в гл. XXXII «Былого и дум» обрисовал разрыв по коренным мировоззренческим вопросам, но это был, по-видимому, лишь финальный акт многих столкновений по разным поводам. На это указывает и сам Герцен. В той же главе он пишет: «Года через три-четыре считая от примирения с Белинским в 1840 г.> я с глубокой горестью стал замечать, что, идучи из одних и тех же начал, мы приходили к разным выводам, и это не потому, чтоб мы их розно понимали, а потому, что они не всем нравились. В дневнике Герцена от 18 декабря 1844 г. есть запись о личных отношениях, вредно сказывающихся на «характерности» и «прямоте мнений» (Герцен, т. II, стр. 397). Эта запись сделана во время острой полемики со славянофилами, и потому, как правило, ее относили к этому факту. На самом деле, по свидетельству самого Герцена, она прямо связана со спорами внутри кружка Герцена – Грановского. «В этой зависти к силе Робеспьера <(в дневниковой записи ссылка на отношение Робеспьера к Камиллу Демулену)> уже дремали зачатки злых споров 1846 года», – писал Герцен в той же главе «Былого и дум». Показательно, что в дневнике Герцена этого времени Белинский не однажды приравнивается к Робеспьеру.
119
В деятельности Белинского особое недовольство московских «друзей» вызывали его страстные разоблачения демагогических заигрываний славянофилов (да и не только славянофилов, а и «гуманных помещиков» вообще) с народностью, национальностью и т. д. Естественно, что практический вопрос об отношении к крепостному праву, к народу, к его настоящему положению и его будущему, поставленный Белинским, а не теория, должен был в первую очередь стать и действительно стал одним из главных в размежевании демократов и либералов. Уже с первых шагов борьба Белинского со славянофилами, с псевдонародностью стала переходить в борьбу со всем фронтом дворянской идеологии. С проявлением этой борьбы, принявшей резкие формы уже в 1844–1845 гг., мы и встречаемся в Соколове летом 1845 г. Споры, как их описал Анненков, вращались вокруг основной проблемы – отношения «образованных» классов к народу, – которая особенно остро была поставлена Белинским в статье о «Тарантасе» В. А. Соллогуба (см. об этом во вступительной статье). Сама по себе соколовская идиллия, вплоть до бытовых мелочей, являлась и могла восприниматься как неотразимый комментарий самой действительности к тому, на что так страстно нападал Белинский в статье о «Тарантасе» (см., например, чрезвычайно любопытное высказывание Ф. М. Достоевского по поводу этой главы воспоминаний Анненкова в «Дневнике писателя» за 1880 г., Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худож. произведений, т. 12, М. – Л. 1929, стр. 396–404).
120
Корш Евгений Федорович (1810–1897) – журналист, переводчик, редактор «Московских ведомостей» (1843–1848), затем журнала «Атеней» (1858–1859), а с 1862 по 1892 г. – библиотекарь Румянцевской библиотеки в Москве. В сороковых годах примыкал к кружку Герцена – Грановского, в пятидесятых выступал как либерал правого толка и единомышленник Б. Чичерина. Показательно, что в 1844–1845 гг. «московские друзья» прочили Е. Корша в редакторы предполагавшегося журнала, отводя кандидатуру Белинского.
121
Кетчер Николай Христофорович (1806–1886) – медик по образованию, переводчик Шекспира, Шиллера и др., редактор первого собрания сочинений Белинского. В тридцатые и сороковые годы был тесно связан с Герценом, Огаревым, Грановским, Белинским, считался их единомышленником, даже сторонником крайних мнений, хотя уже и тогда не вникал глубоко в суть идейных исканий и разногласий своих друзей. На это и намекает здесь Анненков, изображая Кетчера «адвокатом» Белинского. Живя в 1843–1845 гг. в Петербурге и тесно общаясь с Белинским, Кетчер много помогал ему своими переводами с немецкого. По всей видимости, Кетчер познакомил Белинского со статьей К. Маркса «К критике гегелевской философии права» (см. Ю. Оксман, Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского, М. 1958, стр. 394). а затем и с «Сущностью христианства» Л. Фейербаха. Но в сознании самого Кетчера все это не оставило сколько-нибудь заметного следа. С отъездом Герцена за границу, со смертью Белинского, в обстановке усилившейся правительственной реакции после революции 1848 г., Кетчер стал отходить вправо, порвал с Герценом и в период Крымской войны заявил себя сторонником самодержавия. С этой стези он уже не сходил до конца дней.
122
Анненков рассуждает здесь крайне формально, отождествляя взгляд либерала на самобытность России, за которым таится надежда на развитие без общественной борьбы, с помощью одних лишь реформ «сверху» (в этом и состоит «самобытность»), и точку зрения Герцена, революционного демократа, «народника», мечтавшего о том, что крестьянство поднимется, сметет с лица земли царя, чиновников и помещиков и благодаря крестьянской общине вступит в социализм, минуя муки капиталистического развития.
123
Об этом см. в гл. XXXII «Былого и дум».
124
Как видим, Анненкова нельзя обвинить в пристрастии к Белинскому. Если он к кому здесь и пристрастен, так это к Грановскому, расценивая его выступление как целый «переворот» и прямо намечая линию от либерализма сороковых годов к либерализму пятидесятых, славословившему крестьянскую реформу 1861 г. как «национальное дело» величайшей важности, якобы соответствующее «стихиям народной жизни». Когда Г. В. Плеханов в статье «О Белинском» (1910) коснулся этой главы воспоминаний Анненкова, он записал, процитировав письмо Белинского от 8 сентября 1842 г. о социализме: «И такому человеку находили нужным внушать любовь к народу! Напрасный труд: это было то же самое, что возить воду в море» (Соч., т. XXIII, стр. 221).
125
Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) – профессор; историк и юрист; в сороковые годы – друг Грановского, приятель Герцена и Белинского, в период крестьянской реформы – один из вождей либерально-монархической «партии», выведенный в этой роли под именем Рязанцева в романе Н. Г. Чернышевского «Пролог». Явно идеализируя «пропаганду» Кавелина, Анненков говорит здесь об участии его в создании рукописной политической литературы о положении в России, которая в период подготовки реформы ходила по рукам и частью была опубликована в сборнике «Голоса из России», изданном Герценом. Говоря о благорасположении ко всем видам «народного творчества», Анненков имеет в виду реакционно-утопические представления Кавелина об общинно-родовом начале и местничестве, как якобы специфических и характерных чертах социального устройства России и славянства вообще. Эти идеи Кавелин развивал в своей статье «Взгляд на юридический быт древней России», напечатанной в «Современнике» еще при Белинском и вызвавшей его интерес «философским пониманием» русской истории (Белинский, т. X, стр. 194).
Общинное устройство российской деревни и развитие местного, то есть земско-дворянского, управления при «сохранении неограниченной власти государя», Кавелин отстаивал в своих предреформенных работах («Записка об освобождении крестьян в России», 1855; «Мнение о лучшем способе разработки вопроса об освобождении крестьян», 1857). Но и в эти годы, как и в дальнейшем, община привлекала его не зародышами патриархально-социалистических отношений («народник» Герцен), а своими реакционно-«охранительными» функциями; в его представлении она была надежной «уздой» против «диких мечтаний о вольности» крепостного крестьянства, предохранением от революционного пролетариата. Анненкову нельзя отказать в проницательности: Кавелин действительно определился как идеолог дворянского либерализма, в лице которого слились воедино черты западника и славянофила.
126
Тучков Алексей Алексеевич (1800–1879) – отец второй жены Н. П. Огарева Н. А. Тучковой, впоследствии гражданской жены Герцена. В молодости был связан с декабристами. Через Огарева в начале сороковых годов (по-видимому, в 1843 г.) познакомился и близко сошелся с А. И. Герценом. В дальнейшем неоднократно бывал у Герцена за границей и содействовал перевозке в Россию его изданий.
Обаятельность, цельность натуры и нравственная чистота при независимом и передовом образе мыслей действительно сделали Огарева нравственной совестью близких ему людей – Герцена, Натальи Александровны, а затем и семейства Тучковых. Анненков мог воочию наблюдать это, общаясь с семейством Герцена и Тучкова в 1847–1848 гг, в Париже, а затем часто бывая в доме Тучковых, в имениях Сатина и Огарева в Инсарском и Саранском уездах Пензенской губернии, когда он в 1849–1850 гг. жил неподалеку от них в своей симбирской деревне (см. Анненков и его друзья, стр. 636–654).
О жизни в Соколове летом 1845 и 1846 гг. см.: «Былое и думы» А. И. Герцена, часть четвертая, гл. XXXII; «Литературные воспоминания» И. И. Панаева, часть вторая, гл. V.
Из «постоянных посетителей Соколова», кроме близких друзей – Герцена, Панаева И. И. с женой и Н. А. Некрасова, Анненков называет: Павлова Ивана Васильевича (1823–1904) – публициста, в дальнейшем редактора славянофильского журнала «Московский вестник» (1860);
Щепкина Михаила Семеновича (1788–1863) – известного русского актера, друга Белинского и Герцена, жившего тогда на даче неподалеку от Соколова;
Засядко Дмитрия Александровича – товарища М. Е. Салтыкова-Щедрина по лицею, приятеля Огарева и Некрасова, входившего в литературное окружение «Отечественных записок» при Белинском, а затем «Современника»;
Горбунова Кирилла Антоновича (1822–1893) – художника-портретиста, впоследствии академика, тесно связанного тогда с Белинским и Герценом (оставил известный портрет Белинского).
127
Белинский иначе оценивал «русский социализм» славянофилов. Когда Кавелина восхитило то, что славянофил Ю. Самарин говорил о народе в своей статье «О мнениях «Современника», исторических и литературных» («Москвитянин», 1847, ч. II), Белинский ему ответил: «Перечтите-ка да переведите эти фразы на простые понятия – так и увидите, что это целиком взятые у французских социалистов и плохо понятые понятия о народе, абстрактно примененные к нашему народу» (Белинский, т. XII, стр. 435).
128
Это изречение Прудона содержится в его книге «Что такое собственность?» (см. прим. 65 к стр. 209). Герцен и Белинский были увлечены этой книгой Прудона, содержавшей резкие нападки на буржуазную собственность (см., например, запись Герцена в его дневнике от 3 декабря 1844 г. – Герцен, т. II, стр. 391). Изречение Вильгельма Вейтлинга (1808–1871) содержится в его основной работе «Гарантии гармонии и свободы»; портной по профессии, один из теоретиков утопического уравнительного коммунизма, Вейтлинг был активным деятелем рабочего движения в Германии. Анненков познакомился с ним через К. Маркса в 1846 г. в Брюсселе. Ниже Анненков приводит фразы из крикливых социал-утопических трактатов, которые во множестве появлялись накануне революции 1848 г. Анненков знакомился с ними, живя в 1846–1848 гг. за границей, большей частью в Париже. Некоторые из этих трактатов эпигонского социализма он называл в своих «Парижских письмах».









