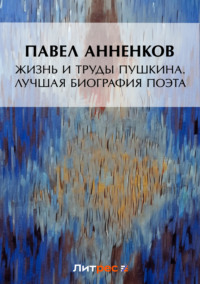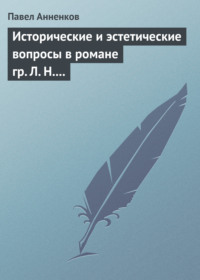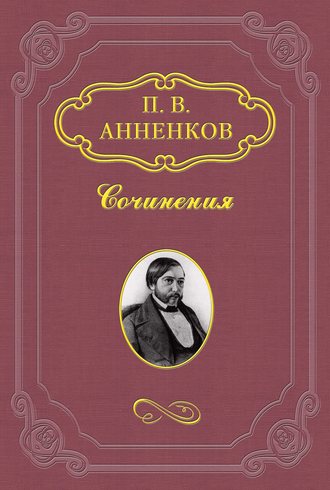
Полная версия
Замечательное десятилетие. 1838–1848

Павел Васильевич Анненков
Замечательное десятилетие 1838–1848
I
…Я познакомился с Виссарионом Григорьевичем Белинским за год до моего отъезда за границу, именно осенью 1839 года. Он приехал тогда в Петербург для сотрудничества в «Отечественных записках», привезенный из Москвы И. И. Панаевым, и уже находился во втором или третьем периоде своего развития{1}.
Известно, что Белинский выступил на литературное поприще статьей в «Молве» 1834 года, носившей заглавие «Литературные мечтания – элегия в прозе». Это было обозрение русской словесности, обратившее на себя внимание бойкостью слова и характеристикой эпох и лиц, которая не имела никакого сходства с обычными и, так сказать, узаконенными определениями их в наших курсах словесности. Лирический тон статьи с философским оттенком, заимствованным от системы Шеллинга, сообщал ей особенную оригинальность. Все было тут молодо, смело, горячо, а также и исполнено промахов, сознанных и самим автором впоследствии; но все обличало возникновение каких-то новых требований мысли от русской литературы и русской жизни вообще. Старик Каченовский{2}, – вероятно, обольщенный свободными отношениями критика к авторитетам и частыми отступлениями его в область истории и философии, старый профессор, призвал тогда к себе Белинского, – этого студента, еще не так давно исключенного из университета за малые способности, как говорилось в определении совета, жал ему горячо руку и говорил: «Мы так не думали, мы так не писали в наше время»[1]. Менее волнения, конечно, произвела статья в Петербурге, где уже созревали известные сатурналии только что основанной «Библиотеки для чтения», с ее глумлениями над наукой и над всяческими убеждениями{3}; но и здесь статья не прошла незамеченной мимо глаз. С этих пор именно Н. И. Греч{4}, как человек, еще более других приличный в сонме литературных публицистов той эпохи, усвоил систему воззрения на Белинского, сравнительно еще благосклонную. Он высказывал ее потом не раз во всеуслышание: «Умный человек, но горький пьяница, и пишет свои статьи, не выходя из запоя». Белинский-пьяница был так же мыслим, как Лессинг на канате, или что-нибудь подобное. С тех же пор Ф. В. Булгарин, с своей стороны прозвавший Белинского «бульдогом», начал свою, столь долго не прерываемую жалобу на извращение умов, свои чуть не 20-летние нападки на новый дух в литературе, грозящий лишить Россию, к стыду потомков и посрамлению перед Европою, всех ее умственных сокровищ[2].
Впрочем, как ни задорна была статья Белинского по своей форме, особенно для петербургских самозванных знаменитостей, в обличении и опозорении которых критик, по собственному признанию, находил блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное, но, собственно, она нисколько не потрясала ни одного из наших старых авторитетов и постоянно ко всем им относилась с величайшим энтузиазмом. Смелость заключалась не столько в исследовании, сколько в началах и принципах, высказанных критиком и предпосланных исследованию. Статья более грозила обличением людям и предметам, и только над очень немногими из них исполняла угрозу. Белинский еще не вносил ни малейшего раскола в тот молодой кружок, сформировавшийся в начале тридцатых годов, под сению Московского университета, из которого потом вышли самые замечательные личности последующих годов. Зародыши различных и противоборствующих мнений уже находились в нем, как легко убедиться из имен, составлявших его персонал (К. Аксаков, Станкевич и др.), но зародыши эти еще не приходили в брожение и таились до поры до времени за дружеским обменом мыслей, за общностью научных стремлений. Достаточно вспомнить, что К. С. Аксаков был тогда германизирующим философом, не менее Станкевича; П. Киреевский – завзятым европейцем и западником, не уступавшим Т. Н. Грановскому; а последний, скоро присоединившийся к этому кругу, после сотрудничества своего в «Библиотеке для чтения» Сенковского, делил вместе со всеми ими поэтическое созерцание на прошлое и настоящее России. Белинский, который так много способствовал впоследствии к разложению круга на его составные части, к разграничению и определению партий, из него выделившихся, является на первых порах еще простым эхом всех мнений, суждений, приговоров, существовавших в недрах кружка и существовавших без всякого подозрения о своей разнородности и несовместимости{5}. Вот почему восторженная статья Белинского, отличавшаяся капризным ходом, некоторою разорванностью и недостатком сосредоточенности, представляет еще бессознательное смешение наименее родственных или схожих друг с другом настроений. Чисто славянофильское представление идет здесь рядом с чисто западным; афоризмы тогдашней скептической исторической школы нашей наталкиваются на гиперболы, достойные Сергея Глинки в самые сильные минуты его патриотического одушевления;{6} либерализм и консервативное учение (если можно употреблять эти термины, занимаясь эпохой, не знавшей самых явлений, которые ими обозначаются) попеременно возвышают голос, нимало не смущаясь своим соседством. Для примера, как начинающий критик наш стоял еще тогда одновременно и за реформу Петра I, и за московскую оппозицию реформам, достаточно напомнить некоторые из положений статьи.
Значение народных обычаев и нерушимое их сбережение в среде племени составляло еще для Белинского 1834 года дело первой и точно такой же важности, каким оно казалось впоследствии для наиболее ярых противников молодого критика из славянской партии. В простых и грубых нравах он находил еще, вместе с последними, отблески поэзии, называя только жизнь, ими создаваемую, хотя самобытной и характерной, но односторонней и изолированной. Наоборот, будущие славянофилы, вероятно, вполне разделяли тогда мнение Белинского, а именно, что в реформах своих Петр Великий был совершенно прав и народен нисколько не менее любого московского царя старой эпохи. Особенно характерно то место в статье, где, переходя на сторону великого реформатора, он предпосылает, однако же, скорбное, прощальное воззвание к погибающей старине и притом в словах и образах, которые теперь, при определившейся личности Белинского, составляют для нас как будто невероятную, фальшивую черту, искажающую его физиономию. «Прочь достопочтенные, окладистые бороды, – говорит он. – Прости и ты, простая и благородная стрижка волос в кружок, ты, которая так хорошо шла к этим почтенным бородам! Тебя заменили парики, осыпанные мукою!.. Прости и ты, прекрасный поэтический сарафан наших боярынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка с пышными рукавами, и ты, высокий, унизанный жемчугом повойник – простой чародейный наряд, который так хорошо шел к высоким грудям и яркому румянцу наших белоликих и голубооких красавиц… Простите и вы, заунывные русские песни и ты, благородная и грациозная пляска: не ворковать уже нашим красавицам голубками» и т. д.
Вот откуда выходил Белинский. Либерализм безличного дружеского кружка тоже был представлен в статье довольно полно, самым основным ее положением, по которому литература наша есть дело случайного возникновения и соединения нескольких более или менее талантливых лиц, в которых общество не нуждалось и которые сами, в нравственном и материальном отношении, могли обходиться без общества. Отсюда – ничтожество литературы и слабость писателей, несмотря на их качества, таланты и усердие. Можно догадываться, что в круге ходило с успехом и европейское представление о важности буржуазии и tiers-etat[3]. для государства, потому что Белинский ищет в разных сословиях нашего отечества тех деятелей, которые помирят европейское просвещение с коренными основами русской народности, назначая для этой роли духовенство, купечество, городских людей, ремесленников, даже мелких торговцев и промышленников[4], и тут же оговариваясь, ввиду возможных воззрений с другой стороны, а именно, что «высшая жизнь народа преимущественно выражается в его высших слоях или, вернее всего, в целой идее народа». Словом, знаменитая первая статья maid-speech[5] Белинского отлично выражала тогдашнее интеллектуальное состояние образованной молодежи, у которой все виды направлений жили еще как в первобытном раю, обок друг с другом, не находя причин к обособлению и не страшась взаимной близости и короткости. Связующим поясом была тут одинаковая любовь к науке, свету, свободной мысли и родине. Можно уподобить это состояние значительному водному бассейну, в котором будущие реки и потоки мирно текут вместе до той поры, когда геологический переворот не разделит их и не откроет им пути в противоположные стороны. Белинский именно был тем подземным огнем, который ускорил этот переворот.
Немудрено, если придет кому-нибудь в голову спросить: стоит ли так долго останавливаться на журнальной статейке, не совсем свободной от противоречий и вдобавок еще с определениями, от которых потом отказался сам автор ее? Вопрос легко устраняется, если вспомнить, что статья произвела необычайное впечатление как первый опыт ввести историю самой культуры нашего общества в оценку литературных периодов. Нужно ли говорить, как она была принята молодыми умами в Петербурге, сберегавшими себя от заговора против литературы{7}, устроивавшегося перед их глазами? Для них она упраздняла множество убеждений и представлении, вынесенных из школы. Протестующий характер статьи и этом отношении был очень ясен не только для тех корифеев партии «Библиотеки для чтения», о которых мы говорили, но и людям, соглашавшимся со многими из ее положений, но не любившим видеть бесцеремонное колебание преданий, да еще на основании чужих философских систем. Таковы были Пушкин и Гоголь. И тот и другой были оценены весьма благосклонно критиком, но сохраняли о нем почти всю жизнь упорное молчание. Первый, по свидетельству самого Белинского, только посылал к нему тайно книжки своего «Современника», да говорил про него: «Этот чудак почему-то очень меня любит»[6]. Суждение второго мы сами слышали: «Голова недюжинная, но у нее всегда чем вернее первая мысль, тем нелепее вторая». Замечание касалось выводов, добываемых Белинским из своих эстетических и философских оснований и о приложении этих выводов прямо и непосредственно к лицам и фактам русского происхождения, хотя тот же Гоголь указывал позднее на статьи Белинского о его собственной, гоголевской деятельности как на образцовые по своей неотразимой истине и мастерскому изложению.
Итак, в Петербурге первая статья Белинского и все следовавшие за ней нашли отголосок всего более в тех молодых учителях русского языка и словесности, которые созывались для казенных замкнутых училищ и корпусов, разраставшихся, по принятой системе, все более и более в исключительные заведения для воспитания всего благородного русского юношества целиком. Не то чтобы статья «Молвы» сразу упразднила официальную науку о литературе: последняя держалась долго, красовалась еще на экзаменах вплоть до преобразования закрытых школ и корпусов, но, благодаря молодым учителям этих заведений, а за ними и большей части наших гимназий, образовалась, с появления статей Белинского, обок с утвержденной программой преподавания русской словесности, другая, невидная струя преподавания, вся вытекавшая из определений и созерцания нового критика и постоянно смывавшая в молодых умах все, что заносилось в них схоластикой, педантизмом, рутиной, стародавними преданиями и благонамеренной прикрасой. Растительное действие этой невидимой струи увеличивалось вместе с дальнейшим развитием критика, с которого, можно сказать, персонал учителей и молодых людей вообще той эпохи не спускал глаз, и, таким образом, имя Белинского было уже очень громко в среде нарождающегося поколения, в школах и аудиториях, когда оно еще не признавалось в литературных партиях, не ведалось добросовестно или ухищренно одними, возбуждало презрительные отзывы других и не обращало никакого внимания даже самих чутких стражей русского просвещения. Работа Белинского и его воодушевленной мысли, искавшей постоянно идеалов нравственности и высокого, философского разрешения задач жизни, – эта работа не умолкала, покуда сам он числился скромно в рядах русских второстепенных подцензурных писателей и журнальных сотрудников. Для тогдашнего цензурного ведомства первостепенными писателями долгое время были только одни редакторы журналов – Сенковский, Греч, Булгарин, за исключением Пушкина и Гоголя, слишком уже ярко выступавших вперед. Чрезвычайным счастием должно считаться то, что тогдашняя цензура не угадала в Белинском на первых порах моралиста, который, под предлогом разбора русских сочинений, занят единственно исканием основ для трезвого мышления, способного устроить разумным образом личное и общественное существование. Впоследствии она распознала в нем влиятельного писателя и всемерно старалась не допускать применение его идей к историческим лицам и современности, но и при этом способе понимания деятельности Белинского она отчасти все-таки продолжала считать его, с голоса «Северной пчелы», за человека, производящего преимущественно малопонятную, туманную чепуху, которая может быть терпима по самой дикой своей оригинальности, становясь безвредной тем более, чем сильнее и подробнее высказывается. Этому обстоятельству мы и обязаны сохранением некоторых существенных положений и мыслей у Белинского, которые пробирались на свет под именем чудовищностей и нелепостей. Это же обстоятельство поясняет многое в последующих явлениях общественной жизни нашей, которые без того могут показаться странными, нежданными и негаданными сюрпризами.
II
Я сошелся с Белинским в первый раз у А. А. Комарова, преподавателя русской словесности во 2-м кадетском корпусе. Комаров занимал и квартиру в зданиях корпуса.
Приезд Белинского в Петербург имел особенное значение, как уже было сказано, для небольшого круга тогдашних молодых людей, которые в литературном триумвирате О. И. Сенковского, Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина, выросшем на благодатной почве смирдинских капиталов, вконец ими истощенных, – видели как бы олицетворение затаенного презрения к делу образования на Руси, образец хитрой, расчетливой, но ограниченной практической мудрости, а наконец – ловко устроенный план надувательства благонамеренностью и патриотизмом тех лиц, которых нельзя было надуть другим путем. Надо сказать, что это дело в три руки производилось с замечательным искусством.
Неистощимое, часто дельное и почти всегда едкое остроумие Сенковского, глумившегося над русской quasi-наукой, старалось вместе с тем удалить всякую серьезную попытку к самостоятельному труду и отравить насмешкой источники, к которым труд этот мог бы обратиться. Греч распространялся о разврате умов и совестей в Европе, умиляясь зрелищем здорового нравственного состояния, в каком находилась наша родина, а товарищ его беспрестанно указывал на те тонкие струи яда и отравы, которые, несмотря на усилия триумвирата, все-таки пробираются к нам из чужбины и извращают суждения публики о русских писателях и русских деятелях вообще. Замечательно, что эти великие мужи петербургской журналистики тридцатых годов иногда и ссорились между собою, не доходя, впрочем, до явного разрыва, но ссорились из-за права протекции над писателями, которую каждый хотел иметь в своих руках исключительно. Протекция сделалась основным критическим мотивом, направлявшим оценку лиц и произведений. Протекция раздавала места так же точно в литературе, как и в администрации: она производила в чины и звания талантов людей, как гг. Масальского, Степанова, Тимофеева и др., и даже несколько раз жаловала просто в гении, как, например, Кукольника и «барона Брамбеуса»{8}. Нынешнему времени трудно и понять ту степень негодования, какую возбуждали органы этой самозванной опеки над литературою в людях, желавших сохранить по крайней мере за этим отделом общественной деятельности некоторый призрак свободы и человеческого достоинства. При отсутствии общественных и политических интересов бороться с триумвиратом становилось почти делом чести; по хорошему или дурному отношению к триумвирату стали узнавать в некоторых кругах молодежи – впрочем, очень немногочисленных – нравственные качества людей. Вражда к триумвирату еще усилилась, когда оказались практические следствия распоряжения, состоявшегося около того же времени, – вовсе не допускать соперничества журналов и терпеть одни уже существующие издания, что приравняло органы триумвиратов к нынешним концессиям железных дорог, с гарантией правительства. Приезд Белинского был, как сказано, особенно важен тем, что возвещал новую попытку бороться с литературными концессионерами после трех неудачных попыток: двух в Москве, предпринятых сперва «Телескопом», а затем «Московским наблюдателем», – журналом, даже и основанным именно с этою целью в 1835 году[7]. Третья, в Петербурге, взята была на себя «Современником» Пушкина – и тоже безуспешно{9}. С новым правилом о журналах, казалось, все походы против откупщиков общественного мнения должны были прекратиться. Правило это очень походило на позднейшее распоряжение относительно раскольников, которым дозволялось сохранять свои старые часовни и молельни с строгим запрещением воздвигать новые около них, но разнилось от него тем, что тогдашнее цензурное ведомство признало возможным допустить официальное подновление старых литературных часовень, чего раскольники не могли делать с своими иначе, как тайно или с подкупом. В это время А. А. Краевский, тогда еще сравнительно молодой человек, усильно добивался возможности очистить себе место в ряду журнальных концессионеров эпохи, и это – надо сказать правду – не по одному ясному материальному расчету, но и по нравственным побуждениям: противопоставить злой вооруженной силе другую, тоже вооруженную силу, но с иными основаниями и целями. Он принялся искать редакторского кресла для себя по всем сторонам и притом с выдержкой, упорством и твердостью, действительно замечательными, плодом которых было появление сперва «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» под сто редакцией (диплом на издательство приобретен был тогда известным Плюшаром у довольно мелочного, хитрого и скупого старика Воейкова), в которых, как известно, участвовал и Белинский. Затем, в 1838 году, А. Л. Краевский открыл и перекупил право на возобновление «Отечественных записок» у известного П. Свиньина, прямо уже от своего имени, и, по сделке с ним, не покидая еще «Прибавлений», объявил о выходе своего старонового журнала, сделавшегося вскоре настоящей его собственностью. Клич, который он тогда кликнул, с одобрения самых почетных лиц петербургского литературного мира, ко всем еще не подпавшим под позорное иго журнальных феодалов, отличался и очень верным расчетом и признаками полной искренности и благонамеренности. «Если и эта новая попытка, – говорил новый издатель своим сторонникам, – противопоставить оплот смирдинской клике не удастся, то всем нам останется только сложить руки и провозгласить ее торжество».
Бедный А. Ф. Смирдин и не воображал, что даст свое имя для обозначения очень неблаговидного литературного периода. Честный, добрый, простодушный, но без всякого образования, он соблазнился, получив неожиданно довольно большое состояние от книгопродавца Плавильщиков а, ролью двигателя современной литературы и просвещения. Кажется, самый этот каприз был еще подсказан ему петербургскими журналистами, которые и завладели честолюбивым торговцем для своих целей. Меценат-книгопродавец, подавленный их авторитетом, смотрел на весь мир их глазами, расточал деньги по их советам и говорил на своем купеческо-приказчичьем языке про всякое начинание, про всякий талант, не искавший покровительства триумвиратов: «Это наши недоброжелатели-с!» А что делали с ним его доброжелатели, успевшие потом разорить и еще одного такого же импровизированного двигателя русского просвещения, книгопродавца Плюшара, издателя «Энциклопедического словаря» – почти неимоверно. Я сам слышал из уст Смирдина, уже в эпоху его бедности и печальной старости, рассказ, как, по совету Булгарина, он предпринял издание, кажется, «Живописного путешествия по России», текст которого должен был составить автор «Выжигина», взявшийся также и за заказ гравюр в Лондоне. В этом смысле заключен был формальный контракт между ними, причем Смирдин назначал 30 тысяч рублей на предприятие. Долго ждали картинок, но, когда они пришли, Смирдин с ужасом увидел, что они состоят из плохих гравюр, исполненных в Лейпциге, а не в Лондоне. На горькие жалобы Смирдина в нарушении контракта Булгарин отвечал, что никакого нарушения тут нет, потому что в контракте стоит просто: заказать за границей. Ловушка была устроена грубо и нагло, но книгопродавец попался в нее. Когда Смирдин рассказывал мне этот пассаж, усталые, воспаленные глаза его налились слезами, голос задрожал: «Я напишу свои записки, я напишу «Записки книгопродавца»!» – бормотал он.
Вызывающее действие этого нового клича собрало под знамя обновленного журнала много старых и молодых сил, державшихся в стороне от литературы, как то доказал первый громадный нумер «Отечественных записок» (1839 года), исполненный замечательными, по времени, статьями; все они принадлежали перу и начинающих и заслуженных наших писателей. Бедные и богатые принялись работать на журнал г. Краевского почти без вознаграждения или за ничтожное вознаграждение, доставляя только издателю средства бороться с капиталистами, заправлявшими делами литературы, что продолжалось несколько долее, чем бы следовало, как впоследствии думали иные; но это относится к предположениям, которые так и должны остаться предложениями, и о которых ничего другого сказать нельзя. Любопытен, однако, анекдот, ходивший тогда по городу: Ф. В. Булгарин, по чувству самосохранения, скоро угадал новую силу, являющуюся на журнальном поприще с «Отечественными записками», и опасность, которая грозит авторитетам колонновожатых печати, если она решительно обратится против них. При встрече с редактором нового журнала Ф. В. Булгарин предлагал ему просто-запросто присоединиться к союзу журнальных магнатов и сообща с ними управлять делами литературы. Предложение было, конечно, устранено собеседником.
Возвращаясь к делу, следует заметить, что последующие нумера журнала представляли, как и первый нумер его, опять много прекрасных стихотворений, дельных статей и даже умных критик, но не обнаруживали в редакции ничего похожего на определенные начала, на литературные убеждения и тенденции, которые одним искусством в ведении журнального дела, в собирании людей около себя, одним трудолюбием и даже упорною ненавистью к врагам еще не могут быть заменены с успехом. В Петербурге оказался с «Отечественными записками» великолепный склад для ученых и беллетристических статей, но не оказалось учения и доктрины, которых можно было бы противопоставить развратной проповеди руководителей «Библиотеки для чтения» и «Северной пчелы». Приходилось оглянуться на Москву, которая действительно была тогда средоточием нарождавшихся сил и талантов, сильно работала над философскими системами, доискиваясь именно принципов, и не боялась ни резкого полемического языка, ни даже отвлеченного, туманного склада речи, лишь бы выразить вполне свою мысль и нажитое убеждение. Рассказывают, что при имени Белинского, предложенного И. И. Панаевым, г. Краевский не узнал в нем того человека, который должен был положить основание его общественному значению[8]. Обстоятельства принудили его все-таки обратиться к Белинскому, но когда критик наш, после предварительных переговоров, весьма облегченных тем, что, покинув «Московский наблюдатель» 1838 года, Виссарион Григорьевич не имел уже органа для своей деятельности и средств для существования, когда. говорим, критик явился в Петербург в 1839 году на постоянное жительство и сотрудничество по журналу г. Краевского, общее предчувствие в круге противников петербургского направления было, что вместе с ним явилась на сцену и живая мысль и достаточно сильная рука, чтоб подорвать или по крайней мере ослабить наконец союз литературных промышленников, в сущности презиравших русское общество со всеми его стремлениями, надеждами и с его претензиями на устройство своей духовной жизни.
III
Под впечатлением страстного тона философских статей Белинского и особенно пыла его полемики позволительно было представлять его себе человеком исключительных мнений, не терпящим возражений и любящим господствовать над беседой и собеседниками. Признаюсь, я был удивлен, когда на вечере А. А. Комарова мне указали под именем Белинского на господина небольшого роста, сутуловатого, со впалой грудью и довольно большими задумчивыми глазами, который очень скромно, просто и как-то сразу, по-товарищески, отвечал на приветствия новых знакомящихся с ним людей. Разумеется, я уже не встретил ни малейшего признака внушительности, позирования и диктаторских замашек, каких опасался, а, напротив, можно было подметить у Белинского признаки робости и застенчивости, не допускавшие, однако ж, и мысли о какой-либо снисходительной помощи или о непрошенных услугах какого-либо торопливого доброжелателя. Видно было, что под этой оболочкой живет гордая, неукротимая натура, способная ежеминутно прорваться наружу. Вообще неловкость Белинского, спутанные речи и замешательство при встрече с незнакомыми людьми, над чем он сам так много смеялся, имели, как вообще и вся его персона, много выразительного и внушающего: за ними постоянно светился его благородный, цельный, независимый характер. Мы наслышались об увлечениях и порывах Белинского, но никаких порывов и увлечений в этот первый вечер моего знакомства с ним, однако ж, не произошло. Он был тих, сосредоточен и – что особенно поразило меня – был грустен. Поверяя теперь тогдашние впечатления этой встречи всем, что было узнано и расследовано впоследствии, могу сказать с полным убеждением, что на всех мыслях и разговорах Белинского лежал еще оттенок того философско-романтического настроения, Которому он подчинился с 1835 года и которому беспрерывно следовал в течение четырех лет, несмотря на то, что сменил Шеллинга на Гегеля в 1836–1837 году, распрощался с иллюзиями относительно своеобычной красоты старорусского и вообще простого, непосредственного быта и перешел к обожанию «разума в действительности». Он переживал теперь последние дни этого философско-романтического настроения. В тот же описываемый вечер зашел разговор о какой-то шутовской рукописной повести, на манер Гофмана, сочиненной для потехи сообща несколькими лицами, на сходках своих, ради время убиения. «Да, – сказал серьезно Белинский, – но Гофман – великое имя. Я никак не понимаю, отчет доселе Европа не ставит Гофмана рядом с Шекспиром и Гете: это писатели одинаковой силы и одного разряда».