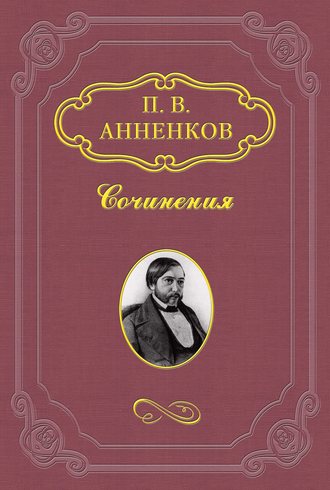 полная версия
полная версияЗамечательное десятилетие. 1838–1848
«Это ложь! Он ничего подобного не говорил. Он, напротив, сказал мне, что вернется к себе для наибольшего блага своих собственных крестьян! Он даже имел наивность пригласить меня ехать с ним!» трудно догадаться, с какой целью» (см. Д. Рязанов, Очерки по истории марксизма, М. 1928, т. II, стр. 92).
160
Анненков выехал из Петербурга за границу 8 января 1846 г., останавливался в Берлине, встречался с П. Н. Кудрявцевым, рассказывал ему о Белинском (см. Белинский, т. XII, стр. 269), а затем проездом в Париж, очевидно в марте этого же года, познакомился в Брюсселе с К. Марксом и ф. Энгельсом. Возможно, что Анненков присутствовал на одном из заседаний возглавленного Марксом с начала 1846 г. Брюссельского коммунистического корреспондентского комитета. 30 марта на заседании этого комитета в присутствии Вейтлинга Маркс и Энгельс выступили с резкой критикой его «уравнительного» коммунизма (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 2, стр. 628). В первой половине апреля Анненков был уже в Париже и в письме от 8 мая осведомлял Маркса о своей парижской жизни.
161
Маркс и Энгельс приехали в Париж в начале марта 1848 г., имея поручение от Союза коммунистов образовать в Париже Центральный комитет Союза. Маркс ведет в Париже борьбу с мелкобуржуазными демократами (Гервег, М. Бакунин), предлагавшими создать вооруженный легион из немецких эмигрантов и с помощью его произвести в Германии революцию. Маркс и Энгельс осуждают эту авантюру (впоследствии так называемая «Баденская экспедиция» с Гервегом во главе) и в начале апреля 1848 г. покидают Париж и отправляются в Германию с целью принять непосредственное участие в нараставшей революции.
162
Книга Прудона — «Système des contradictions économiques ou Philosophic de la misère», Vol. 1–2, Paris, 1846 («Система экономических Противоречий, или Философия нищеты», тт. 1–2, Париж, 1846), вызвавшая живой интерес в передовых русских кругах. 8 ноября 1846 г. Анненков уже писал об этой книге в первом из своих «Парижских писем» («Современник», 1847, № 1), восхищаясь «железной стойкостью автора посреди партий», его нападками на утопический социализм и его стремлением отыскать «закон, по которому богатства развиваются правильно и сами собой». На письмо Анненкова сразу же откликнулся В. Боткин. 26 ноября он писал Анненкову: «Ваши несколько слов показывают мне всю дельность этой книги, и слава автору, что он вышел из юношеских декламации социальной школы и взглянул на дело прямо и твердо… Дело не в том только, чтобы нападать на то, что есть, а отыскать, почему это есть, словом, отыскать законы, действующие в мире промышленном» (Анненков и его друзья, стр. 525).
1 ноября за разъяснением сути книги Прудона Анненков обратился к Марксу, и тот ответил ему обширным письмом (от 28 декабря 1846 г. из Брюсселя), содержащим блестящий анализ книги и краткое изложение воззрений самого Маркса на те вопросы общественного развития, которых касался Прудон. Сколь неглубоко понял Анненков Маркса, доказывает не только второе его письмо к Марксу от 2 июня, 1846 г., но и то, что он писал о Прудоне в своих «Парижских письмах» после получения письма Маркса (см. письмо IX от 23 декабря 1847 г. – Анненков и его друзья, стр. 356), и то, как он извратил мысль Маркса в том отрывке из его письма, который приведен в воспоминаниях в переводе самого Анненкова. За время с мая 1846 по декабрь 1847 г. известны 6 писем Анненкова к Марксу (от 8 мая, 2 июня, 2 октября, 1 ноября 1846 г., от 6 января и 8 декабря 1847 г.) и два письма Маркса к нему (от 28 декабря 1846 г. и от 9 декабря 1847 г.) (см. переписку Анненкова и Маркса в сб. «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», М. 1951, стр. 9–24; остальные письма Анненкова к Марксу см. Д. Рязанов, Очерки по истории марксизма, М. 1928, т. II, стр. 91–92, 93, 94, 98, 99).
163
Прочитав этот отрывок, К. Маркс подчеркнул слова от «той сантиментальности» до «Фурье» и сбоку приписал: «J'ai ecrit tout a fait Ie contraire de ce qu'il me fait dire sur Fourier! C'est Fourier qui Ie premier a persifle 1'idealisation de la petite bourgeoisie»' (С. Ан – ский, К характеристике Маркса, «Русская мысль, 1903, № 8, стр. 63).
«Я писал совершенно обратное тому, что он мне приписывает относительно Фурье! Именно Фурье первый осмеял идеализацию мелкой буржуазии».
Более точный перевод этого абзаца из письма Маркса таков: «Но сам г. Прудон разве не создает себе странных иллюзий, противопоставляя свою сентиментальность мелкого буржуа, – я имею в виду его декламации о домашнем очаге, о супружеской любви и все его банальности, – социалистической сентиментальности, которая у Фурье, например, гораздо более глубока, чем претенциозные пошлости нашего доброго г. Прудона» («Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», М. 1951, стр. 20).
164
Маркс имеет в виду или свою незаконченную работу «Критика политики и политической экономии», или, скорее всего, «Нищету философии».
165
Речь идет о книге «С того берега» (1847–1850), произведении, глубоко выстраданном Герценом и отражавшем один из важнейших моментов его духовной драмы – «краха буржуазных иллюзий в социализме». Анненков хорошо знал историю возникновения этой книги, отдельные ее главы он, вероятно, слышал в чтении самого Герцена; главу «После грозы» он вез из Парижа в рукописи для передачи «московским друзьям». Но уже и тогда в письме от 6 сентября 1848 г… Герцен считал необходимым предупредить друзей, чтоб они «были осторожны, слушая повествования Анненкова>. Он стал на какую-то странную точку безразличной и маленькой справедливости, которая не допускает до него большую истину» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под ред. Лемке, т. V, стр. 235).
166
Цикл «Письма из Avenue Marigny» был опубликован в «Современнике» (№№ 10 и 11 за 1847 г.). Несмотря на сравнительно «веселый» и грациозный тон повествования, в письмах уже содержалась резкая критика буржуазии, ее растлевающего влияния на общественные нравы, на искусство, критика, проникнутая горячим сочувствием революционного демократа к тяжелому положению трудящихся. Это и вызвало в России полемику вокруг писем Герцена – сочувственную поддержку их Белинским, несогласие с их содержанием таких либералов, как Боткин, Е. Корш и даже Грановский. – «Драма» Феликса Пиа, которую анализировал Герцен в третьем письме, высказывая свое сочувствие к Парижу, «за цензом стоящему», – «Парижский ветошник».
167
Свое несогласие с Герценом В. П. Боткин высказал еще до появления в печати «Писем из Avenue Marigny» (в письме к Анненкову от 14 мая 1847 г.): «Я читал его письмо к Щепкину с большим огорчением. Он такого вздору наговорил! Bourgeois, видите, виноват в том, что на театрах играются гривуазные водевили» (Анненков и его друзья, стр. 540). Письмо Герцена к М. С. Щепкину, считавшееся утраченным, недавно найдено и напечатано (ЛН, т. 61, стр. 208–212, публикация Л. Ланского). Оно написано Герценом вскоре по приезде в Париж (датировано 23/11 апреля 1847 г.) и проливает свет на историю создания «Писем из Avenue Marigny». Упоминается в этом письме и Анненков в своей обычной роли: он поддакивал Герцену, когда тот выходил из театра, «подавленный грустию». Лукаво вел полемику с Герценом и В. П. Боткин. В недавно опубликованном письме к Герцену от 16 сентября 1848 г. из Москвы он, например, писал: «Ты напрасно причисляешь меня к партизанам bourgeoisie; никогда я им не был, и ничто так не противно мне, как дух и нравственность буржуазии. Я очень хорошо понимал нападения социалистов на буржуазию, но вне социализма эти нападения мне казались несостоятельны… Мне казалось, что ты нападал на нее вне социализма» (ЛН, т. 62, стр. 46). А между тем в письме к Анненкову, больше чем за год до этого, от 19 июля 1847 г., тот же Боткин писал: «…как же не защищать ее, то есть буржуазию, когда наши друзья со слов социалистов представляют эту буржуазию чем-то вроде гнусного, отвратительного, губительного чудовища, пожирающего все прекрасное и благородное в человечестве?» (Анненков и его друзья, стр. 542).
168
Письмо (конец его утрачен) опубликовано в сб. Анненков и его друзья, стр. 550–554. Анненков приводит середину письма с незначительными отклонениями.
169
Анненков имеет в виду книгу «С того берега», в частности статьи «Россия» и «Письмо русского к Маццини», включенные автором в первое ее издание (1850).
170
Товянский Андрей (1799–1878) – реакционер, мистик, развивавший идеи о мессианском призвании Польши. В начале сороковых годов, в момент наибольшего пессимизма и отчаяния, под влияние его мессианских идей подпал и великий польский поэт Адам Мицкевич (1798–1855), некоторое время считавшийся «наместником» Товянского в Париже. В 1842 г., будучи в Париже, Анненков посещал лекции Мицкевича о славянских литературах, не свободные от влияния «товянщины». Революционная часть польской эмиграции всегда относилась к «товянщине» отрицательно.
171
Анненков говорит здесь в недоброжелательном тоне о деятельности Польского демократического товарищества во главе с центральным комитетом (так называемой «Централизацией»), образовавшегося незадолго до революции 1848 г. и сыгравшего важную роль в освободительном движении того времени.
172
Имеется в виду статья М. Бакунина «Die Reaction in Deutschland» («Реакция в Германии»), опубликованная в начале октября 1842 г. в органе левых гегельянцев «Deutsche Jahrbdcher fur Wissenschaft und Kunst» («Немецкие ежегодники науки и искусства») под псевдонимом «Jules Elysard». Бакунин обличал немецкую реакцию и говорил о повсеместном нарастании революции в Европе, в том числе и в России. В этой статье, на что и намекает Анненков, уже содержалась крылатая фраза, истолкованная впоследствии Бакуниным в анархистском духе: «Страсть к разрушению есть вместе с тем созидающая страсть». Статья восхитила русских друзей Бакунина. Еще не зная, кто ее автор, Герцен записал в своем дневнике в январе 1843 г.: «Это громкий, открытый, торжественный возглас демократической партии, полный сил, твердый обладанием симпатий в настоящем и всего мира в будущем» (Герцен, т. II, стр. 256–257). Белинский узнал об этой статье от Боткина, гостившего у него в Петербурге, и тогда же, несмотря на длительную размолвку с Бакуниным, они отправили ему с оказией приветственные письма, «…дорога, на которую он вышел теперь, – писал Белинский о Бакунине, – должна привести его ко всяческому возрождению» (Белинский, т. XII, стр. 114).
173
Здесь и ниже Анненков в недоброжелательном тоне говорит об утопических освободительных планах Бакунина (о которых Анненков был хорошо осведомлен, тесно общаясь с Бакуниным в 1846–1848 гг. в Брюсселе и Париже) – разрушении Российской и Австрийской империй и создании на их основе «славной вольной славянской федерации», которая, по его мнению, являлась «единственным исходом для России, Украины, Польши и вообще всех славянских народов» (письмо М. Бакунина к Герцену и Огареву от 15/3 октября 1861 г., опубликованное полностью в книге «Письма М. А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву», под ред. М. П. Драгоманова, Женева, 1896, стр. 75–76).
174
М. Бакунин произнес на банкете 29 ноября 1847 г. «свою известную речь», в которой говорил не только о Польше, но и, главным образом, о революционном подъеме в России, переоценивая в своем увлечении силы и возможности освободительного движения того времени (см. М. А. Бакунин, Собр. соч. и писем, М. 1935, т. III, стр. 270–279).
175
См. об этом в главе «Бакунин и польское дело» в «Былом и думах» Герцена
176
Лелевель Иоахим (1786–1861) – профессор-историк, общественный деятель, один из видных вождей демократического крыла в польском освободительном движении. После подавления революции 1830 г. эмигрировал из Варшавы в Париж, стал во главе Польского национального комитета, но в 1833 г. был изгнан из Франции и поселился надолго в Брюсселе, где с ним, очевидно в 1846 г., и встречался Анненков.
177
Польский вопрос волновал уже декабристов, и вообще «в русском мире» имел более богатую и сложную историю, чем это представлялось Анненкову, человеку, вначале скептически, а затем и прямо недоброжелательно относившемуся к польскому освободительному движению. В 1859–1863 гг. Анненков, как и подавляющее большинство либералов, был сторонником политики царизма в польском вопросе.
178
Письмо М. Бакунина, помеченное 28 декабря 1847 г., было адресовано не вообще «к друзьям», а именно к «любезному Анненкову». Оно напечатано полностью после его смерти в сб. Анненков и его друзья, стр. 620–622. Цитируя отрывок из письма, Анненков изменяет в нем отдельные слова и выражения, опускает фразу с упоминанием Сазонова, а также все обращенное к нему лично («Вот вам моя исповедь, Анненков» и др.). Курсив принадлежит Анненкову.
179
Имеется в виду многолетняя борьба К. Маркса с анархизмом и раскольнической деятельностью М. Бакунина в I Интернационале, закончившаяся исключением Бакунина из членов Интернационала на Гаагском конгрессе за основание Альянса и личную недобросовестность.
180
Гервег Георг (1817–1875) – немецкий поэт и политический деятель, мелкобуржуазный демократ. Первая книга стихов «Песни живого» (1841) принесла ему широкую известность не только в революционно настроенных кругах немецкого общества, но и в среде международной демократии. Гервег был связан с К. Марксом и А. Руге, К. Фогтом и Л. Фейербахом, со многими видными деятелями французского и польского освободительного движения; из русских его хорошо знали Сазонов, Бакунин, Огарев, Тургенев. Анненков в Париже часто встречался с Гервегом у Тургенева и в доме Герцена.
О драме в семейной жизни Герцена, причиной которой был Гервег, о его взаимоотношениях с Герценом и Натальей Александровной, см. последние главы пятой части «Былого и дум», а также, как необходимое фактическое дополнение и известную поправку к рассказу Герцена, его письма к Георгу и Эмме Гервегам (1848–1850) в публикации и с комментариями Л. Р. Ланского и обзор, составленный им же: «Письма Н. А. Герцен к Гервегам» (ЛН, т. 64, стр. 9–318). Работая над воспоминаниями, Анненков знал о существовании тогда не напечатанной пятой части «Былого и дум», но сам ее не читал. Очевидно, он слышал пересказ ее содержания от Тургенева, познакомившегося с этой частью в рукописи. Знал Анненков и о существовании интимных писем Н. А. Герцен к Гервегу, хранившихся после смерти поэта у Эммы Гервег, но содержание их было ему неизвестно.
181
Имеется в виду одно из примечаний к «Легенде о Костюшке» французского историка и публициста Мишле, в котором он пытается объяснить истоки ошеломившей его талантливости Герцена, когда он познакомился с книгой последнего «О развитии революционных идей в России».
182
Речь идет о Марии Федоровне Корш (сестре Е. Ф. Корша), московской приятельнице Герценов, путешествовавшей с ними за границу. Она действительно являлась связующим звеном между Герценами и их московскими друзьями, но ее роль в этой связи была подчас далека от «элегии» (см., например, обзор ее переписки с Герценами в публикации Н. П. Анциферова в ЛН, т. 63, стр. 430–441).
183
Анненков едва ли точно передает здесь суть мысли Герценов. В дневнике Натальи Александровны, относящемся по времени к разладу в кругу друзей (конец 1846 г. – начало 1847 г.), встречается, например, такая запись: «Иногда в бедности есть столько жестокости, гордости, столько неумолимого, как будто в отмщение (но кому в отмщение?) за то, что другие имеют больше средств…» (Герцен, т. IX, стр. 274). В таком же духе высказывался неоднократно и сам Герцен, именуя – подобное чувство «аристократизмом бедности».
А «гордость» бедности отнюдь не одно и то же, что «демократическая зависть».
184
Имеется в виду ходатайство В. А. Жуковского в 1837 г. о возвращении Герцена из вятской ссылки. Жуковский познакомился с Герценом в Вятке, сопровождая наследника, впоследствии царя Александра II, в его путешествии по России. В 1846 г. Жуковский дал благожелательный отзыв о Герцене Л. Дубельту и тем способствовал снятию с Герцена полицейского надзора. Это и позволило Герцену беспрепятственно уехать за границу.
185
Герцен именовал это впоследствии «цензурой нравов», которой особенно любил предаваться Н. X. Кетчер (см. в «Былом и думах» главу о нем). «Цензура Кетчера» возмущала и Белинского.
186
Анненков повторяет слова «москвичей» по поводу дурного влияния Огарева на Герцена во всех случаях, когда линия общественного и личного поведения последнего шла вразрез с либеральными упованиями «друзей». И. С. Тургенев писал, например, Герцену 3 декабря 1862 г., выражая мнение либеральных кругов: «Колокол» гораздо менее читается с тех пор, как в нем стал первенствовать Огарев», эта фраза стала в России тем, что в Англии называется «a truism» («Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену»«Женева, 1892, стр. 176). Отзвуки этих пересудов встречаются и в эпистолярном наследстве и в мемуарной литературе, но в своем большинстве они не имеют ничего общего с истиной.
187
Так в сознании либерала-постепеновца отразились реальные факты критики Герцена революционерами-демократами шестидесятых годов (Н. Г. Чернышевским, А. А. Серно-Соловьевичем и др.) за колебания и отступления к либерализму в период крестьянской реформы 1861 г.
188
В этой части воспоминаний Анненковым верно подмечены некоторые важные черты в духовном облике Н. А. Герцен – ее внутреннее изящество, отвращение к мещанским добродетелям, ее возвышенно-романтические порывы к жизни, выходящей за пределы семейного очага. Вместе с этим Анненков говорит много несправедливого по адресу Н. А. Герцен, например приписывая ей «диффамацию» прежних друзей, якобы подозрительное отношение к устоям семейной жизни и т. д. О действительных идеалах общественной и семейной жизни в заграничный период, об отношении к прежним друзьям, об умонастроениях Н. А. в период до и после поражения революции 1848 г., то есть как раз в тот момент, который описывает Анненков, см. чрезвычайно важные новые материалы: «План автобиографии», составленный Н. А., ее «Записки», относящиеся к событиям 1848 г., ее письма к Т. Грановскому, Т. Астраковой, М. К. Рейхель и др. (ЛН, т. 63, стр. 355–392).
189
«Записки — «Былое и думы».
190
Имеется в виду издание «Полярной звезды» (1855), начатое Герценом вскоре после создания им в Лондоне Вольной русской типографии (1853).
191
О женитьбе Боткина на Арманс Рульяр см. также рассказ Герцена под названием «Эпизод из 1844 года», примыкающий к четвертой части «Былого и дум». Факты, описанные Герценом, относятся к 1843 г.
192
«Письма об Испании» В. П. Боткина печатались в 1847 г. в «Современнике» и вышли отдельным изданием в 1857 г.
193
О тяжелом состоянии Белинского, только что вернувшегося с еще более расстроенным здоровьем из путешествия на юг вместе с М. С. Щепкиным, Боткин сообщал Анненкову в первом же своем письме по возвращении в Россию – 20 ноября 1846 г. из Петербурга – и в нем же высказал мысль, что Белинскому нужна такая «поездка, где он забыл бы свое положение и себя» (Анненков и его друзья, стр. 523). Вскоре после этого, когда выяснилась необходимость для Белинского ехать на целебные воды и встал вопрос о средствах, Боткин сразу же стал собирать их и написал письмо Тургеневу и Анненкову, приглашая их принять участие в подписке. Очевидно, это письмо, до нас не дошедшее, и имеет здесь в виду Анненков. Он сразу же ответил Боткину согласием не только денежно помочь Белинскому, но и провести с ним время в Силезии, отказавшись от путешествия в Грецию и Константинополь. Боткин переслал это письмо Белинскому, и оно растрогало его чрезвычайно (см. письмо Белинского к Анненкову от 1/13 марта 1847 г. – Белинский, т. XII, стр. 341–342).
194
Белинский выехал из Петербурга 5/17 мая 1847 г. Встреча его с Тургеневым в Штеттине не состоялась. Белинский нашел Тургенева в Берлине (см. письма Белинского к М. В. Белинской от 10/22 мая 1847 г. из Берлина и от 24 мая/5 июня того же года из Зальцбрунна – Белинский, т. XII, стр. 362–369).
195
В письме к жене от 24 мая/5 июня 1847 г. Белинский писал: «Анненков приедет к нам в Зальцбрунн 10 июня/29 мая. Мы получили от него письмо. Июня 4-го он выезжает из Парижа». Судя по письму Белинского от 16/28 нюня 1847 г., Анненков приехал в Зальцбрунн вечером 29 мая/10 июня и пробыл там с Белинским весь курс его лечения по 3/15 июля 1847 г. (Белинский, т. XII, стр. 368, 372).
196
О состоянии здоровья Белинского Анненков, очевидно, сообщал друзьям в Париж. Н. А. Герцен писала Т. А. Астраковой в двадцатых числах июня 1847 г.: «Анненков уехал к Белинскому и пишет, что нашел его в отчаянном положении, обещает притащить его сюда, я буду ужасно рада им, теперь мы что-то сиротливо здесь живем» (ЛН, т, 64, стр. 519–520). Об этом же, только со ссылкой на письмо Фролова, писал Астраковым и Герцен (ЛН, т. 64, стр. 518).
197
В издании 1880 г. И. С. Тургенев впервые в печати дал точную датировку рассказа «Бурмистр»: «Зальцбрунн, в Силезии. июль 1847 г.». Там же Тургенев закончил и рассказ «Контора», Об успехе первых рассказов Тургенева из «Записок охотника» см. в письме Н. А. Некрасова к В. Г. Белинскому, И. С. Тургеневу и П. В. Анненкову в Зальцбрунн от 24 июня 1847 г. (Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, Гослитиздат, 1952, т. 10, стр. 70–71).
198
Тургенев действительно побывал в Лондоне и снова съехался с Белинским и Анненковым уже в Париже (см. письма Белинского к жене от 7/19 июля и от 3–4 августа н. ст. 1847 г. – Белинский, т. XII, стр. 380, 388).
199
См. об этом в статье М. П. Алексеева «Мировое значение «Записок охотника» («Записки охотника» И. С. Тургенева. 1852–1952. Сборник статей и материалов, Орел, 1955).
200
Речь идет, очевидно, об отлучках Тургенева в Куртавнель (усадьба Виардо). С Жорж Занд Тургенев сблизился значительно позднее (см. его «Несколько слов о Жорж Санд» – Тургенев, т. 11, стр. 266–268). В письмах Тургенева 1847–1848 гг. встречаются указания на частые встречи с Анненковым в Париже.
201
И. С. Тургенев действительно много сделал для «Современника» с момента его возникновения и до конца пятидесятых годов, будучи не только одним из основных авторов этого журнала, но и как критик, как публицист, как собиратель литературных сил. Из «исторических и критических» заметок Тургенева в первых номерах «Современника» известны: рецензия «Генерал-поручик Паткуль. Трагедия в пяти действиях». Соч. Н. Кукольника», «Письмо из Берлина» и «Современные заметки» (I–IV); «затеяны» были статья о немецкой литературе и статья под названием «Славянофильство и реализм».
202
Имеются в виду такие выступления Тургенева, как «По поводу «Отцов и детей» (1868–1869), предисловие к собранию романов в издании 1880 г.
203
Сам Тургенев главную причину своего ареста и ссылки в деревню видел в другом – в появлении в 1852 г. в отдельном издании проникнутых антикрепостническим духом «Записок охотника» (ч. I и II). Он писал 8 марта 1869 г. поэту К. Случевскому: «В 1852 году за напечатание статьи о Гоголе (в сущности, за «Записки охотника») отправлен на жительство в деревню, где прожил два года…» («Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб. 1884, стр. 155–156), Цензурные материалы, относящиеся к первому отдельному изданию «Записок охотника», подтверждают догадку Тургенева (см. в книге Ю. Г. Оксмана «От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева», Саратов, 1959).









