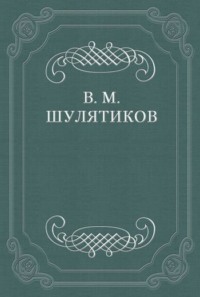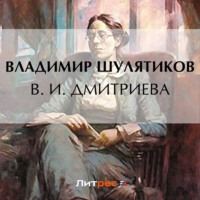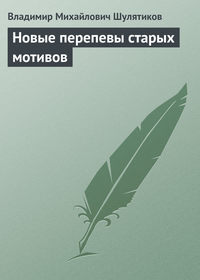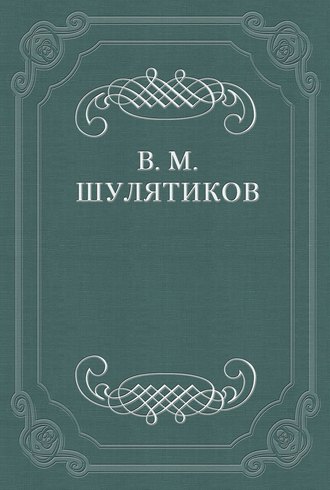 полная версия
полная версияВосстановление разрушенной эстетики
Позиция, до известной степени, спокойная и безопасная.
VI
В девяностых годах «хаос» проясняется. Процесс капиталистического развития пережил первую предварительную стадию, ранние дни своей «весны», свой Sturm und Drang Periode. И когда отшумели его «вешние воды», картина общественных отношений предстала перед глазами интеллигенции в обновленном виде. Хозяин исторической сцены из «буржуя», казавшегося безродным авантюристом, неизвестно откуда и зачем пришедшим, преобразился в «буржуа», имевшего за собой родословную, действующего по определенному, строго рассчитанному плану. Фабрично-заводская промышленность организовалась. В общественных «низах» сформировались новые наслоения; общественные горизонты раздвинулись.
Смысл и цель жизни, утерянные «восьмидесятниками», были найдены. Социальный агностицизм сменился признанием неуклонно прогрессирующего хода исторической эволюции. Индивидуализм уступает место новым проявлениям гражданственности. Реалистическое миропонимание торжествует, но в его торжестве принимает участие далеко не вся интеллигенция. Часть ее продолжает жить отзвуками минувшего. «Одинокие души» и «аристократы духа» не смятены еще дыханием новой жизни, не объявлены диковинными типами, подлежащими поступлению в музей археологических древностей. Напротив, наряду с ростом реалистического учения, замечается также рост «идеалистических» веяний. В девяностые годы процветают и неоромантизм и декадентство, и ницшеанство, н литература «настроений», и философский метафизический идеализм, и возрожденная мистика. «Идеалисты» объединяются и в последнее время заявляли о себе как о самостоятельной, имеющей определенную программу партии.
Как возможен подобный культурный анахронизм?
Запоздалая вспышка идеалистической реакции отвечает новым моментом развития интеллигентных ячеек. Если в восьмидесятые годы главным источником пробуждения склонности к «идеализму» явилось отчаяние перед потускневшею – в глазах интеллигентов: – далью социального будущего, теперь, в девяностые годы, рост экзотических культурных «цветов» объясняется групповым эгоизмом так называемого «интеллигентного пролетариата»[32].
В девяностые годы совершается быстрое нарастание названной общественной группы, я, по мере того как ее ряды растут, она проникается классовым сознанием. В ее классовом сознании нет элементов, которые бы обеспечили за ней почетную миссию передового авангарда человечества. Она ставит на первый план интересы собственной борьбы за существование. Особенности этой борьбы определяют ее идеологию.
Интеллигентам-пролетариям приходится вести индивидуалистическую, неорганизованную борьбу. Интеллигентный труд обставлен всякими «случайностями» и «возможностями»; масса его представителей не обладает мужеством противостоять им с открытым забралом, капитулирует перед ними. Дабы не лишиться места на жизненном пиру, они отдают себя в рабство «обывательских» забот и стремлений. А отдавшись в рабство последним, «они поневоле суживают круг своих наблюдший над действительностью. Действительность для них – это «мещанское» царство и собственная их среда. Опять, как и «восьмидесятники», они обречены составлять свои понятия о реальной жизни на основании ее обрывков. Значение новейших форм экономической революции не оценивается ими по достоинству. Новые типы «мещанского царства», взятые вне связи с остальной новой действительностью, понятия о новой жизни не дают. Опять, как и «восьмидесятники», представители известной части интеллигенции заражены безусловным пессимизмом по отношению к эмпирической действительности. Опять исповедуется догмат: прогресса из «опыта» вывести нельзя.
«Научная теория прогресса подобна тусклой свече, – читаем мы, например, на страницах «Проблем идеализма»[33], – которую кто-нибудь зажег в самом начале темного бесконечного коридора. Свеча скудно освещает уголок в несколько футов вокруг себя, но все остальное пространство объято глубокой тьмой. Позитивная наука не в силах раскрыть будущих судеб человечества, она оставляет нас относительно их в абсолютной неизвестности. Отрадная уверенность, что все доброе и разумное в конце концов восторжествует, не имеет никакой почвы в механическом миропонимании: ведь все есть абсолютная случайность, отчего же та самая случайность, которая нынче превознесла разум, завтра его не потопит, и которая нынче делает целесообразными знание и истину, завтра не сделает столь же целесообразными невежество и заблуждение?.. Нет, все, что имеет сказать здесь честная позитивная наука, это одно: ignoramus et ignorabimus. Разгадать сокровенный смысл истории и ее конечную цель ей не под силу».
Позитивная наука – это накопленный «опыт» действительной жизни. Автор приведенных слов, обобщая данные «опыта», имеющегося на активе «интеллигентного пролетариата», заключает о ходе всего исторического развития пессимистические выводы относительно двух уголков действительности, доступных наблюдениям названной – группы, распространяет на все прошлое, настоящее и будущее человечества.
Ignoramus et ignorabimus! В точности воспроизводятся пройденные уже историей уроки агностицизма:
Меняя каждый миг свой образ прихотливый,Капризна, как дитя, и призрачна, как дым,Кипит повсюду жизнь в тревоге суетливой,Великое смешав с ничтожным и смешным…………………………………………………….…………………………………………………Вот жизнь, вот этот сфинкс!.. Закон ее – мгновенье.И нет среди людей такого мудреца,Кто мог бы указать толпе – куда ее движенье.Кто мог бы уловить черты ее лицаТуманы «хаоса» продолжают носиться перед глазами известной части современной интеллигенции. И обо многих «ужасах» хаоса поведала за девяностые годы изящная литература, служившая отражением идеологии интеллигентного пролетариата. Только на этот раз причины, создавшие «хаос» в воображении интеллигента, менее общего характера, чем прежде, и потому в них нет уже элементов истинного трагизма.
«Скорбь» и «тоска» одиноких душ по-прежнему – излюбленная тема художественного творчества. Искусство – игра находит себе все больше и больше жрецов. «Воображение, выдумка, вымысел», – некогда заимствованные из кодекса «аристократической» – artis poeticae – разночинской интеллигенцией, потерявшей свое реалистическое мировоззрение, продолжают усиленно культивироваться.
Но «гони природу в дверь, она войдет в окно»: «молодые» беллетристы и поэты, занимаясь строительством мира «обманов», возвышающегося над миром действительности, всеми своими произведениями говорят лишь об одном. Увлекаются ли они своими «свободными» полетами фантазии, занимаются ли они созерцанием «тайны» мировой науки, решают ли они сложнейшие психологические загадки, создают ли они самые причудливые настроения, – они неизменно лишь подчеркивают «страхи» интеллигентного пролетариата за свое существование. «Все кругом до безумия страшно. Не знаешь, что тебя ждет завтра; кругом столько зловещих возможностей; утром, когда только что проснешься, мысль на миг наполняет меня таким мутным, беспросветным ужасом, что лучше бы уж прямо умереть; вдруг заболеешь, и станешь неспособным к труду, вдруг какая-нибудь случайная встреча, недоразумение».
Так резюмирует свое отношение к реальной жизни героя рассказа В. Bepecaeва «Встреча» – учитель гимназии Смерницкий. Он сравнивает жизнь с маленькой беззащитной птичкой, которая сидит неподвижно в гнездышке с выражением ужаса в глазах, а вокруг нее шныряют массы дерзких и сильных хищников. Верная эмблема положения интеллигента-пролетария, замкнувшегося в интересы личной борьбы за жизнь и не желающего выйти из сферы этих интересов, не доросшего до сознания, что не в себе и не в среде подобных же ему обанкротившихся интеллигентов он должен искать точки опоры!
Самочувствие интеллигента-пролетария, одиноко стоящего среди капиталистического общества, действительно, не может не быть отвратительным. Он видит себя беспомощным перед сильными «хищниками». Следуя «обывательским» побуждениям, он закрепощает себя «хищникам». Ведя изо дня в день рутинное, бесконечно однообразное, «серенькое» существование, он приходит к убеждению, что живет не своей волей, а волею какой-то роковой, железной, механической необходимости, что его судьбой властно распоряжаются какие-то «темные» силы. Настоящей жизни он не знает; настоящая жизнь эволюционирует помимо его участия и содействия. Смысл и цель ее от него скрыты. Она развертывает перед ним только коллизии случайностей и иррациональных сцеплений.
«Страшно жизни… Как же тут с ума не сойти от ужаса!..»[34]
Таково мировоззрение современного «одинокого человека», эгоиста-интеллигента… И как нельзя более понятен поразительный успех писателя, сумевшего в своих рассказах яркими красками передать состояние самочувствия, в котором находится интеллигентный пролетариат. И интеллигентный пролетариат, в лице своей публики и своих критиков, сказал ему свое великое спасибо. Даже тот, кого заподозрить в симпатиях к «новым» веяниям трудно, приветствовал первые шаги художника-модерниста. Ветеран шестидесятых годов Ник. Михайловский благословил Леонида Андреева, объявил, что произведения последнего свидетельствуют о проникновении «в глубь и в ширь жизни».
А между тем, ни о какой «широте» и «глубине» взглядов Леонида Андреева речи быть не может. Художник «интеллигентного пролетариата» большого знакомства с действительностью не имеет. Подобно Чехову, он пользуется выхваченными из недр реальной жизни образами, лишь для своих психологических целей. И еще дальше, чем Чехов, он, ушел в область искусства – игры. О том, на что расходует Леонид Андреев силы своего художественного творчества, дает надлежащее представление, например, следующая тема рассказа. Под кровлю отчего дома, в очаг крупнобуржуазной семьи, возвращается «блудный» сын. Николай – имя его, бывший студент технологического института, семь лет тому назад ушел, рассорившись с отцом, и с тех пор пропадал неизвестно где. Теперь отец и сын примирились. Но пребывание Николая в родном гнезде оказалось непродолжительным. Чувствуя себя чужим человеком среди буржуазной семьи и великолепной обстановки буржуазного дома, он опять удаляется в неведомую «темную даль», из которой явился. Тема рассказа производит впечатление чего-то искусственного.
Зачем, спрашивается, понадобилось человеку «убеждения» – каким автор хочет изобразить Николая – возвращаться туда, где, как он прекрасно, знает, ему делать нечего? Подобное возвращение для «человека убеждения» было бы лишь признаком малодушия и отступничества от предназначенного пути. Если бы настоящую тему принялся разрабатывать автор «Рассказа неизвестного человека», он не задумался бы охарактеризовать своего героя именно усталым, поддавшимся припадкам уныния, «рыцарем на час». Но Леонид Андреев в данном случае не «чеховец». Он все-таки: знает, что существуют за пределами «мещанского царства» цельные и сильные люди. Он предлагает вниманию читателей «молодого орла», а не «инвалида». «Дикостью и свободой, – (описывает он фигуру Николая, – :веяло от его прихотливо разметавшихся волос; трепетной грацией хищника, выпускающего когти, дышали все его движения, уверенные, легкие, бесшумные… И говорил он повелительно и просто, видимо, не обдумывая своих слов, точно это были те ошибающиеся, невольно лгущие звуки человеческой речи, а непосредственно звучала сама речь. Чувство раскаяния не могло иметь места в душе такого человека». Изменять, Как видите, Николай самому себе не может. Он – вполне цельная натура, а поступок его резкое противоречие его психике. Автор ни объяснил этого противоречия; причины возвращения Николая остались секретом. Но разгадать данный секрет не так трудно.
Леонид Андреев, как художник известного типа, интересуется вовсе не «идеями» «блудного» сына, не его гражданским обликом. Обо всем этом он не сообщил ничего читателю, удовольствовавшись общим указанием, что «блудный» сын – человек другого мира, чем его родные. И голословного указания для его художественных целей вполне достаточно. Цель, которую он преследует в рассказе, – создать известный психологический эффект. Возвращение «молодого орла» – лишь канва, на которой вышиваются узоры известного настроения. Автору важно добыть эту канву, и он не останавливается перед тем, как добыть ее: он пользуется «недозволенными» средствами, то есть переступает границы «правдоподобности»… Впрочем, идеологу «интеллигентного пролетариата» так легко допустить подобного рода нарушение «реалистических требований». Он имеет дело с человеком, пришедшим из мира иного «опыта», иной жизни, чем мир изученных интеллигентным пролетариатом обрывков действительности. Леонид Андреев интересуется своим героем лишь постольку, поскольку приход последнего вносит диссонанс в атмосферу «мещанского царства». Персонажи «мещанского царства» поставлены на первый план: «высокая, сумрачная фигура» пришельца виднеется в отдалении. Передача впечатлений, получаемых персонажами «мещанского царства» от присутствия таинственного для них гостя, – вот над каким материалом работает автор. Он старается заразить читателей настроением страха. Или другой пример, аналогичный постановке темы. Это – рассказ «Молчание». Там тоже фигурирует лицо, явившееся из «иного мира» в серенькую обывательскую среду и принесшее с собой ужас «тайны». Там тоже интерес автора сосредоточивается не на изображении духовного облика человека, разорвавшего с «мещанской» средой. Этот человек там еще меньше действует, чем в рассказе «В темную даль», обрисован еще более неопределенными тонами. Вера промелькнула в самом начале повествования как метеор – и исчезла; на первом плане стоит ее отец, и отчаянные старания его разгадать «тайну» Веры – главная тема рассказа «Молчание». Опять весь рассказ написан о целью вызвать в читателе депрессивное душевное состояние. И в том, и в другом случае автор прибегает к искусственным приемам для достижения своей цели. Все, с самого начала до конца, им «выдумано». Искусственна общая композиция; искусственны и детали отделки. Припомните, например, рядом каких положений создается «настроение» в «Молчании»: автор заставляет Веру броситься под поезд: ее комната «молчит»; по воле автора, мать героини поражена параличом: мать «молчит»; затем автор отворяет клетку и выпускает птичку: клетка «молчит», наконец, «молчит» весь дом, «молчит» могила Веры, – почва для покоса ужаса, таким образом, приготовлена, и автор пишет центральную сцену. Припомните также, например, вступительный строки рассказа «В темную даль»: «Уже четыре недели жил он в доме – и четыре недели в доме царили страх и беспокойство. Все старались говорить и поступать так, как они всегда поступали, и не замечали того, что речи их звучат глуше, что глаза их смотрят виновато и тревожно и часто оборачиваются в ту сторону, где находятся отведенные ему комнаты». Двери его комнаты весь день заперты изнутри, и когда домашние проходили мимо этих дверей, «они умеряли шаг, и все тело их подавалось в сторону, словно в ожидании удара». По имени его не называли. «Слово же «он» точно и резко выражало страх, который вызывала его высокая сумрачная фигура. И только одна старая бабушка звала его Колей, но и она испытывала напряженное состояние страха и ожидание беды, охватившей весь дом, и часто плакала». Краски сгущены; преднамеренность автора сквозит в каждом проведенном им штрихе.
И так постоянно. Леонид Андреев везде выступает служителем искусства-игры. Не изменяет он себе и в тех произведениях, за которые получает наименование крайнего натуралиста. Создавая их, он также руководится целью воспроизвести «настроение». Реалистические описания сами по себе не имеют в его глазах ценности. Те или другие явления действительности приковывают его внимание лишь как источники тех или иных эмоциональных комплексов. И Леонид Андреев пользуется ими как составными элементами для строительства «мира сна», мира обманов», как удобным материалом, которым можно распоряжаться, повинуясь требованиям творческого воображения.
Отсюда понятны его быстрые переходы от разработки «натуралистических» тем к фантастическим и «декадентским» сюжетам. Эти переходы не знаменуют для него переходов из области одного искусства область другого. Из осколков ли действительности или из обрывков кошмарных видений фантазии, он одинаково может создать свою мозаичную работу, оставаясь в среде одного и того же процесса творчества. В свое время П. Михайловский отметил рассказ «Ложь» – как облако на ясном горизонте художественной деятельности начинавшего беллетриста. С тех пор по этому горизонту заходили и грозовые тучи: появились «Стена» и «Набат». Но и облако и тучи не были неожиданностью; они лишь придали зловещий колорит горизонту, очерченному и без того туманами: ясного горизонта не существовало. Quasi – реалистические произведения Леонида Андреева – тоже своего рода «облака»; о «громадно-несущейся вперед жизни», о жизни действительности понятия они не дают.
«Я действительности нашей не вижу, я не знаю нашего века», – эти слова, сказанные одним откровенным enfant terrible современной поэзии, мог бы применить к себе Леонид Андреев. Он знаком лишь с миниатюрными уголками реальной жизни, а все остальное скрыто от него завесой неизвестности. И свой «опыт» жизни он формулирует: жизнь – это игралище «равнодушных слепых сил», фаталистически действующих по неведомым для человечества законам и обращающих судьбу человека в клубок каких-то иррациональных случайностей.
«Интеллигентный пролетарий» высказывается определенно и решительно… Выше мы указали, как сложилось подобное миросозерцание: кажущаяся «глубина» и «широта» взглядов Леонида Андреева свидетельствует лишь о бессилии разгадать загадку сфинкса и о «бегстве» от «действительности».
Типичнейшие герои Л. Андреева – это люди, живущие «грезами» или «мечтами», люди «воображения» – «imaginatifs» et «reveurs».
Чиновник Андрей Николаевич («У окна») отсиживается от «действительности», уйдя в свой внутренний мир. И вот каким образом он удовлетворяет себя за неудачи на поприще реальной жизни. В свободные от службы часы он подходит к окну своей комнаты и смотрит на красивый барский дом, находящийся на противоположной стороне. «Даже… когда все кругом стояло безжизненным и грустным, зеркальные стекла дома сияли, и тропические растения, отчетливо вырезаясь, казались молодыми, свежими, радостными, точно для них никогда не умирала весна, и сами они обладали тайной, вечно зеленой жизни. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и воображать, как живут «там смеющиеся, красивые люди неслышно скользят по паркетным полам, тонут ногой в пушистых коврах и свободно раскидываются на мягкой мебели, принимающей форму тела. За зелеными цветами не видно улицы, с ее грязью, и все там так красиво, уютно и чисто. Очутиться самому на положении обитателя красивого! барского дома Андрей Николаевич не желал бы жить для него вообще значит только «испытывать тот страх, который идет вместе с жизнью», а тем более «страшна» шумная, открытая жизнь. Его идеал: – ограничиваться созерцанием, точнее – работой воображения по поводу созерцаемого. Работа воображения избавляла Андрея Николаевича от страха перед жизнью. «Время застывало для него в эти минуты, и его зияющая, прозрачная бездна оставалась недвижимой». Также за бесцветность и убожество своего существования вознаграждает себя игрой воображения Сергеи Петрович («Рассказ о Сергее Петровиче»). Он «ординарный», ограниченный юноша, мечтал о каком-то «чуде», благодаря которому «он преображается в красивого, умного и неотразимо-привлекательного» человека. После оперы он представлял себя певцом, после книги – ученым; выйдя из Третьяковской галереи – художником, но всякий раз фон составляла толпа, «они»… которые преклоняются перед его красотой или талантом, а он делает их счастливыми. Когда длинными неуверенными шагами, опустив голову в выцветшем картузе, Сергей Петрович шел в столовую, никому в голову не приходило, что этот невидный студент с плоским ординарным лицом в настоящую минуту владеет всеми сокровищами мира». Героем его воображения был жюль-верновский капитан Немо, ушедший в сказочную глубь океана, прельщавший Сергея Петровича своею «стихийно-свободной личностью». Впоследствии «яркое до боли в глазах и сердце», «чудесное и непостижимое» видение сверхчеловека вытеснило все остальные призраки, «возвышавшие» ординарного юношу над действительностью.
Сашка и его отец («Ангелочек»), способные поддаться чарам возвышающих обманов, воплощающие в ангелочка, все свои грезы о светлой жизни, о счастье, Валя («Валя»), упивающийся игрой волшебного вымысла, грезящий о царстве печальных русалок и таинственных чудовищ – разновидности все того же общего типа «мечтателей».
И сам автор принадлежит к категории последних: он наделил своих героев своим собственным «imagination creatrice».
Его «творческое воображение» отмечено тем же характером, какой отличает и грезы Вали. Вале кажется, будто перед его глазами проносятся ужасные люди-чудовища. «В темную ночь они летели куда-то на своих колючих крыльях, и воздух свистел над их головой, и глаза их горели как красные угли. А там их окружали другие такие же чудовища, и тут же творилось что-то таинственное, страшное. Острый, как нож, смех, продолжительные, жалобные вопли, кривые полеты, как у летучей мыши; странная дикая пляска при багровом свете факелов, кутающих свои кривые огненные языки в красных облаках дыма; человеческая кровь и мертвые белые головы с черными бородами… Все это были проявления одной загадочной и безумно злой силы… гневные и таинственные призраки».
Сравните описание «Стены» и «Набата»: те же дикие образы, то же нагромождение мелькающих неясных форм и очертаний, тот же кошмарный импрессионизм. Воображение Леонида Андреева – это не «воображение пластическое», а «воображение расплывчатое»[35]. «Расплывчатое» воображение, импрессионизм характеризуют также – что подчеркивалось уже литературной критикой – и манеру описаний всех рас скалов нашего художника, которые свободны от декадентского колорита, Мы не будем останавливаться на социологической оценке импрессионизма и расплывчатого творчества в области художественной литературы. Ограничимся лишь одним важным для нас указанием: импрессионизм, как и всякий другой вид «imagination diffluente», говорит об удалении художника от действительности. Определяющая роль от внешних факторов творчества переходит в импрессионистическом и декадентском искусстве к фактору внутреннему. Образы, с которыми оперирует расплывчатое воображение, суть «эмоциональные абстракции»[36].
Другими словами, художник «нового искусства» берет от «внешнего» мира лишь то, что может служить удовлетворением потребностям обособленной жизни его «я». Потому-то «новое» искусство так дорого «интеллигентному пролетариату»: это искусство позволяет обращаться с явлениями действительности произвольно, пользоваться лишь ее «осколками», возвышаться над нею, почаще позабывать о боли поражения, понесенного на ее лоне. Импрессионизм, декадентство, символизм имеют «идеалистическое»[37] значение: они служат прикрытием для того, кто отступает перед стремительным натиском реальной жизни. «Поменьше действительности» – этому правилу следует импрессионист Андреев, рисующий вместо тел контуры, вместо людей – силуэты, и передающий вместо тонов – полутона, вместо жизни – отзвуки жизни. Но, освобождаясь, таким образом, от «действительности», он остается ее узником.
Мы выше указали социологический смысл того «настроения», которое Леонид Андреев старается постоянно воспроизвести тем или иным путем – то есть подбирая искусно «ужасы» реальной жизни или пользуясь какой-нибудь искусно придуманной психологической антитезой или обращаясь к техническим приемам «упадочников» – к обрисовке кошмарных видений.
VII
Отрывок из дорожных contemplations одного «интеллигента-пролетария».
Интеллигент-пролетарий едет по новопостроенноя железной дороге, пересекающей глухие провинциальные дебри. Картины, развертывающиеся перед окнами вагонов, наводят его на думы о смысле его собственного существования. «Какой стране принадлежу я… я, русский интеллигент-пролетарий, одиноко скитающийся по родным краям? Что общего осталось у нас с этой лесной глушью? Она бесконечно велика, и мне ли разобраться в ее печалях, и мне ли помочь им? Моя собственная маленькая жизнь проходит беспорядочно в мелкой погоне за минутами счастья, на которое я тоже имел право, но где же оно в этих снежных пустынях? И как страшно одиноки мы, беспомощно ищущие красоты, правды и высших радостей для себя и для других в этой исполинской лесной стране. Как прекрасна, как девственно богата эта страна! Какие величавые и мощные чащи стоят вокруг нас, тихо задремывая в теплую январскую ночь!.. И в то же время какая жуткая даль!» Основные черты, характеризующие пессимизм, которым проникнуты современные рыцари печального образа, идеологи интеллигентного пролетариата по отношению к эмпирической действительности, имеются налицо. И в растерянности перед процессом реальной жизни, и в страхе перед нею, и в тоске одиночества исповедуется интеллигент-пролетарий. Имеется также признание в наличности эгоцентрических мотивов. Наконец, указывается на культ эстетического начала. Если прибавить к этому, что наш интеллигентный пролетарий одарен, как мы увидим ниже, большей склонностью к идеализму, то мы получим полную схему миросозерцания, типичного для определенной общественной группы. И было бы, пожалуй, излишним к ряду сделанных нами характеристик присоединять еще одну, повторяя оценку мотивов, о которых нам приходилось говорить в предыдущих главах, если бы литературный облик автора приведенной цитаты не давал нам возможности несколько ближе ознакомиться с генеалогическим древом «нового искусства».