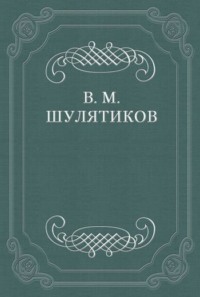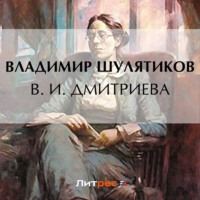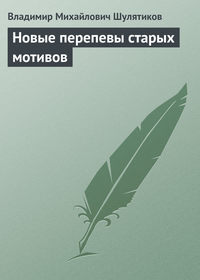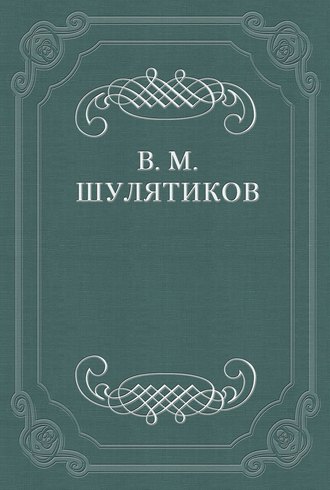 полная версия
полная версияВосстановление разрушенной эстетики
И. Бунин – цитата принадлежит его перу – вышел из «лесной глуши», из недр «помещичьей Руси». Но потеря органической связи с «родными гнездами» не означает для него полного разрыва с последними. Чувствуя себя на положении «интеллигентного пролетария», он продолжает, тем не менее, сохранять к «своей родине» платоническую привязанность. Старобарский склад жизни и старобарская культура не вызывают с его стороны слова резкого порицания. Напротив, они рисуются ему в довольно заманчивых красках: он исполнен чувства меланхолической грусти по отживающей старине.
Как не двусмысленно свидетельствуют его рассказы, удаление от «родного гнезда» является в его глазах источником великих зол.
Например, почему чувствует себя несчастным герой рассказа «Новый год»? Этот герой, «интеллигентный пролетарий», погруженный всецело в заботы о хлебе насущном, принужден влачить бесцельное, серенькое существование, закрепостив себя бюрократической службой. У него есть имение, но имение это заложено и перезаложено; обосноваться в своем «родном гнезде» repot рассказа И. Бунина лишен возможности.
«Положим, – рассуждает он, – можно заняться хозяйством… Но какое хозяйство можно завести в этих жалких остатках усадьбы, на сотнях десятин земли? И теперь почти повсюду такие усадьбы, на сто верст в окружности нет ни одного дома, где бы было светло, весело, чувствовалось что-нибудь живое, и разумное!..» Между тем, сделаться сельским хозяином, жить собственным углом – его заветная мечта. Идиллию «светлого, веселого, разумного» существования в помещичьем углу он выставляет как единственный маяк, светящий «во тьме житейских бурь». Именно невозможность реализовать подобную идиллию повергает героя г. Бунина в безысходно-пессимистическое настроение.
Или, как объясняет г. Бунин «трагизм» положения другого «интеллигентного пролетария», фигурирующего в рассказе «Без роду-племени»? И для названного «интеллигентного пролетария» все злоключения проистекают, по словам г. Бунина, оттого, что еще на пороге ранней юности ему пришлось покинуть «отчий дом». Автор вкладывает в уста своего героя такое признание: «городок, где осталась моя семья, разорившаяся помещичья семья, был от меня далек, я не понимал тогда, что потерял последнюю связь с родиной. Разве есть у меня теперь родина? И для меня потянулись одинокие дни без дела, без цели в будущем и почти в нищете. Ведь у меня нет даже и этой связи с родиной – своего угла, своего пристанища. И я быстро постарел, выветрился нравственно и физически, стал бродягой в поисках работы для куска хлеба»… Другими словами, имей «интеллигентный пролетарий» свой угол, он не жаловался бы не на тоску одиночества, ни на бесцельность существования, ни на преждевременную старость.
Новые перепевы старых мотивов: повторяется сказание о «вечном скитальце» – русском интеллигенте, обреченном на злосчастную долю неудачника-авантюриста. Сказание это сложилось давно, еще в начале XIX века, в дворянской среде. «Вечный скиталец» – это интеллигент-дворянин, оторвавшийся от «родной почвы», покинувший родовое поместье ради иных сфер жизни. Обрисовывая его образ самыми траурными тонами, поместное дворянство указывало, что считает его изменником «общему», то есть обще сословному делу и обще сословным традициям. Вне пределов родного гнезда, учило оно, не может быть счастья, и путь каждого, кто отказывается от миссии, завещанной ему дедами и отцами, усеян всевозможными терниями; потеря смысла и цели жизни, беспомощное одиночество – непременное следствие «ухода на сторону»… И в славянофильской догме подобные взгляды нашли себе наиболее определенное и яркое выражение. Но и мировоззрению «романтиков» апология прикрепления к «родной почве» не была чужда. Воплощая в фигурах мятежных «титанов», кидающих дерзкий вызов человеческому обществу и уходящих от этого общества, свой протест против салонной «толпы», они в то же время грезили об идиллиях тихих «патриархальных» уголков. Правда, картины уединенной жизни в «уголках» зачастую являлись украшенными причудливой игрой фантазии, но за узорами вымысла всегда легко было разглядеть, реальны! «остов здания». Ненависть к мещанству у романтиков прекрасно уживалась с буржуазными тенденциями. Точно так же дело обстоит и у г. Бунина. Выступая противником «мещанской» культуры, негодуя на доступные его наблюдению слои (современного общества за то, что они заражены духом «поголовного мещанства», И. Бунин с трогательной нежностью говорит о «старосветском благополучии». Мещанскому складу жизни он противополагает патриархальную «домовитость».
«Склад мелкопоместной дворянской жизни, – вспоминает он в рассказе «Антоновские яблоки» прежние времена, – который теперь стал (сбиваться уже на мещанский, – в прежние годы, да еще и на моей (памяти, то есть очень недавно, имел много общего со складом богатой мужицкой жизни, по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию». И этой старобарской «домовитости» он произносит на страницах «Антоновских яблок» – прочувствованный панегирик.
Описывается усадьба одной «старосветской помещицы».
«Крепостного права я не знал и не видел, но помню, что у тетки Анны Герасимовны чувствовал себя совершенно в дореформенном быту. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут крепостное право еще живо. Усадьба – небольшая, но вся старая и прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек, – невысоких, но домовитых, – множество, я и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами». Следуют описание сада, «славящегося своей запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками», и барского дома, «основательно выглядывающего из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени». Даже мелькающие на дворе фигуры ветхих стариков и старух, «последних могикан дворового сословия», не нарушают цельности впечатления, производимого на автора уголком «дореформенного быта».
Автор чувствует себя уютно «в этом гнезде, на тихом круглом дворе, под бирюзовым осенним небом»…Равным образом «домовитость» внутренней обстановки «старосветской» обители служит для автора источникам «бодрящих» настроений. Эти настроения не покидают автора тогда, когда ему приходится наталкиваться на зрелища неурядиц современной деревенской жизни. В «Антоновских яблоках» есть характерное место. И.Бунин рассказывает, как однажды, после долгого пребывания в городе, он посетил родные «Палестины», какими убогими и скучными показались ему родные поля, какие неприглядные сцены он наблюдал, пока на крестьянской подводе ехал по направлению к «старой усадьбе». Но дорожные сцены не оставили в его душевном мире глубокого следа, не вызвали надлежащей реакции. И, очутившись в родном гнезде, г. Бунин быстро освобождается от власти первых впечатлении.
«Первым впечатлением, – сообщает он, – не следует доверять, деревенским после городских – особенно. Проходит два-три дня, погода меняется, становится свежее, и уже усадьба и деревья начинают казаться иными. Начинаешь улавливать связь между прежней жизнью и теперешней, и… здоровье, простота и домовитость деревенской жизни снова проступают и в новых впечатлениях то там, то здесь. Прошло почти пятнадцать лет, много изменилось кругом, я и сам пережил много, но я опять чувствую себя дома, почти так же, как пятнадцать лет тому назад: по-юношески грустно, по – юношески бодро. И мне хорошо среди этой сиротеющей и смиряющейся деревенской жизни». Так, от настроений действительности потомок старых «феодалов» находит успокоение в родной стихии, врачует свою «усталую душу» «барскими» переживаниями.
В тех же случаях, когда «родина» далеко, когда нет налицо обстановки, непосредственно создающей соответствующее настроение, потомок «феодалов» вызывает его искусственным образом. Он обращается к помощи воображения. Действием последнего он старается возвыситься над «царством поголовного мещанства», пленником которого является, – над прозой одинокой борьбы за существование, над сферой мелких, будничных интересов и мелкой погони за счастьем. «…Я по целым дням сижу за работой, гляжу в окно на мокрые вывески и серое небо, и все деревенское очень далеко от меня. Но по вечерам я читаю старых поэтов, родных мне по быту и по многим своим настроениям… А ящики моего письменного стола полны антоновскими яблоками, и здоровый осенний аромат их переносит меня в деревню, в помещичьи усадьбы… И вот передо мной проходит целый мир…»
Приведенный пример того, как созидается «возвышающий обман», раскрывает секрет возрождения литературных традиции, отвергнутых в свое время проповедью «мыслящих реалистов». Старые поэты, о которых говорит и Бунин, – это именно выразители «феодальных» переживаний и «феодальной» идеологии. Поздний отпрыск земледельческого класса пользуется «культурным» материалом, накопленным предками. Не потому, что реалистическое направление наскучило, – как пытаются доказать критики известного оттенка, – а потому, что современные интеллигентные пролетарии «феодального» происхождения, ограниченные в своем общественном кругозоре и не имеющие в своем распоряжении «новой культуры», принуждены по необходимости прибегнуть к архивам прошлого – именно потому намечается путь реализации низвергнутых «кумиров» и их литературного credo. Заветам «старых» поэтов и «старых» новеллистов усердно следует и Бунин в своей литературной деятельности. Своими стихотворениями он воскрешает предания лирики личных ощущений и чувств. Как новеллист, он доходит вплоть до возвращения к аристократически – салонному роману[38].
Казалось бы, продукты художества, трактующие такие темы, давно стали исключительным достоянием «мелкой» прессы, журналов «для семейного чтения», дамских альманахов: реалистическая школа еще с конца сороковых годов изгнала их совершенно из обихода передовой литературы. И еще тогда их единственными защитниками выступали лица в роде публицистов пресловутой «Северной Пчелы», настойчиво рекомендовавших не изменять заветам «аристократизма». Но tempora mutantur. Произведения «аристократической» музы украшают ныне страницы изданий, считающихся прогрессивными. В рядах известной части интеллигенции раздается клич, призывающий обратить взоры назад, к «вершинам аристократической цивилизации». «Духовные вершины, аристократической интеллигенции прошлого заключают в себе более высокие психические черты и в некоторых отношениях они ближе к будущему, чем буржуазно-демократическая интеллигенция капиталистического века с ее духовной бедностью и анти-идеалистическим духом»[39].
Между вершинами «аристократизма» и нищетой «мещанства» для представителей «интеллигентного пролетариата» не существует третьего элемента культуры, одинаково далекой от культуры «феодалов» и культуры «буржуазной демократии»; представителей «интеллигентного пролетариата» не видят и не признают.
«Аристократическая» реакция катится широкой волной. Форменный романтизм, романтизм, рационализировавшийся, давший, например, ницшеанскую систему с ее культом героев, презрением к «демосу», апофеозом аристократического «рода», эстетизм, увлечение индивидуально-психологическим искусством – все это проявления одного и того же прогресса. Каждая отдельная клетка, «интеллигентного пролетариата» берет из архива прошлого то, что ей по вкусу, что отвечает ее инстинктам и потребностям. Если клетки, более слабые, более способные поддаваться, зачастую, патологическим формам маразма, то есть клетки, одаренные наименьшим социальным самочувствием, заимствуют из названного архива все экзотическое, то сравнительно более нормально организованные клетки пользуются архивным материалом с большей осторожностью и разборчивостью. В результате заимствования создается или романтическая сказка, или аристократический роман, или психологическая новелла, или рассказ настроений, или лирическое стихотворение, воспевающее личные переживания.
Но – повторяем – за вычетом преднамеренно кричащих или явно патологических примеров, романтика, эстетизм, литературный «индивидуализм», возродившись, в наши дни потеряли свой первоначальный колорит. Как все интеллигенты, которые наметили путь к реабилитации «родной старины», так и те, которые восприняли предание чужой культуры, – одинаково не в состоянии воскресить былого произвола и фантазии. Творческое воображение все-таки рационализировалось. Все-таки уроки, преподанные разночинской интеллигенции классических времен, не пропали совершенно даром для интеллигентного пролетариата.
VIII
«Как вы все мелки, как жалки, как вас много! О, если бы явился суровый и любящий человек, с пламенным сердцем и могучим всеобъемлющим умом! В духоте позорного молчания раздались бы вещие слова, слова – как удары колокола, и, может быть, дрогнули бы презренные души живых мертвецов!..
«Мне нужен учитель, потому что я человек; я заплутался во мраке жизни и ищу выхода к свету, к истине, красоте, к новой жизни, укажи мне пути! Я человек. Ненавидь меня, бей, но извлекай истины из моего равнодушия к жизни! Я хочу быть лучшим, чем есть: как это сделать? Учи!..»
Так Максим Горький устами своего «читателя» нападал на, современную школу беллетристов и требовал возвращения к прежним традициям литературы, к временам «пророков», проповедников, учителей жизни. Явившийся из общественных «низов» писатель нес оттуда иное, более высокое представление о задачах деятельности художника, чем то, которое узаконялось идеологами интеллигентного пролетариата.
Но осуждение «слабых духом», капитулировавших перед действительностью «молодых» беллетристов за то, что последние не могли заявить себя учителями, указывать и открывать новые пути в лабиринте общественных отношений, будить дремлющих «мертвецов», – это осуждение не было равносильно в устах Максима Горького безусловному признанию несостоятельности мировоззрения «слабых духом». Напротив, многое сближало автора «Троих» и «На дне» с «интеллигентным пролетариатом», многое из настроений названной группы находило отклик в его духовном мире. Даже принято некоторой частью критики не выделять Максима Горького из сонма представителей «молодого» поколения художников-интеллигентов… И, в свою очередь, М. Горький выступал с «изъявлением своих больших симпатий к носителям «нового» мировоззрения»[40], указывая тем самым на узы духовного сродства, связывающие его с последними.
Эти узы – его индивидуализм и идеализм.
Общественный класс, отражением интересов которого служат рассказы, повести, драмы Максима Горького, – противник реалистического миропонимания. Опять мы имеем дело о общественной группой, беспомощно стоящей перед лицом действительности, и на этот раз беспомощность означает не удаление в область узко групповой борьбы за жизнь, не заражение обывательскими стремлениями, а бессильную агонию низверженных в прах гладиаторов. Босяки – действительно люди, которым «нет ходу в жизни».
Правда, Горький заставляет своих босяков говорить о строительстве жизни, о проявлениях активной энергии, о героизме. Но на какой героизм способны босяки и куда ведет их героизм, какого рода победу одержать они могут над «враждующей судьбой». Вот яркие примеры доступного для них торжества. Илья Лунев, в образе которого Максим Горький наиболее полно обрисовал психологию босяка, долго накапливает силы для того, чтобы дать решительный бой своему неприятелю – «мещанскому» обществу. Наступает минута боя: Лунев на именинах своего компаньона по торговле, бывшего полицейского чиновника, делая неожиданное признание в убийстве, произносит резкую обличительную речь против общества. И когда присутствующие поражены, как громом, его признанием и его обличениями, Лунев чувствует себя победителем, наслаждается их паникой. Но лишь только все, что он имел сказать, было сказало, Лунев тотчас как бы опускается с неба на землю. «Он почувствовал, что устал говорить, что в груди его образовалась равнодушная пустота, а в ней, как тусклый месяц на осеннем небе, стоял холодный вопрос: а дальше что?»
А дальше ничего: Лунев отомстил, как мог, за «обиды жизни»; цель жизни была им отныне потеряна, и автор спешит своего героя удалить со сцены.
Точно так же далее подобного минутного торжества не пошел другой носитель босяцких настроений – Фома Гордеев. И он излил недовольство жизнью в резко обличительной речи перед собранием пирующих «мещан», чувствовал себя одно мгновение победителем и затем погрузился в состояние «равнодушной пустоты», и так закончилась повесть его исканий света и счастья.
Босяцкий героизм, одним словом, сводится к вспышке, иногда очень яркой, бессильного гнева: это – героизм отчаяния, героизм гибели. Песнь о «Смелом Соколе», испытавшем счастье битвы, падающим с высоты с разбитой грудью, бьющимся в «бессильном гневе о твердый камень» – апофеоз этого героизма. Характерно, что в «Песни о Соколе» описывается именно момент гибели, характерно, что Сокол видит в битве самую цель, а не средство к достижению других, положительных целей.
«О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я… к ранам груди… и захлебнулся моей бы он кровью!.. О, счастье битвы!» – восклицает умирающий Сокол. Максим Горький переводит на поэтический язык те положения, в которых приходится стоять и Луневу и Фоме Гордееву в минуту расчетов с «мещанским царством». В духовном мире босяков доминирует чувство «обиды на жизнь»; с обличениями против мещанского царства они выступают уже тогда, когда отчаялись в существовании для них иных путей исхода из «хаоса» действительности; давая решительный бой, они преследуют одну цель – отомстить за, обиды; о плодах победы они не думают, потому-то момент боя совпадает для них с моментом достижения цели, ради которой битва предпринята; потому-то после битвы им ничего больше не остается делать и желать.
Lumpen – пролетариат не принадлежит к числу общественных единиц, который дано принимать участие в строительстве жизни. Он, в его целом, обречен лишь довольствоваться пассивною ролью, реагировать пассивными ощущениями на тревогу «громадной несущейся вперед жизни».
«Живи и ожидай, когда тебя изломает, а если изломает уже – жди смерти! Только и есть на земле умных слов… Проходит жизнь известным порядком, ну, и проходи, – так, значит, надо, я тут не при чем. Законы-с, против них невозможно итти», – так выясняет свою позицию в процессе реальной жизни проницательный представитель своего класса, безрукий босяк, фигурирующий в рассказе «Тоска».
Эмпирическая безысходность – полнейшая. И она порождает отрицание реалистического взгляда на вещи. «Рассуждают люди, – исповедуется безрукий босяк, – о том, о другом и прочее… Глупо-с! Очень глупо! О чем рассуждать, когда существуют законы и силы? Как можно им противиться, ежели у нас все орудия в уме нашем, и он тоже подлежит законам и силам? Значит, живи и не кобенься, а то тебя сейчас же разрушит в прах сила, состоящая из собственных своих свойств и намерений и из движений жизни! Это называется философией действительной жизни…»
Думать – это значит для босяка воскрешать скорбную память прошлых падений и неудач и убеждаться в непоправимом трагизме своего положения.
Челкаш, образец сильной и цельной, по мнению М. Горького, личности, на минуту предстает перед читателями упавшим и жалким. Разговор с Гаврилой навел его на думы о прошлом. «Память, – замечает автор, – этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в выпитый некогда яд подливает капли меда… и все это затем только, чтобы давить человека сознанием ошибок и, заставив его полюбить это прошлое, лишить надежды на будущее». И Челкаш лишается на мгновение своего «героического облика», сознает себя несчастным, одиноким человеком, «вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах».
«Задумавшийся» человек – синоним человека, потерянного для жизни.
«Ты думаешь, – говорит босяк Сергей Мальве, – вот оно что!.. А кто думает, тому скучно жить… Задумаешься – разлюбишь жизнь. Это всегда так бывает», – формулирует босяцкий страх перед жизнью Макар Чудра. Ту же мысль в своеобразной форме высказывает Кравцов («Ошибка»). «Думать – это даже благонамеренно, – потому что от дум человек погибнет сам, и вы не тратите своих копеек на то, чтобы погубить его!»
Как на пример человека, погибшего от «яда дум», Максим Горький указывает на Коновалов. Но раз думы о действительности, раз «правда жизни» убивают человека, то, естественно, эмансипироваться от власти этих дум, от признания этой «правды».
«Правда, которая, падая на голову человека, как камень, убивает в нем желание жить, – да погибнет!..[41]. Бегай от дум про жизнь»…[42]
Кто сумел приказать себе «не думать», кто сумел отбросить память прошлого и заставил замолкнуть в себе сознание своей полной неудачи на жизненном пиру, тот, – объявляет босяцкая мудрость, – устоял в борьбе за существование. Единственное, что остается «бывшим людям», беспомощным перед неумолимыми законами жизни, – это избавить себя от «излишних и бесплодных страданий». Босяк постольку хозяин своей судьбы, поскольку ему удается облегчить тяжесть агонии. Скрасить мгновение неизбежного конца – единственно доступное для босяка счастье. И величайшее несчастье для него – не уметь этого сделать. А раз только таким путем он может оказать сопротивление «враждебным» обстоятельствам, только таким путем проявить свою жизнеспособность, то, естественно, возникает босяцкое учение о силах личности, как единственных очагах человеческой жизни и человеческой истории.
Все (то есть «все» конца) зависит от самого человека, имеет ли он в себе достаточно душевных сил (то есть сил мужественно встречать конец) или нет.
Корень всех зол в том, что люди «слабы», что слишком много «нищих духом». Все спасение в «богатстве духа»: надо заботиться только о приобретении этого богатства; надо воспитать в себе сильную и цельную личность, надо уверовать в себя. И «нет крепче оружия, чем эта вера, вера в человеческую личность». «Человек – вот правда…»
«Все – в человеке, все для человека! Существует только человек. Все же остальное – дело его – рук и мозга! Чело-век! Это – великолепно звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека!..»[43]
Таковы основоположения босяцкого индивидуализма.
Вместе с тем, проповедуя спасение от убивающей «правды» действительности и отравляющих дум, босяцкая житейская мудрость открывает широкие пути к усвоению идеалистических взглядов. Взамен логически рассуждающего ума, признанного ею непригодным для приспособления в борьбе за существование, она предлагает обратиться к, помощи «возвышающего обмана» – «свободной» фантазии.
В одном из наиболее ранних произведений Максима Горького рассказан следующий характерный случай. Проститутка просит студента написать от ее имени письмо ее возлюбленному. Студент пишет. Через несколько дней новая просьба о новом письме: только на этот раз письмо должно быть адресовано самой Терезе (имя проститутки) от имени ее Болеся. Первое письмо оказывается не отправленным по назначению, а лежащим в столе у проститутки. Студент поражен; у него даже мелькает подозрение, не сошел ли кто-нибудь из них – Тереза или он сам – с ума.
«Слушайте, Тереза! Что все это значит? Зачем вам нужно, чтобы писали другие, сам я вот написал, а вы его не послали». – «Куда?» – «А к этому… к Болесю?..» – «Да его же нет!..»
И Тереза объясняет, что в данном случае это безразлично: «Ах, Иисус-Мария! Ну что же, что нет, ну? Нет, а будто бы есть! Я пишу к нему, ну – и выходит, как бы он есть… А Тереза – это я, и он мне отвечает, и я опять ему…»
«Вот вы мне написали письмо к Болесю, а я дала другому прочитать, и когда мне читают, я слушаю и думаю, что Болесь есть! И прошу написать письмо от Болеся к Терезе… ко мне. Когда такое письмо мне пишут, да читают, – я уж совсем думаю, что Болесь есть. А от этого мне легче живется…»
Мы у родников идеализма. Случай с Терезой рельефно обрисовывает роль возвышающих обманов, как формы приспособления к потребностям борьбы за существование.
В переводе на философскую терминологию, героиня Максима Горького совершает так называемый «прыжок из мира необходимости» в (мир «свободы», из мира «бытия» в мир «долженствования». Истинный трагический смысл этого «прыжка», на примере горьковской героини, становится в высшей степени ясным. Обман – это соломинка, за которую хватаются утопающие.
«Наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер, – оправдывает Коновалов босяцкую склонность украшать повествования о своей судьбе различными фантастическими элементами. – Нельзя, друг, если у человека в жизни не было ничего хорошего, он ведь никому не повредит, коли сам для себя придумает какую ни то сказку, да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так оно было, – верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь …»
Ничего не поделаешь! Да, необходимость, железная необходимость заставляет обитателей босяцкого царства исповедовать идеализм.
Поставивши вопрос, таким образом, художник этого царства объявляет себя на стороне идеализма. В уста тех из своих героев, которым он симпатизирует, он вкладает апологию его. Апостолом идеализма является, например, странник Лука.