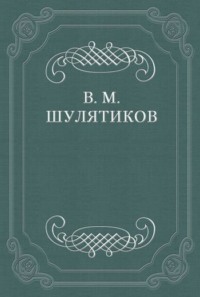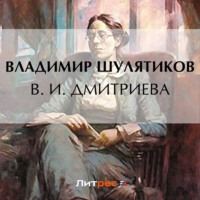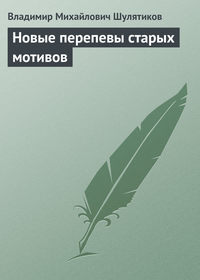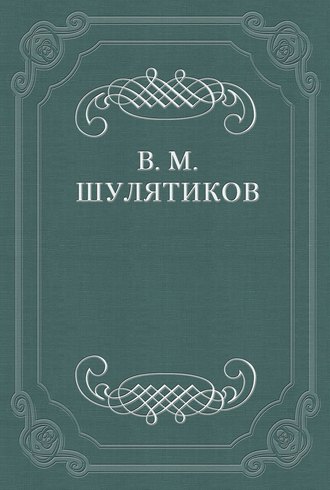 полная версия
полная версияВосстановление разрушенной эстетики
Герой рассказа Гаршина «Трус» идет добровольцем на войну. Что, побуждает его сделаться участником «зла»? Он не может уклониться от «общего горя и общего страдания». Невозможность уклониться для него вытекает из следующего психического факта.
Между ним и неким Василием Петровичем происходит такой разговор. Василий Петрович уговаривает его не идти на войну, доказывая, что он, не вынеся ужасов войны, может или сойти с ума или пустить пулю в лоб. Приводится пример, имевший место при одной артиллерийской переправе по залитым водой дорогам; артиллерия в одной «трясине» застряла; солдаты без пользы надрывались, стараясь вытащить орудия. «– Доктор молодой был у них, последнего выпуска, нервный человек. Плачет. «Не могу, – говорит, – я вынести этого зрелища, уеду вперед». Уехал. Нарубили солдаты веток, сделали чуть не целую плотину и, наконец, сдвинулись с места. «Вывезли батарею на гору; смотрят, а на дереве доктор висит… Вот вам пример. Не мог человек вида мучений вынести, так где же вам самые-то муки одолеть?..
– Василий Петрович, да не легче ли самому муки нести, чем казниться, как этот доктор?
– Ну, не знаю, что хорошего, что вас самих в дышло запрягут.
– «Совесть мучить не будет, Василий Петрович».
Для героя повести Гаршина, следовательно, порыв самоотверженности является бегством от внутренних страдании, средством избавиться от «гнетущей мысли». Из двух зол гаршинский герой выбирает меньшее. А что, действительно, оставаться на месте для него равносильно сумасшествию или самоубийству, явствует из следующей записи в его дневнике: «Все новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться: в книге вместо букв – валяющиеся ряды людей; перо кажется оружием, наносящим белой бумаге черные раны. Если со мной так будет итти дальше, право, дело дойдет до настоящих галлюцинаций…»
Другой пример подобного же бегства от внутренней дисгармонии. Герой «Ночи» приходит к убеждению, что «жить на собственный страх и счет» нельзя, что необходимо отказаться от своего «я», отдавши себя на служение ближним, связавши себя с общею жизнью.
«– Да, да! – повторял в страшном волнении Алексей Петрович. – Все это сказано в зеленой книжке (Евангелии), и сказано навсегда и верно. Нужно «отвергнуть себя», убить свое я, бросить на дорогу…
– Какая же польза тебе, безумный? – шептал голос.
Но другой, какой-то робкий и неслышный, прогремел ему в ответ:
– Молчи! Какая же будет польза ему, если он сам растерзает себя?»
Ближайший повод, который заставил Алексея Петровича именно в данное время сначала решиться на самоубийство, а затем переменить решение и притти к мысли о необходимости отречься от своего «я», не сообщен читателю. Но это в данном случае неважно. Гаршин был заинтересован лишь общей постановкой психологической темы – анализом пробуждающихся альтруистических побуждений. И опять процесс идет в прежнем порядке: отречение от своего «я» становится необходимым психологическим актом, ибо это «я» – «всепожирающее существо», уродец, как глист, сосущий душу, убивающий ее. Покончить с этим существом, «отвратительным я», – значит удалить от себя надвигающуюся катастрофу.
Гаршинские герои отрекаются от себя, чтобы спасти себя. На первый взгляд, казалось, они повторяли пример разночинцев-народников: разночинцы-народники также бежали от своей «личности», от своего «я», старались избавиться от внутренних страданий, служа «общему» делу. Но дело в том, что их поколение, поколение Решетниковых и Левитовых, бежало от своего обособленного «я» к толпе родственных «я», от себя бежали к себе же. Поэтому акт их отречения от своей личности не сопровождался таким перерасходом трагической энергий, какой отмечает «восьмидесятников».
Зрелища чужих страданий герои Гаршина не могут переносить без страшного внутреннего потрясения, без того, чтобы не проникнуться пафосом ужаса перед жизнью: герой повести «Трус» при известиях в битвах доходит почти до галлюцинаций; образ глухаря преследует Рябинина, как кошмар, и наконец даже заставляет его пережить ужас горячечного бреда. Кое-что из «кошмарных» страниц гаршинских повестей следует отнести, конечно, за счет патологических особенностей психики их автора. Но если душевный недуг диктовал Гаршину частое обращение к обрисовке патологических моментов, облекал «трагическое» – его миросозерцание в туманы кошмарных видений, – все же сущности «трагического» его миросозерцания эти «туманы» не объясняют.
Источника перерасхода «трагических» чувств и ощущений следует искать в особенностях социального кругозора «восьмидесятников». Сгущение красок на палитрах их художников соответствует сужению этого кругозора.
«Восьмидесятники», потерявшие дорогу в темноте «хаоса», не усматривавшие вдали никаких светлых общественных перспектив, поставленные лицом к лицу лишь с толпой «буржуев» и «сереньких» людей, переживали молчаливую драму беспомощных «одиноких душ». Все кругом них сливалось в картину «вечного зла». И вот каждый отдельный случай, когда им приходилось сталкиваться с проявлениями страданий, получал для них особое значение: они вкладывали в него весь запас пессимистических настроений, накопленных переживаниями молчаливой «драмы». Вокруг отдельного случая они концентрировали весь опыт собственных жизненных неудач. Они подводили тогда итоги беспомощности и безвыходности своего положения.
Воплощение «мирового зла» в красном цветке, эта аллегория, изображенная больным воображением гаршинского героя, в то же время типична для психологии интеллигенции восьмидесятых годов. Откиньте узоры патологического вымысла, и вы получите следующий сюжет: изверившийся во всем, изнемогающий под бременем бесплодных страданий интеллигент переносит на определенное единичное явление всю боль своей «наболевшей души», и погибает, пораженный трагизмом открывшегося зрелища.
Быть свидетелем язв общественного настроения – ужасно, но видеть эти язвы не должно означать – проникнуться пессимизмом трагической безысходности… Только осложненное индивидуалистическим настроением зрелище страданий могло заставить гаршинских героев погибать от внутренних терзаний и казниться до галлюцинаций, до самоубийств…
Громоотводом тяжелых впечатлений, вызываемых картинами настроения жизни, может быть лишь просветленное социальное сознание. Гаршин его не имел и, убежденный в неисцелимом трагизме жизни, допускал в известных случаях частичное разрешение этого трагизма. Разрешения носили, как мы отметили выше, индивидуалистический характер. И в спасительность подобных разрешений Гаршин плохо верил.
Он нигде не показал торжества самоотречения. Однажды он на личном примере пытался разрешить трагизм, и каковы были результаты? Он отправился добровольцем на театр военных действий, дабы разделить общее горе; исповедью его попытки явился рассказ: «Четыре дня». Рябинин, перенесший тяжелую болезнь, бросает искусство и едет в деревню учителем; но там он, по выражению автора, «не преуспел». Героя «Ночи», вырвавшего из своего внутреннего мира все пожирающее «я», Гаршин заставляет сойти с жизненной сцены в минуту самоотречения: только при такой обстановке Гаршин получает возможность привести пример человека, который бы, действительно подсчитав итоги своего жизненного опыта, оказался достигшим внутренней гармонии, радужно настроенным, бесповоротно покончившим со своим пессимизмом. Но это был уже «человеческий труп с мирным и счастливым выражением: на бледном лице». Если бы этот труп каким-нибудь чудом опять превратился в живого человека и Гаршину пришлось бы рассказать читателям его дальнейшую судьбу, то Гаршин лишился бы своего единственного «счастливого» героя.
Его герои, уходящие служить «общему», «неведомому организму» с определенной целью – примириться с самим собой, бежать от своих страданий, растворив свои страдания в «общем» горе, терпят неудачу. Они несут, вступая на путь новой жизни, лишь свои страдания и готовность страдать вместе с жертвами общественного настроения, но этого слишком мало: требуется, идя по новому пути, иметь в руках светоч знания горизонтов общественного развития, требуется быть вдохновленным твердой верой в общественный прогресс. Но предстать туда, «где стоны слышатся, где трудно дышится», банкротом-агностиком, капитулировавшим перед «хаосом» действительности, – это значило осуждать себя на новую катастрофу. Очутившись перед «новым миром», условия развития которого совершенно им непонятны, гаршинские герои должны и в новой среде повторить прежнюю роль – роль «одиноких душ»…
Находясь в «культурном» обществе, они удаляются от «толпы», стараясь найти спасение в тайниках собственной личности: идеал аристократа духа» дразнит их воображение. Зрелище «растущих язв» современности повелевает им бежать от, «личности» к «человеческим массам». То от «правды» они бегут к «выдумке», то от «выдумки» к «правде».
И там и здесь они – экзотические растения, и там и здесь они не в состоянии разрешить трагизма своего положения.
Выразивши в образах своих героев свои колебания между двумя противоположными началами, Гаршин дал своеобразные образы художественного творчества. Он впервые узаконил ту «промежуточную» форму беллетристических произведений, которая, отступая от цельности «гражданского» реализма, однако не граничит с областью «романтической сказки». Индивидуалистические предпосылки гаршинского миросозерцания обусловливают психологический род повести. Интерес художественного творчества сосредоточивается для Гаршина в передаче индивидуальных настроений и ощущений, сопровождающих те или иные впечатления внешнего мира. Весь внешний мир затрагивается лишь постольку, поскольку он служит для распространения своего «я» – распространения настроении и эмоций личности. Он наполовину творится в мастерской внутренней жизни художника. Вот откуда отмечаемое критикой отступление на второй и третий план обрисовки явлений «реального мира» у Гаршина.
«Где же вымысел, воображение, выдумка где?» – спрашивал старик Тургенев, обозревая современную ему литературу. Этим требованиям, в таком смысле, в каком их ставил Тургенев, удовлетворила беллетристика восьмидесятых годов;. Тургенев имел в виду не ультра-романтические полеты фантазии, а преобладание субъективно-творческого элемента, эманацию художественных образов из внутреннего мира художника, разрешение психологических проблем. Рассказы Гаршина говорят о зарождении подобного рода искусства: они предтечи новой эры.
Отныне воскресает беллетристика, как fiction, как «обман» – выражаясь старинными терминами. Беллетристические произведения начинают лениться не постольку, поскольку они отражают насущные потребности действительности, а поскольку рядом с миром действительности они создают особый мир, особую надстройку над действительностью. Художественные образы и идеи, рожденные не как непосредственные отражения материальных интересов реальной жизни, а лишь связанные с последней через посредство «индивидуальной» психологии, объявляются живущими самостоятельной жизнью. Плоды творчества приобретают ценность вещей an und fur sich. Обращается исключительное внимание на форму художественных произведений, Область искусства. становится мистической областью «вечной» красоты. Слагается даже учение о безграничной свободе эстетического воображения.
Устанавливается мода на изящную литературу. Увлечение изящной литературой носит «идеалистический» характер, начинает играть роль цитадели, куда укрываются потерпевшие поражение на лоне действительности малодушные воины.
Вместе с тем, по – мере удаления искусства от «реальной» подпочвы, меняется и взгляд на художника слова. Прежде, когда беллетристика служила делу освещения вопросов действительности, накопляла материал для социального анализа и производила этот анализ, – беллетрист-писатель являлся в глазах публики учителем жизни, проповедником, пророком. Теперь начинающий все более и более творить «изнутри себя», все более и более переходящий на положение строителя «нового мира», существующего независимо от «действительной жизни», беллетрист, естественно, теряет авторитет руководителя общественного мнения. В лучшем случае он ограничивается указанием на те или – другие проявления социальных недугов, и выражает свое бессилие перед «растущими язвами», перед трагизмом «бесплодных страданий». Но вообще он из социолога-учителя перерождается постепенно в мастера психологических «ценностей», считающегося удачно исполнившим свою миссию, раз ему удалось заразить читателей известным настроением, вызвать в их душе ряд известных эмоций.
Социальный реализм признается «тенденциозным». Художнику предъявляются требования, получившие в наши дни категорическое выражение: «художник может и должен высказываться обо всем, чем живет (его дух, но требовать «от него можно только одного: истинно художественного, непосредственно свободного отношения к изображаемому предмету и красоты формы»[30].
Отступление от области «действительности» легализируется.
IV
С потерей своего прежнего значения художники-беллетристы долгое время примириться не могут. Первый писатель, заявивший категорически о том, что служители искусства сошли с общественного пьедестала, развенчаны как общественные деятели, заплатил за подобное признание ценой тяжелых душевных переживаний.
Юноша – Надсон лелеет идеал писателя-гражданина. Художники, по его убеждению, должны перерождать действительность «огненным словом». Обладая даром «огненного слова», он сам мог бы «прорубить» мир:
Как беспощадно б, как суровоПорок и злобу я клеймил…Я б поднял всех на бой со мглою,Я б знамя света развернулИ в мир бы песнею живоюСтремленья к истине вдохнул!..Но способствовать перерождению действительности он не властен. И это обстоятельство диктует ему пессимистические строки:
Мне не надо такого слова…Бессилен слабый голос мой,Моя душа к борьбе готова,Но нет в ней силы молодой…В груди – бесплодное рыданье,В устах – мучительный упрек,И давит сердце мне сознанье,Что я, я раб, а не пророк. Поэт-юноша объясняет свое беспомощное положение тем, что «муза» обделила его, наградив слабым дарованием. На самом деле, с первых шагов литературной работы Надсона обнаружился его яркий талант. Впоследствии поэт указал, что источник зла не в особенностях его дарования, что бессилие врачевать недуги современности – общий удел поэтов его времени. Отвечая на упреки за то, что его песни не являются «ярким маяком во мраке молчаливом», он восклицает:
…Не требуй от певцовВеличия души героев и пророков!В узорах вымысла созвучных звонких строк,Разгадок не ищи и не ищи уроков…Поэты – только «голос» родной страны, а не учителя жизни, открывающие светлые горизонты будущего.
Учить не властны мы!..Учись у мудрецов,На жадный твой запрос у них ищи ответа;Им повторяй свой крик голодных и рабов:Свободы воздуха и света!..Больше света!..Поэты «исхода» не знают: «ночь жизни» окутала их, как и прочую толпу. И облегчить «роковые недуги» действительности они не могут, лишь давая отклик и привет толпе.
Надсон, отказываясь от непринадлежащей ему роли, утешает себя мыслью, что давать «отклик и привет» толпе, страдать ее страданиями – благородное призвание. Но это весьма слабое утешение для него… Образ пророка слишком заманчив и привлекателен. Не быть пророком, в глазах Надсона, – синоним духовного банкротства. Отсутствие «пророков» художников – признак «жалкого, дряхлеющего века». Единственно, кто может спасти современное человечество из «бездны зла», – это именно «могучий пророк».
В минуты же гнетущего отчаяния Надсон не раз призывал этого пророка явиться:
Где ж ты, вождь и пророк?.. О, приди,И встряхни эту тяжесть удушья и сна!восклицает он, убедившись в том, что душевный дар без пользы им растрачен, и будущее не обещает ничего хорошего.
Изнемогает грудь в бесплодном ожиданьи,Отбою нет от дум, и скорби, и тревог…О, в этот миг я весь живу в одном желаньи,Я весь – безумный вопль: Приди, приди, пророк!еще яснее подчеркивает он спасительную миссию «пророка».
И призывом пророка он заканчивает свою литературную деятельность, подводит итоги всего жизненного опыта:
Пора! Явись, пророк всею силою печали,Всей силою любви взываю я к тебе.Взгляни, как дряхлы мы, взгляни, как мы устали,Как мы беспомощны в мучительной борьбе.Теперь иль никогда… Сознанье умирает,Стыд гаснет, совесть спит… Ни проблеска кругом,Одно ничтожество свой голос возвышает…При такой высокой оценке «пророческого» начала низведение себя в простые «рядовые» должно было означать, во всяком случае, тяжелую душевную драму, не могущую быть устраненной при помощи паллиативных средств. Слияние Надсона с «толпой» не было прочно. Толпу Надсон определял постоянно как массу поглощенных будничными заботами борьбы за существование людей. С толпою объединяли его лишь непонимание «хаоса» действительности, страх перед действительностью и проблески некоторых настроений, грозивших временами поэту застоем «полдороги». Делить с толпою «будничный удел» поэт постоянно отказывался; против «мещанских» настроений постоянно боролся.
Правда, борьба с последними была подчас нелегка, покой «полдороги» казался подчас весьма соблазнительным; жажда личного счастья говорила в нем подчас слишком властно, стараясь заставить его забыть обязанности «гражданина». Надсон даже называл соблазн «полдороги» более опасным врагом, чем прочие враги:
Есть у свободы враг опаснее цепей.Страшней насилия, страданья и гоненья;Тот враг неотразим, он в сердце у людей,Он – всем врожденная способность примиренья.Но восторжествовать над собой «неотразимому врагу» он все-таки не давал. И уже одна борьба с этим врагом ставила его над «толпой».
Неопределенные, смутные, но страстные, сильные порывы демократических чувств делали невозможным его пребывание в среде «мещанского царства».
Поэт имел право утверждать, что он рано разбужен «грозою», выделился из толпы, пошел вперед к. дали будущего, в начале исполненный радужных надежд… Но вскоре выяснилось, что вести за собой других он не может, видения дали исчезли; «безнадежность» и «глухая тоска» сменили светлое настроение… Фигура Надсона типична на фоне восьмидесятых годов. Рассказанная в его стихотворениях катастрофа «разбитых усилий», «подрезанных крыльев» есть именно катастрофа «восьмидесятника».
Социальный агностицизм и пессимизм названной эпохи нашел в Надсоне наиболее яркого выразителя. В его лице «восьмидесятники» договорились до формулы, определяющей «жизнь» – как сумму случайных феноменов, быстро сменяющих друг друга, по воле неведомых сил:
Вот жизнь, вот этот сфинкс. Закон ее – мгновенье.И нет среди людей такого мудреца,Кто б мог сказать толпе, куда ее движенье,Кто мог бы уловить черты ее лица.Отношение к «сфинксу», к «хаосу» действительности определили для него невозможность «пророчества». Именно начинается самая интересная и важная сторона его душевного разлада.
Попыток разгадать загадку «сфинкса», «уловить черты лица» действительности Надсон делал немало. «Реалистический» анализ, «бесстрашие истины» – признается им обязательным для «перла создания», «разумного человека». Он говорит о себе:
Жалкий трус, я жизнь не прятал за обманыИ не рядил ее в поддельные цветы,Но безбоязненно в зияющие раны,Как враг и друг, вложил пытливые персты,Огнем и пыткою правдивого сомненьяК все проверил в ней. боясь себе солгать…Для того, чтобы верить, он должен знать… Пусть познание обесценивает «много светлых грез», открывает много «ужасов», пусть «бездна отрицаний» слишком мрачна и черна: но нельзя «опускать перед нею испуганных очей»; нужно нести «светоч познания» в ее холодную глубину, и, «не робея, итти до дна».
Пусть даже на «дне» ожидает гибель спустившегося в «бездну»; пусть «познание» осветит одни лишь картины ужасов и вид их убьет искателя истины, – все же поэт готов встретить подобную смерть, предпочитал ее успокоению «наверху», в царстве «поддельных цветов», «прекрасных», но лживых грез, нарядных «обманов». Он приветствует ум, свободный ум, не видящий исхода и не смирившийся перед жалкою судьбой.
Но трагический апофеоз ума не является окончательный подведением итогов отношения к «хаосу» действительности. Спускаясь на «дно», Надсон в то же время иногда оглядывался на «верхи». «Ум», действительно, открывал перед ним лишь «одни ужасы», и героизм «отрицания» оказывался слишком тяжел, требовал, употребляя выражения поэта, «нечеловечески великого страдания».
Замкнувшийся в сферу ограниченного «опыта» «восьмидесятников», то есть судивший о жизни на основании знакомства с обрывкам действительности[31], знакомства только с двумя общественными группами – «обществом буржуев» и «обществом» ставшей на распутай интеллигенции, Надсон не выдерживал роли «реалиста». Трагизм «эмпирической безысходности» подавлял его.
Проповедуя «бесстрашие истины», он в то же время сознавался, что у него мало сил «взглянуть без ужаса, очей не опуская» в лицо окружающей его действительности. Он отрекался от культа ума. Ум объявлялся банкротом, могущим лишь «иссушать бесплодной тоской», приносящим лишь «мрак уныния, да злобу жгучих слез».
Ум вносит только дисгармонию в душевный мир, разлагает цельность последнего, не дает жить, делает современного человека жалким. Современный человек – «мертвец»:
…Потому что он с детства не жил, Потому что не будет до гроба он жить, Потому что он каждое чувство спешил, Чуть оно возникало, умом разложить.
Ум, этот хранитель «опыта», отравляет малейшую улыбку счастья; воскрешал воспоминания о былых «ранах» и былых впечатлениях, он заставляет с недоверием встречать все, что говорит о «ясных днях» будущего. Возможность счастья пугает поэта…
О любви твоей, друг мой, я часто мечтал,И от грез этих сердце так радостно билось,Но едва я приветливый взор твой встречал,И тревожно и смутно во мне становилось.»И боялся за то, что минует порыв,Унося прихотливую вспышку участья,И останусь опять я вдвойне сиротливС обманувшей мечтой невозможного счастья.Из союзника ум становится врагом. Смерть рисуется поэту как избавительница от гнетущей работы ума, от пытки «сомнений».
Надсон ищет спасения; из глубины бездны он смотрит «наверх». «Поддельные цветы», нарядные, но лживые «грезы», «обманы» – все это, с негодованием отвергаемое им в минуты подъема духа, теперь, в минуты отчаяния, приобретает для него большую ценность.
В такие минуты он проповедует «ложь» и «слепую веру».
Он обращается с горьким упреком к писателям, доказывающим несостоятельность тех, кто думает прокладывать дорогу в хаосе современности, не зная этой действительности, увлекаемый иллюзорными надеждами:
Быть может, их мечты – безумный смутный бредИ пыл их – пыл детей, не знающих сомнений,Но в наши дни молчи, не верящий поэт,И не осмеивай их чистых заблуждений.Молчи или даже лги…Лгать нужно, потому что и так слишком много жалких слез, «и так кругом «отчаяние и сон»… В другом стихотворении признается законность «обманов», «возвышающих» хотя бы на «краткий миг».
В больные наши дни, в дни скорби и сомнений,Когда так холодно и мертвенно в груди,Не нужен ты толпе, неверующий гений,Пророк погибели, грозящий впереди:Пусть истина тебе слова твои внушает,Пусть нам исхода нет, – не веруй, но молчи..И так уж ночь вокруг свой сумрак надвигает,И так уж гасит день последние лучи…Пускай иной пророк, пророк, быть может, лживый,Но только верящий, нам песнями гремит,Пускай его обман, нарядный и красивый,Хотя на краткий миг нам сердце оживит.«Возвышающий обман» прогресса не двигает, часто ведет к непосредственному поражению: это Надсон знает, избирая своим героем Икара, обманувшего себя и бесплодно погибшего. Но не содействие движению прогресса поэт имеет в виду, предлагал как радикальное средство – «возвышающий обман»; веру в прогрессивное развитие он во время кризисов обостренного отчаяния теряет. Речь идет лишь о том, как бы сделать существование сознающих безысходность своего положения «восьмидесятников» хоть несколько сносным.
«Только бы верить во что-нибудь, верить душой». Только бы брать от текущего момента полноту, цельность «внутренних» переживаний «личности».
На что б ни бросить жизнь, мне все равно. Без словаЯ тяжелейший крест безропотно приму,Но лишь бы стихла боль сомненья роковогоИ смолк на дне души безумный вопль: «к чему?»Допускается ряд различных решений вопроса. Подобная формула освящает как работу в сфере общественной деятельности, так и удаление в область идеологических надстроек. Главное требуется: личности уйти от собственных страданий, избавиться от собственного «настроения». Кладутся в основу всего индивидуалистические стимулы.
Почва для бегства из мира действительности, где «одинокая» личность чувствует себя погибающей, в традиционную крепость спасения дана: «мир сна» – «сладкий обман» эстетического воображения оправдан.
Надсон явился на литературное поприще с высоким представлением о «чистой поэзии», вынесенным из той «культурной» обстановки, которая воспитала его. Поэзия рождена, – по мнению поэта-юноши, – не на лоне действительности: поэзия – дочь небес, некогда сошедшая на землю из «тихой сени рая», увенчанная душистыми розами, с «молодой улыбкой» на устах: