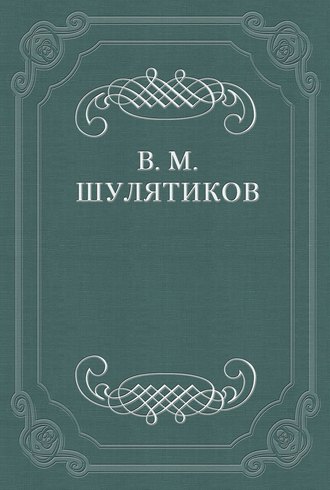 полная версия
полная версияВосстановление разрушенной эстетики

Владимир Шулятиков
Восстановление разрушенной эстетики
(К критике идеалистических веяний в новейшей русской литературе)
Существует старинный историко-критический прием, согласно которому смена литературных школ представляется в следующем виде: в определенный момент господствующая школа оказывается завершившей круг своего развития; она высказала все, что могла высказать, создала ряд художественных образов, типов и концепций, какие только могла создать; ей ничего более не остается, как повторять уже пройденное, как предлагать читающей публике плоды шаблонного творчества; публика начинает ею тяготиться; наступает литературный кризис; зарождается новое литературное течение, опирающееся на диаметрально-противоположные предпосылки.
Так, переход от романтизма к реализму, имевший место в средине XIX столетия, объясняется старческим вырождением первого. Романтизм сделал свое дело, освободил искусство от уз классической догматики, открыл новые эстетические горизонты, дал известное количество шедевров, и затем его творческие силы иссякли, интеллигентное общество утомилось его фантасмагориями и почувствовало потребность в ином искусстве – искусстве «действительной» жизни… Или, знаете, почему на смену классической комедии явилась «мещанская драма» (Gomedie larmoyante)? Потому что обществу надоело смеяться и захотелось слез![1]
Просто и удобно. Такая «стихийная» точка зрения не требует от критиков проникновения вглубь исторических движений и в то же время дает возможность замаскировать, при случае, истинный смысл и ценность той или другой идеологии.
Истинная ценность каждого литературного течения выясняется, прежде всего, социально-генетическим анализом. Социально-генетический анализ – вот тот единственный светоч, который, будучи направлен на темные углы царства художественных идеологий, позволяет разглядеть за эстетическими и идеалистическими туманами контуры реальных предметов, за сложной, иногда капризной игрой художественных образов и идей – столкновения «материальных» стремлений и интересов.
Понять литературное течение – значит, установить его зависимость от определенной общественной группы. Оценить его – значит произвести его учет на основании того удельного веса, который данная группа имеет в общей экономико-социальной жизни. Степень прогрессивности данной группы служит показателем объективного значения литературной школы, этой группой созданной, и при рассмотрении вопроса о смене школ может явиться единственным надежным свидетельством перед судом критики.
Но такой путь критического исследования литературы далеко еще не является общепринятым. Его избегают и отвергают естественным образом представители тех литературных течений, для которых он неудобен, – принципиальную слабость и не прогрессивность которых он мог бы обнаружить. Такое отрицание единственно научного метода критики лишь редко бывает сознательным, основанным на служении определенным интересам; чаще оно опирается на недостаток сознательности – на полную недоступность новых форм мышления людям, закостеневшим в старых. Но и в том и в другом случае на сцену выступают одни и те же традиционные приемы литературно-критического объяснения: это – апелляция к «абсолютному», к стихийному или ссылка на произвольную игру чувств и аффектов читающей публики.
Именно так поступают теоретики новейшего литературного перелома – смены реалистического искусства романтическим и «идеалистическим», смены идейного «гражданского» искусства «свободным», «аморальным», «аполитическим». Новейшие литературные веяния завербовали себе целую армию апологетов различных оттенков. Есть в этой армии и прямолинейные энтузиасты-новобранцы, Sturm und DrДnger'ы «новых истин», есть и умеренные натуры, проповедующие компромисс, есть, наконец, ветераны, поседевшие, в литературных боях, заявляющие о своих симпатиях новым веяниям робко, издалека. Но все они, в своей апологии литературного поворота, пользуются одними и теми же основными тезисами.
Вот два случая из их практики.
Ницшеанствующий г. Неведомский 5 ратует за «свободное» искусство[2]: господствовавшую до настоящего времени литературную школу он, призывая авторитет главы французской импрессионистической критики 6, определяет как школу проповеднического, «жреческого», тенденциозного искусства.
Жюль Леметр говорит в своей статье «Literatures du Nord»: русская художественная литература всегда поражала его одной особенностью: при чтении ему всегда слышался рядом с голосом художника еще голое проповедующего священника. Замечание очень меткое и заслуживающее серьезного внимания. Европейское ухо, верно, уловило отличительную черту нашего художественного творчества.
И г. Неведомский ставит вопрос 7: «не начинает ли эта нота утомлять ухо современного читателя»? на что спешит ответить в положительном смысле. По его мнению, современная русская интеллигенция чувствует «усталость от идейного искусства»; искусство это дает ныне лишь стереотипные, «наперед известные поучения и мысли», то есть выродилось в шаблонное творчество. Успех произведении нового стиля определяется именно подобного рода «усталостью».
И г. Неведомский пытается узаконить обращение «усталой» интеллигенции к новому литературному «credo»: он указывает на факт роста общественной жизни и делает вывод, что русские интеллигенты уже могут позволить себе отдых от гражданских мотивов в искусстве; могут уже наслаждаться художеством, отвечающим индивидуальным потребностям…
Другой пример. Считавшийся сторонником «реалистического» искусства г. Скабичевский 8 около двух лет тому назад выступил с похвальным словом новым литературным веяниям. Правда, это была далеко не решительная похвала, похвала с большими оговорками, но она очень характерна как «признак времени»[3].
Современный литературный кризис, в его глазах, исчерпывается крушением «натурализма». Натурализм, в свое время спасший искусство от одностороннего увлечения «чудесными», мистическими элементами, не избежал сам односторонностей. Провозгласивши требование изображать только типическое, только обыденное, «действительной» жизни, он тем самым изгнал со столбцов художественной литературы все субъективное и поэтическое. Ограниченные в своем кругозоре созерцанием «дрязг повседневной жизни» беллетристы начали писать по трафареткам и обратились в холодных протоколистов.
«Изъятие из области творчества, с одной стороны, всего конкретного, случайного, с другой – поэтического, наконец, требование, чтобы беллетристы были непременно зашнурованы в корсет холодного, объективного протоколизма, – все это легло на искусство гнетом узкого одностороннего и нетерпимого деспотизма нисколько не в меньшей мере, если ни в большей степени, чем все предыдущие школы».
Интеллигентное общество ничего не стало выносить от натуралистических произведений, кроме «скуки». И против «скучного» объективного протоколизма возникла реакция, на знамени которой написано «поэтическое» и «субъективное».
Мы не будем здесь распространяться о том, насколько верную оценку господствовавшей литературной школы сделали г. Скабичевский и г. Неведомский, и насколько правы были: г. Неведомский, покрывая понятие идейной, гражданской литературы термином тенденциозного искусства, а г. Скабичевский, отождествляя реализм с «протокольным» натурализмом. Нам важно в данном случае лишь усвоенные ими объяснения процесса смены литературных веяний. И в деле этого объяснения представители двух различных поколений интеллигенции и двух различных интеллигентных миросозерцании подали друг другу руки. Имманентное развитие литературных явлений, старческая дряхлость господствовавшей школы и «усталость» интеллигенции от нее – таковы их общие аргументы. От анализа реально-групповой и классовой подпочвы литературной смены оба критика держатся в своих статьях на почтительном расстоянии.
Иначе им нельзя. Г. Неведомский – проповедник автономии «цельно и всесторонне развивающейся человеческой личности», поторопился даже изобразить картину текущей общественной жизни далеко не в надлежащих красках, повинуясь желанию поскорее узаконить «индивидуальные» переживания». Прежде чем выступить с похвальным словом новым веянием, г. Скабичевский заявил себя также сторонником «индивидуальных переживаний»: он осудил интеллигенцию за то, что она чуждается «радостей» жизни, приносит на алтарь общего блага личное счастье, делает из служения «идее» исключительную задачу своего существования[4].
Снисходить до анализа реальной подпочвы для индивидуалистически настроенных критиков означало бы заниматься самокритикой и самообвинением. Как и откуда «пошла, есть и стала быть» апология чистого индивидуализма, лежащая в основе новоромантической литературы и «нового», «свободного» искусства? Да, это вопрос очень неприятный, очень тяжелый для защитников новых веяний в литературе. Лучше и легче для них отделываться от этого вопроса общими фразами и отвлеченными фразами и отвлеченными формулами.
Лучше и легче, например, довольствоваться следующего рода изложением[5] истории новых элементов русской литературы: был Тургенев, еще в шестидесятых годах разорвавший с «постылым прошлым», начав писать «полуреалистические, полусимволические» произведения; был Гаршин, внесший в литературу струю психологически-индивидуального направления; был Надсон, узаконивший «поэзию настроений»; существует Владимир Короленко, очаровавший в восьмидесятых годах читателей «поэтической экстраординарностью своих образов»; существует Антон Чехов, крайне субъективный художник; существует Максим Горький, яркий романтик; существуют декаденты, играющие «почтенную роль тех первых протестантов и пионеров, которые, движимые одним лишь слепым, чисто стихийным побуждением… бросаются отважно в открытое море на утлых челнах и гибнут»… усилиями названных художников слова и производилась закладка здания «нового искусства».
Летописным записям далеко до научной истории. Но над уровнем летописного повествования критики, чувствующие склонность к «индивидуализму», подняться не в силах; избегая рассматривать литературные явления как продукты разных форм классового сознания, эти критики обречены, исповедовать культ героев искусства… А между тем, даже ограничиваясь изучением литературной деятельности перечисленных г. Скабичевским писателей, если только отрешиться от точки зрения индивидуалистической психологии, можно было бы достаточно точно уяснить себе источники зарождающихся «веяний» и приобрести надежный критерий для оценки последних.
Но, повторяем, сделать уклонения в сторону реалистического анализа критики апологеты новых веяний не могут из чувства самосохранения. Им пришлось бы в данном случае убедиться, что защищаемые ими «новые» взгляды на литературу отнюдь нельзя назвать передовыми, что боевой лозунг «свобода творчества», «субъективное в искусстве» рожден интересами обанкротившихся, капитулировавших перед требованиями действительности и частью реакционных общественных групп.
I
Охарактеризуем ближе метод реалистической критики.
Изучение социального строения интеллигентных ячеек, в недрах которых развивается то или другое литературное «веяние», изучение их роста, столкновение между собою и с другими общественными телами, изучение их побед и поражений – вот с чего должен начать историк литературы. Затем, основываясь на добытых подобного рода изучением данных, критик должен приступать к анализу литературных веяний – как идеологических приспособлений, выработанных теми или другими интеллигентными группами[6].
Зарождение, рост, смена, крушение литературных течений свидетельствуют о соответствующих переменах строений и соотношений интеллигентных ячеек.
Положим, господствует литературная школа, точно и определенно выразившая свое художественное profession de foi: это значит, что существует интеллигентная группа определенного однородного социального состава. В господствующей школе происходит брожение: это значит, что состав группы обновляется элементами нового социального происхождения. Зарождается новое литературное течение: это значит, что новые элементы имеются уже в достаточном количестве и успели достаточно организоваться, достаточно прониклись своим «групповым» сознанием. Ново зарожденная школа, вступает в состязание с господствовавшим до сих пор направлением литературы: новые элементы выделяются в самостоятельный общественный агломерат. Происходит литературная «смена»: старые элементы теряют преобладающее значение, сходят со сцены, растворяются в новообразовавшемся агломерате или приспособляются к другим интеллигентным ячейкам.
При такой постановке вопроса понятие процесса литературной эволюции теряет «стихийный» и анекдотический летописный характер, какой ему приписывается критиками старой школы и современными критиками-индивидуалистами: через изучение социальной подпочвы, определяющейся, с своей стороны, состоянием производственных отношений, и, в конечном счете, развитием производительных сил, процесс этот представляется органическим звеном общеисторического движения.
Иллюстрируем наш тезис обзором смен направлений в русской литературе XIX столетия.
Это столетие начало с отрицания заветов реалистической культуры «просветительной» эпохи. На его рубеже закатывалась звезда «вольтерьянства», угасала горячая вера во всемогущество разума, развенчивались идеалы материализма и деизма, «просветительная» литература подверглась осмеянию: она начинала казаться «мелкой и бесстыдной, как и сами люди XYIII века».
Наступили «сумерки кумиров», и наступили потому, что создалось новое искусство, народилась новая интеллигенция, совершенно иного социального состава, чем та, которая фигурировала на исторической авансцене в конце XVIII столетия.
Интеллигенция, вызванная к жизни экономическими и общественными передвижениями «просветительной» эпохи, представляла из себя довольно пеструю толпу. В этой толпе сын крестьянина стоял рядом; с сыном мелкого дворянина, сын священника рядом с сыном какого-нибудь лекаря – саксонца, сын чиновника – рядом с сыном мещанина или приказчика. Но вся эта толпа объединена общими интересами, имеет общих друзей и врагов, выполняет общую работу. Ею руководит разночинец – труженик на поприще официальных общественных преобразований. Он количественно преобладает, он сообщает всей толпе умеренно рационалистическое и умеренно оптимистическое миросозерцание.
Прошедший трудную жизненную школу, всем в жизни обязанный исключительно своим умственным дарованиям и трудовой энергии, он выше всего на свете ценит ум и активность, невежество его злейший враг; оно символ гибели, символ отживающей старины. Он свято верует в науку – она должна принести ему победу. Протестующий против привилегий «родовитых» общественных групп, он усваивает теорию «естественного» права. В даль будущего он смотрит бодро. Она рисуется ему идиллией развитой городской цивилизации и мирного, постепенного экономического, общественного, политического прогресса.
Он сторонник рационализма в искусстве, рационализма «делового», утилитарного, поучающего, таков ложный классицизм на русской территории.
В начале XIX века интеллигент-разночинец перестает на время играть первенствующую роль, стушевывается на время в толпе интеллигентов-дворян. Если он изредка заявляет о своем существовании, то должен делать это робко, подделываясь под общий тон и вкусы доминирующей интеллигенции; в противном случае даже и либеральные писатели упоминаемой эпохи окрестят его презрительной кличкой «семинариста» или «торгаша»[7].
Мы не будем вскрывать здесь тех причин, которые создали новую интеллигенцию: вскрытие этих причин заставило бы нас делать пространную характеристику развития крепостнических отношений в конце XVIII и в начале XIX века. Во всяком случае, появление кадров новой интеллигенции есть исторический факт. Земледельческий класс принужден был расстаться с традициями архаической культуры. Новые устои жизни потребовали от него, чтобы он лучше вооружился в борьбе за существование. Перед землевладельцами встал неотвязный вопрос о повышенном уровне образованности. Правительственный указ (1803 года) гласил: «ни в какой губернии никто не будет определен к гражданской должности, требующей юридических и других познаний, не окончив учения в общественном или частном училище».
Дворянство оставило систему примитивного домашнего воспитания. Питомцы деревни устремились в город. Частные пансионы, гимназии, университеты начали образовывать поколения новой интеллигенции.
Из провинциальной глуши пришельцы принесли с собою запас своеобразных впечатлений, настроений, верований[8]. Проводя первые годы детства и отрочества в деревне, они приучились любить природу; окруженные штатом нянек и дядек, этих патриархальных воспитателей, они проникались пристрастием к «простоте патриархальных отношений»: нянюшкины сказки поселяли в них склонность уноситься воображением в мир фантазии; патриархальная среда развивала в них также религиозное чувство. Бессистемность первоначального воспитания, шумная и беспорядочная жизнь помещичьей усадьбы награждала их беспокойной, не способной к упорному, требующему продолжительного внимания труду, мечущейся из стороны в сторону натурой.
Режим городской цивилизации не в состоянии перевоспитать их натуру, дисциплинировать их чувства, внушить им безграничное уважение ко «всемогущему» разуму, направить их на путь упорного труда и активной энергии. Городская обстановка не внушает им: доверия. Они не чувствуют себя «господами истории».
Они попали в общество, которое живет и развивается по каким-то непонятным для них «железным» законам. В тех аристократических и бюрократических салонах, которыми ограничивается их ближайший кругозор, они не видят ни малейшего отрадного явления. Их чувствительное сердце оскорбляется холодной и бездушной толпой, наполняющей эти салоны. Исполненные «бескорыстных душевных порывов», томимые жаждой «вечной» любви, «вечной» дружбы, они встречают лишь «измену», «предательство», «клевету ядовитую», «холодный расчет». А за пределами салонов еще хуже: там они замечают лишь фигуры дельцов капиталистов, там царство плоского материализма и утилитаризма; там процветает «мануфактурная» религия, «мануфактурная» нравственность, «мануфактурная» философия. Там душа человека превращена в «паровую машину», и в этой машине видны лишь «винты и колеса», но жизни не видно.
И близь, и даль их наблюдений над обществом, таким образом, не предрасполагают их к оптимизму. Из обрывков действительности, перед лицом которых они, эти тепличные растения, стоят, представления о прогрессе им получить нельзя. Они теряют веру в «человечество». Они проникаются боязнью перед «цивилизацией». Они бегут от «толпы» и в самом бегстве-то думают найти утешение на лоне природы и вместе с пушкинским Алеко отправляются кочевать по привольному простору южных степей; то вместе с Лермонтовым вознаграждают себя созерцанием панорам «страны чудес», «золотого Востока», то вместе с Жуковским уносятся в таинственный мир кладбищенских привидений, то вместе с Марлинским мечтают найти забвение в разгуле титанических страстей, то вместе с Подолинским тоскуют по царству божественных «пери», то вместе с Чаадаевым упиваются поэзией католицизма, то вместе с Вл. Одоевским утешаются игрой метафизических настроений, то с Веневитиновым грезят о мире лучезарной, нетленной красоты. Одним словом, они стараются замкнуться в родном для них мире чувства и фантастики; умом, «холодным рассудком», не приносящим для них ничего, кроме разочарования, они жить не хотят и не могут.
В «романтическом»[9] искусстве, с его культом «запредельного», экскурсиями в область «экзотических» стран и лирикой субъективных переживаний находит себе литературное выражение их аристократический индивидуализм[10].
Романтическая эпопея продолжалась недолго. В «николаевскую» эпоху интеллигенция мало-помалу начинает менять свою физиономию: разночинец снова начинает завоевывать потерянное им значение: за него стоит экономическая эволюция, направляющаяся на путь капитализма, медленно, но верно расшатывающая устои крепостнического хозяйства и патриархальных отношений.
По мере того как разночинец одерживает победу, бегство из мира действительности в мир фантазии и культ чувства постепенно отходят в область преданий. Интеллигент приближается к «толпе», производит новую оценку действительности. Правда, романтизм еще не окончательно складывает оружие перед реалистическим миросозерцанием; правда, он снова делает попытку расцвести в сороковые годы: но это его осенние цветы. Если романтики сороковых годов и заявляют, что «прекрасное в жизни не от мира сего», то все же они не относятся к этому миру с титаническим презрением: напротив, любят его, болеют его страданиями. Если они и увлекаются идеалистической философией, то предметом их увлечения является не шеллингианский «романтизм», а гегелианский «рационализм»[11].
Они наполовину порвали со стариной. Окончательный разрыв с романтизмом у интеллигенции произошел на закате сороковых годов. Тогда романтизм предается осуждению – как болезненный продукт крепостнического строя. Тогда получает права гражданства теория естественного развития. Тогда осмеиваются идеалистическая отрешенность от действительности, скорбь «одиноких душ», аристократический индивидуализм романтиков. Тогда «обыкновенный» человек признается достойным героем литературы. Тогда интеллигенция старается находить пути к положительному решению общественных вопросов. Она вдохновляется демократическими симпатиями. Она верит в свои творческие способности и ищет себе помощников. Как раз туда, где романтики видели только царства утилитаризма и материализма, интеллигенты конца сороковых годов смотрят исполненные больших надежд.
Утилитаризм им не страшен. В лице «мануфактуристов» они видят лишь воплощение энергии и «разумного эгоизма», который они сами исповедуют. Они приветствуют нарождающуюся буржуазию как класс, непохожий на класс крепостников и обещающий светлую, богатую поступательными шагами будущность. На заре новых общественных отношений они считают буржуазию союзником.
Но, разрывая с заветами «феодального» миросозерцания, реализм в сороковые (и пятидесятые) годы не произнес своего решительного слова. Состав интеллигентной ячейки продолжает еще включать в себя значительное число не разночинских элементов. Проповедниками «разночинской идеологии» выступают, в многих случаях, интеллигенты «феодального» происхождения. И в своей массе передовая интеллигенции сороковых и пятидесятых годов не проникнута духом, безусловно, ритористического отрицания старых культурных веяний. В глубине своей психологии она сохранила кое-какие отголоски симпатии прошлого: например, от пристрастия к эстетизму она не может отделаться[12]. Далее, резкой розни между передовым реализмом и реалистически настроенными представителями оппортунистических общественных групп не проявлялось. В продолжение некоторого времени будущие враги уживаются под общим; знаменем «натуральной»[13] школы.
Это эпоха реализма «классиков» русской художественной литературы.
Наступили шестидесятые годы. Ряды интеллигенции пополнились в такой степени, как никогда прежде, лицами, вышедшими из непривилегированных классов. И разночинская «идеология» никогда раньше не отливалась в такие определенные, яркие формы.
Мыслящий пролетарий-разночинец первый раз в русской истории почувствовал себя совершенно полноправным членом общества. Теперь он был диктатором интеллигенции.
Он провозгласил теорию «критически мыслящей личности», вершащей судьбы истории. В этой теории нашли себе санкцию те условия, которые доставили группе разночинцев победу в борьбе за существование: настойчивость и энергия, «постоянное бодрствование» ума, необходимость проверять каждый свой шаг, зорко присматриваться к лагерям друзей и противников, необходимость воспитывать постоянно свой душевный мир, освобождая его от всех переживаний, могущих являться лишним балластом, увлекать в сторону от строительства жизни и способствовать поражению группы и, следовательно, общественному регрессу. Разночинец делает свой мир недоступным для всех тех чувств и наклонностей, которыми жили мало энергичные, пассивно покоряющиеся судьбе, не умеющие за себя постоять, легко поддающиеся гипнозу застоя питомцы дворянских гнезд. Он осуждает эти чувства и наклонности – как противообщественное преступление. Он отвергает фантазию, чистую поэзию и эстетику; он не позволяет инстинктам и чувствам бесконтрольно властвовать над его поступками. Учение о «разумном эгоизме» (то есть учение об освобождении личности от излишка внутренних переживаний) получает свое высшее развитие.
Стоит только захотеть, стоит только отрешиться от старых «привычек»[14] – и двери светлого будущего открыты, история пойдет по новому руслу, направляемая «мыслящей личностью». Создается система нового «индивидуализма». И разночинский индивидуализм на первых порах не признается противоречащим предпосылкам общественного мировоззрения, усвоенного шестидесятниками, точнее – представлению об историческом процессе как продукте массовых передвижении и об определяющем значении социальной среды, то есть общественному детерминизму.









