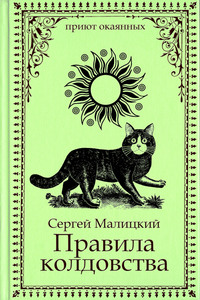Полная версия
Оправа для бездны
– Я слушаю! – подобострастно прошипел снизу жрец.
– Готовься, – холодно ответил Зах. – Скоро он придет.
– Кто? – согнулся в почтительном поклоне жрец.
– Варух, – твердо сказал Зах. – Я зову его.
– Ты по-прежнему уверен, что он жив? – позволил себе усомниться жрец. – Прошли тысячи лет! Ведь он не был богом? Зеркало судьбы вросло в камень! Скорее я поверил бы, что живы Сето или Сади!
– Готовься, – повторил Зах. – Я тоже не был богом, но я жив. Варух придет. Он всего лишь служка. Он не сможет мне противиться. Он жив. И не только он…
Часть первая
Марик
…Склонив голову перед горными вершинами, увидел путник мелкий песок, в который обратились те вершины, которых уж нет, и не нашел, с чем сравнить самого себя – с иссеченной ветрами скалой, с округлившимся от времени валуном или песком, что способен течь, но неспособен утолять жажды. Выпрямился путник и пошел дальше – по песку, по камням, через перевалы и низины, потому что хоть и был век его короток, но и жребий его был неизвестен…
Хроники рода Дари, записанные Мариком, сыном ЛидиГлава 1
Сын Лиди
Старый Лируд всегда говорил медленно. Если требовалось что-то сказать, он прищуривался, откашливался, переводил дыхание и произносил нужные слова, нимало не заботясь о том, слушает ли его юный подопечный, или нет. Именно так, не изменив голоса ни на тон, однажды он сообщил Марику, что отца у того больше нет. «Как нет?» – воскликнул мальчишка, который только что прибежал к престарелому опекуну, чтобы сообщить удивительнейшую новость: умерший вчера старик Милди неожиданно поднялся во время погребальной церемонии и, не отвечая на оклики оторопевших родных, поплелся куда-то на запад, явно не замечая не только глубокого снега, но и того, что на его лицо напялена похоронная маска, но Лируда странное поведение покойника не заинтересовало. Он повернулся и взглянул Марику в глаза, чего не делал почти никогда, а потом медленно повторил:
– Твоего отца больше нет, парень.
– С чего ты взял? – скривил губы Марик.
– Эмучи сказал мне.
Старик сдвинул рукав на правой руке, и Марик увидел проступившее на предплечье имя: «Лиди». Кровяные точки составили его.
Марику тогда едва исполнилось четырнадцать. Он уже привык, что видит отца раз в два или три месяца, что ложится спать и просыпается под одной крышей со слегка придурковатым стариком, которого, впрочем, боится даже деревенский колдун и который, если верить слухам, когда-то обучал колдовскому мастерству самого Эмучи, но ни на мгновение Марик не допускал и мысли, что отец, бывший, без сомнения, лучшим воином баль, уйдет за темный полог, не обернувшись и не окликнув единственного сына.
– Ты понял? – спросил Лируд, снова уставившись мутными глазами в заснеженную пустоту.
«То, что старик выбрался из теплой избы и уселся на пороге, не замечая холода, само по себе чудо, сравнимое с посмертными чудачествами Милди», – уже потом подумал Марик, но в тот миг его мысли остановились. Он качнулся на затянутой льдом тропинке, поскользнулся, едва не упал – и устоял на ногах, лишь ухватившись за промасленный тотемный столб.
– Иди, – разрешил старик. – Поплачь. Твой отец достоин слез горя. Я не знал воина баль лучше, чем Лиди из рода Дари. Разве только знаменитый Зиди мог сравниться с ним… Но и Зиди теперь уже нет, и кто теперь помнит о нем? И Эмучи больше нет, а ведь я знал его так же, как и тебя. Иди, парень, поплачь. Воин не должен стыдиться слез. А ты станешь воином, если захочешь.
Марик плакал недолго. Пожалуй, он не плакал ни одного мгновения – слезы намочили его щеки самовольно. Они вытекли из глаз без рыданий и всхлипов, как избыток влаги, припасенной для увлажнения глаз, и исторглись наружу кратчайшим путем, потому как причина удерживать их внутри иссякла, а иных поводов для слез в будущем не предвиделось. Все остальное вовсе могло обойтись без слез. Еще не понимая, что он остался один, Марик вдруг почувствовал холод, который подбирался к нему не из-за заснеженных пространств, а изнутри. Имена Эмучи и Зиди значили многое, но оставались всего лишь именами, а отец, несмотря на редкие встречи, был частью его жизни. Он казался Марику похожим на прочный столб, на котором держится нехитрое походное жилище охотника. Сруби его – и ничто не защитит от дождя, снега, холодного ветра.
Марик пролежал в промерзшей кладовой, устроенной между желтыми стволами вековых сосен, до вечера, потом набил рот моченой болотной ягодой, скривился от невыносимой кислоты, запустил палец в туесок с медом, облизал его, выполз через узкий лаз, спрыгнул на снег и вышел к берегу узкой речушки, чтобы умыться. Морозец сопровождал его шаги скрипом, ветер обжигал лицо, но боли не было. Ее не было даже в сердце, где, как говорил Лируд, она имела свойство скапливаться и откуда никогда не растрачивалась полностью. Место боли занимала холодная пустота. Или именно эта пустота и была болью.
Марик пробил ногой тонкий прибрежный лед, умылся и пригляделся к кажущейся черной в зимних сумерках воде. Речка Мглянка, изгибаясь между заснеженными кустами, убегала на север. Где-то через сотню лиг она впадала в полноводную Ласку, а потом, сплетаясь с ней струями, бежала на запад вплоть до величественной Манги, чтобы вновь повернуть на север, но уже к океану. Именно за Мангой, на исконных бальских землях, месяцами пропадал его отец. Там, в заповедных лесах, почти не осталось поселений. Женщины, дети и старики баль уже давно перебрались в долину Мглянки – в земли, выторгованные, по слухам, у лесных племен ремини еще самим Эмучи, но воины продолжали охранять последние бальские угодья. От сторожевых башен на севере, которые смотрели на давно уже ставший сайдским храм богини Сето, до сторожевых башен на юге, стерегущих мутную колдовскую пелену и таинственную Суррару, скрывающуюся за ней.
Марик вернулся в избу в темноте. Лируд сидел у завешенной мхом стены неподвижно. На темном столе подрагивал огонек лампы, освещая блюдо с печеными овощами. Марик пригляделся к лицу старика, но так и не понял, спит он или высматривает что-то в противоположном углу, поэтому молча подбросил поленьев в остывающее печное нутро и бездумно уставился на огонь.
Еще утром он был сыном лучшего воина баль – и вдруг стал круглым сиротой, последним отростком рода Дари. Вот только ушедший в небытие род вряд ли бы стал гордиться собственным последним побегом, потому что мать Марика была безродной сайдкой, и он сам, с удлиненным лицом и светлыми, почти рыжими волосами больше походил на сайда, чем на баль. Кроме всего прочего у него не было ни собственного меча, ни кольчужного или хотя бы кожаного доспеха, ни лошади – ничего, что могло бы свидетельствовать о доблести предков Марика и поддержать его самого среди подобных друг другу черноволосых отроков, которые и так косились на сверстника, словно то, что Марик был рожден мертвой женщиной, оставило на нем невыводимую печать.
– Неправда, – раздался глухой голос. – Она не была мертвой.
Марик вздрогнул. Он уже уверился, что Лируд уснул, поэтому скрипучий голос показался ему голосом пробудившегося от многовекового сна лесного духа.
– Она умерла, едва ты родился, хотя смерть спеленала ее в кокон еще до твоего рождения, – сказал Лируд. – Но сердце ее билось. Она сама остановила его, когда посчитала нужным. Не каждый воин способен на такое.
Старик вздохнул и со стуком положил на стол угловатый кулак.
– Это случилось еще за рекой, в нашей старой деревне. Вырвавшийся из-за пелены юррг напал на женщин в поле. Твоя мать была на последнем месяце, стягивала медоносные корни в пучки. Юррг распушил иглы, разорвал пятерых, ранил воина, ей же успел только разодрать руку и бок, когда мужчины все-таки сумели убить зверя. Твой отец нанес ему главный удар. Но даже он не справился, если бы юррг не был молодым и слабым. Взрослый зверь обычно уносит с собой не меньше десятка жертв, даже если крепкие воины встречают его. Этот же убил только пятерых и шестой – твою мать, Марик. Но не тебя, хотя ты уже давно толкался ножками в ее животе. Она перетянула кровоточащее плечо той же бечевой, которой вязала корни, и крикнула, чтобы позвали меня. Я едва успел. Я пытался вызвать роды, когда яд уже разбежался по ее сосудам. Твоя мать сама начала превращаться в юрргима. Ее мышцы окаменели, но ее дух не был сломлен. Она всегда была упряма: и когда скирские таны разорили оружейную лавочку твоего деда и нищета взяла ее за горло, и когда увидела на дештской ярмарке твоего отца, и когда ответила на его взгляд, и когда решилась пойти с ним в лес, и когда отстаивала среди плохо принявших ее женщин достоинство твоего рода, Марик… Она была точно такая же, как и ты теперь. Гордая, но веселая. Говорливая, но скрытная. Мне пришлось рассечь ей живот, чтобы достать плод, но она даже не пикнула. А когда услышала твой голос, уверилась, что ты жив, то остановила свое сердце. Она сама убила себя. И ушла непобежденной…
– А как же… – потерянно прошептал Марик.
– Да. – Подбородок старика дрогнул. – Ты тоже был отравлен. У меня не оказалось снадобья от яда, некогда было искать нужную траву, время ускользало, словно вода из раскрытой ладони, но ты вылечился сам. Или же твоя мать как-то сумела ослабить яд, бегущий вместе с кровью к ее плоду. Так бывает. Почти так. Я знал случай, когда мать, спасая дитя, убила голыми руками серого волка… Ты выжил. Сначала ты был горячим, как седой уголь в едва прогоревшем костре, потом – холодным, как вода в роднике. Ты не плакал, а хрипел. В твоих глазах стояла боль, но ты выжил! Ты очень удивил меня, парень, и я остался присматривать за тобой. Правда, ни одна кормилица в деревне не решилась дать тебе грудь, поэтому ты был вскормлен звериным молоком.
Марик судорожно выдохнул. Он выжил, чтобы стать изгоем. Неужели истории рождения было достаточно, чтобы его невзлюбили в деревне? К чему его веселость и говорливость, если никто не хочет веселиться и делиться с ним деревенскими новостями? Почему злобные слова и через четырнадцать лет звучат ему в спину? Или он виноват в том, что бальские старики, женщины и их дети живут на берегах узкой чужой реки, близ огромного болота, а их мужья и отцы продолжают оборонять почти уже брошенные земли? Или вся его вина в том, что он непохож на других и когда-то вкусил звериного молока? С малых лет он слышал презрительное прозвище «сукин сын», хотя оно и передавалось из уст в уста вполголоса. Лируд говорил ему, что ложь лучше всего не замечать, особенно если она оскверняет уста глупца. Но Марик слышал и другие слова. Слышал – и не единожды, забыв увещевания опекуна, бросался в драку с двумя, тремя, четырьмя и большим количеством обидчиков и никогда не давал воли слезам, даже когда его избивали в кровь. Впрочем, последнее случалось все реже и реже. Ему уже позволяли смеяться и болтать, когда он сам этого хотел, но теперь его не любили еще и по причине страха, который он вызывал. За глаза его звали придурковатым болтуном. И сумасшедшим выродком. И приемышем полумертвого старика Лируда. И колдовским выкормышем. И твердолобым пнем. И упрямым зверьком, потому что, не будучи первым в детских играх, он все чаще становился первым в играх юношеских. Именно из-за порой необузданного упрямства и удивительной терпимости к боли. Или его ненавидели именно за это? Именно потому, что другие давали слабину там, где их юный соперник только крепче стискивал зубы? Что ж, он и вправду не уступил бы теперь и взрослому воину, но ради чего стараться? Его никогда не признают ровней. До тех пор, пока был жив отец, Марик находился в уверенности, что рано или поздно тот приведет его на священный холм и вручит ему меч воина, и он станет равным среди равных, потому что воины равны между собой. И что же теперь? Тут уж смейся не смейся…
– Четыре года, – проговорил колдун после долгой паузы. – Четыре года или чуть больше я еще продержусь, парень. Тебе не будет легко, но теперь всем станет трудно. Я не видел, но знаю. Я не получал вестей, но уверен в том, что тебе скажу. Колдовская пелена пала. Суррара выхлестнула из границ, определенных для нее богами. Зло, которое скопилось за пеленой, пытается затопить всю Оветту. И все-таки не зря было потрачено золото храма Исс. Надеюсь, что хотя бы до моей смерти непроходимые болота Манги укроют остаток лесного народа. А через четыре года ты станешь воином. Я тебе обещаю. Только и ты продержись. Это непросто, но тебе по силам. Всегда поступай только так, как поступил бы твой отец, – и все получится. Главное – понимать, чего ты хочешь добиться. Ведь ты хочешь стать воином, парень?
Марик продержался. Продержался, хотя последующие четыре года обратились бесконечной чередой тяжелых дней, состоящих из повседневных забот, изнурительного труда на отнятых у леса крохотных полях, опасной охоты, которой в обычные времена занимались только взрослые мужчины, дозоров на тайных тропах в непроходимых чащах на краю бескрайних болот и тяжелых упражнений с оружием, на которых настаивал однорукий староста деревни – седой воин Багди. Вряд ли он мог сделать из осиротевших юнцов настоящих воинов, а отцов потеряли или все еще не дождались больше половины семей, – староста хотел дать им возможность выжить. Хотел, чтобы их будущее зависело только от их доблести, а не от недостатка воинского умения.
А будущее казалось зловещим. Сначала деревню обдало ужасом от немыслимого колдовства, когда вслед за стариком Милди и прочие старики и старухи, умирая, стали подниматься на ноги и уходить к западу. Их попытались связывать и сжигать на кострах, но судороги мертвых тел показались деревне еще более ужасными, чем шествие мертвецов к Манге, – староста обреченно махнул единственной рукой и, посоветовавшись с колдуном, приказал не удерживать мертвых, тем более что вряд ли кому из неупокоенных удалось бы пересечь трясину. Затем из-за реки вернулись несколько израненных воинов и рассказали о нападении сайдов и разорении ими храма Исс. Именно там погиб отец Марика, приняв, как рассказали выжившие разведчики, вместе с другими воинами в смертной схватке кровь юррга, ту самую, каплями которой при рождении был отравлен и Марик. Вскоре до деревни дошли известия об исчезновении южной пелены и захвате риссами и возглавлявшими их колдунами Суррары – и бальского леса, и земель сайдов и корептов от гор на юге до гор на севере и от полноводной Манги на востоке до столь же полноводной Лемеги на западе. Разочарование и боль утраты истерзанной врагами родины захлестнули многих. Староста даже посылал гонцов в соседние деревни, кричал о том, что вот-вот уцелевшие баль соберут военный совет, изберут правителя, которого не было со времен потери столетия назад древней Дешты и который станет полновластным князем всех баль вплоть до освобождения исконных земель, но вскоре пришли новые известия, и все досужие разговоры прекратились сами собой. Сначала в деревне появились уцелевшие защитники южных сторожевых башен, которые, впрочем, вскоре отправились дальше на восток к Сеторским горам, где, по слухам, совет старейшин собирал бальское войско. Некоторые даже начали поговаривать, что и ремини готовы влиться в ряды лесной армии, которая, впрочем, так и не появилась. Затем с запада потянулись пробившиеся через необузданные пороги Ласки редкие беженцы-чужеземцы, и до деревни докатились слухи об ордах серых, захватывающих одно за другим королевства Оветты и движущихся к берегам Лемеги.
Старики принялись обсуждать возможность того, что серые степняки хенны, северяне сайды и южные риссы из Суррары сами истребят друг друга, и некоторые из юнцов даже начали поднимать голос, что нечего ждать совершеннолетия, они и так достойны стать воинами, чтобы вернуть баль исконные земли, но потом вдруг все успокоилось. Нет, редкие покойники продолжали уходить к западу, вот только иссякли беженцы, да и новостей с равнины стало приходить все меньше. Истерзанная, но еще живая Оветта притихла. Сайды ушли на север и затаились за борскими укреплениями. Хенны встали за Лемегой и, против тревожных ожиданий, почему-то не торопились переправляться на восточную равнину. Беженцы, что не добрались до Скира, по слухам, осели в Деште и столице рептов Ройте. А вышедшие из-за пелены риссы, с которыми баль воевали столетия за столетиями, стали действовать спокойно и расчетливо. Малыми силами они захватили земли баль, сайдов и корептов, но вели себя на этих землях как облеченные, но не утружденные властью гости. Израненная плоть обитаемого мира замерла в надежде перевести дыхание, и укрытая посредине реминьской земли в скудных мглянских лесах деревня тоже постепенно успокоилась и плавно погрузилась в трудности обыденной крестьянской жизни.
В этом успокоении даже и на Марика стали обращать меньше внимания, потому как несколько воинов-дучь из числа беженцев осели в деревне, сошлись с овдовевшими бальками, и на их фоне и белизна кожи, и цвет волос «звереныша» перестали бросаться в глаза. Да и усердный труд последнего из рода Дари если и не принес ему всеобщего уважения, так уж примирил с его болтовней и беспричинной веселостью многих. А когда в очередную зиму Марик одного за другим взял трех медведей, повышать голос на него перестал даже однорукий Багди. Староста окончательно погрузнел, приобрел синевато-лиловый нос и уменьшил количество дозоров. Со временем он перестал устраивать на деревенской поляне ежедневные бои вооруженных деревянными мечами и шестами юнцов и даже понемногу начал обсуждать со стариками возможность первого посвящения в воины с упрощением древнего обряда, но Марик не прислушивался к разговорам. Где бы ни проводился обряд – в оскверненном врагами храме или на лесной поляне, на убранном к зиме поле или в глухой чаще, – у него не только не было меча, которым отец должен был срезать прядь собственных волос, чтобы поручиться за нового воина – у него не было и самого отца, и матери, которая могла бы в крайнем случае заменить отца, бросив в огонь прядь со своей головы. А уж Лируд, если бы и дошел до костра, ничего не сумел срезать с покрытой старческими пятнами лысины. У Марика не было ничего, кроме упрямства и жажды жизни. Упрямство он испытывал на вытоптанной поляне, когда до изнеможения повторял приемы владения мечом и копьем, тянул тетиву лука, лазил по деревьям, сходился в схватках с ровесниками на поясах или на кулаках, днями уговаривал седых ветеранов или пришельцев из Радучи поделиться не до конца растворенным в старости и немощи воинским умением – и смеялся над собственными неудачами. Жажда жизни обращалась любопытством, которое утолял Лируд.
Каждый вечер, пока Марик, морщась от усталости и многочисленных синяков, растапливал печь и готовил нехитрую еду, Лируд говорил. Он рассказывал предания баль, корептов и других народов, порой нес, на взгляд парня, полнейшую ерунду, затем вдруг начинал перечислять роды баль или Скира или описывать битвы не просто прошедших веков, а забытых тысячелетий. Рассказы о богах и духах сменялись подробными описаниями свойств трав и камней. Порой разговор плавно перетекал в составление лекарственных снадобий. Марик двигал лавку, тянулся к подвешенным на стропилах пучкам сухой травы, кипятил воду, дробил в каменной ступке нужные зерна, орехи, а то и минералы, затем смешивал, процеживал, снова кипятил, выпаривал, сушил и повторял все то же самое опять и опять. Частенько Лируд заставлял Марика раздеться и начинал выкалывать шипом иччи на теле парня какие-то узоры, которые исчезали, едва заживали шрамы. Марик привычно терпел боль, помня слова старика, что невидимые татуировки должны будут уберечь его от колдовства, болезней и прочих пакостей, но затем Лируд доставал из корзины ветхие свитки и понуждал Марика читать непривычные сайдские слова, а затем повторял уже рассказанные истории по-сайдски и требовал пересказа, безжалостно поправляя произношение трудных мест.
– Зачем мне все это? – раздраженно спросил Марик, когда ему исполнилось семнадцать. – У меня все уже перемешалось в голове. Я не помню и четверти рассказанного. Да разве воину это все нужно? Или ты хочешь сделать из меня колдуна?
– Нет, – разомкнул губы Лируд, когда Марик вовсе уже отчаялся дождаться ответа. – Колдуна я из тебя сделать не смогу. Для этого нужен особый дар. У тебя такого дара нет. Ты сможешь, конечно, перещеголять нашего деревенского умельца, чутье у тебя есть – такое, что даже я удивляюсь, но тебе это не нужно. Я хочу, чтобы ты выжил. Ты не резв от природы, не чрезмерно высок ростом, не очень-то прозорлив и хитер, у тебя нет тонкости и силы знахаря или чародея, но ты крепкий корешок, о который споткнется еще не один враг. Не зря же судьба уберегла тебя от неминуемой смерти? Разве закаливает кузнец обычный гвоздь той закалкой, которой требует лучший меч? Я думаю над этим… В тебе есть что-то важнее быстроты, силы, хитрости и чародейской начинки. Я это почувствовал еще тогда, когда подкладывал тебя к животу собственной собаки и с тревогой ощупывал твои ручки и ножки. Уж не знаю, сколько любви и удачи успела передать тебе мать, пока носила тебя в животе, но ни того, ни другого все равно не хватило бы, чтобы удержаться на краю пропасти и не стать юрргимом. Тебе это как-то удалось.
– Это просто, – неожиданно буркнул Марик. – Насколько я понял, мать тоже не стала юрргимкой? Ведь ее мышцы окаменели под действием яда юррга, но она не потеряла разума, не набросилась ни на кого, не убила?
– Она убила себя, едва услышала твой голос, – кивнул Лируд. – А ведь воины, включая твоего отца, уже стояли над ней с копьями, чтобы защитить деревню от колдовского безумства. Хотя, когда она сама попросила о смерти, отец твой не смог нанести удара. Да и другим не дал этого сделать… Но она справилась… Ведь и за тобой приглядывали еще полгода, пока ты не соизволил встать на слабые ножки.
– Почему ты возишься со мной? – скривил губы Марик в усталой усмешке. – Я не твоего рода. Для деревни я чужак. Мало того что моя мать безродная сайдка, которую отец подобрал где-то у стен Дешты только потому, как кричали мне наши старухи, что она отказалась продавать себя, даже не имея для продажи ничего другого. Моего отца боялись, но не любили – слишком многих он победил на турнирах, что проводились когда-то на священном холме, – он был жестоким вожаком, не щадил воинов.
– Кто тебе рассказывал об отце? – нахмурился Лируд.
– Багди, – пожал плечами Марик.
– Твой отец спас его, – нахмурил брови старик. – Багди до сих пор сомневается, что меч твоего отца не зря отрубил ему руку. Ведь это и его тогда цапнул юррг. В один день с твоей матерью. Багди думает, что отец отомстил ему за то, что он проглядел юррга. Твой отец очень любил твою мать, но не потому, что она отказалась себя продавать, не верь грязным языкам деревенских старух. И не потому, что она пошла в лес. И не потому, что смогла жить в лесу, хотя все ее предки, которых она помнила, хоть и не могли похвастаться знатностью, но жили в городе и занимались тем или иным ремеслом. Твой отец ее просто любил, а раздраженные бальки… Понимаешь, каждая из них хотела бы оказаться на ее месте!
– Что же это такое – любовь? – спросил Марик.
– Подожди, – первый раз на памяти Марика улыбнулся Лируд. – Разве можно объяснить, что такое Аилле, слепому? Подожди, когда твои глаза откроются. А слова Багди… Хороший человек – не всегда умный человек, Марик. Воинов не щадят. Щадят пленных, женщин, стариков, детей. А воинов берегут.
– Почему ты возишься со мной? – вспомнил и повторил вопрос Марик.
– Это ты возишься со мной, – не согласился Лируд. – А я делаю то, что должен. И стараюсь делать это хорошо. И отец твой поступал точно так же, поэтому и навещал тебя редко, и ты должен поступать точно так же. Делай то, что должен. И делай хорошо.
– Но что я должен? – в отчаянии воскликнул Марик.
– А вот это самое сложное, – вздохнул Лируд. – Некоторые до смерти так и не смогли этого понять. Поэтому доставай-ка свиток с текстом о свойствах камней, да и не слишком сетуй на память: уверяю тебя, те зернышки, что я разбрасываю, обязательно всходят. Да поторопись – год еще остался, не больше. И снимай порты. Надо покрыть татуировкой еще и ноги, чтобы они не подводили тебя.
Год прошел, как один день пролетел. Весна накатила стремительнее, чем обычно. Аилле едва растопил снег, а на взгорках уже поднялась трава, да и деревья поторопились одеться в светло-зеленую дымку клейкой листвы. В чащах засвистели птицы, а на перекатах речушки засверкала чешуей нерестящаяся рыба. Багди наконец уговорился со старейшинами и колдуном насчет обряда, приказал обновить краску на тотемных столбах, и точно в полдень колдун собственноручно запалил заранее сложенный костер. Вся деревня собралась посмотреть на обряд: и стар и млад окружили поляну плотным кольцом. Даже дети замерли неподвижно, младенцы притихли на руках. Четыре года не было посвящений в деревне – с той самой зимы, как сайды осквернили священный храм, оттого и выстроились теперь у столбов четыре десятка молодых баль, готовых стать воинами. За спиной каждого стоял или отец, или дед, или мать. В руках старших тускло сверкали мечи. Только за спиной Марика никого не было. Да и сам он стоял в стороне – ни среди толпы, ни среди ровесников, – одетый в обычную куртку и холщовые порты, а не в кожаные штаны и праздничную рубаху до колен. Кое-кто из его недавних соперников косился на него с торжеством, но Марик не замечал этого. Он стер с лица свою обычную улыбку и просто смотрел на огонь.