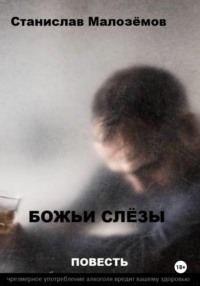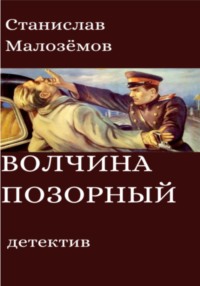полная версия
полная версияВсю жизнь я верил только в электричество
– Всё! – заключил батя. – Я готов. Обновлен и оздоровлен. В парную больше не иду. Пошел мыться.
– Я тебя помою мочалкой, Борис Палыч, – сказал банщик. – Посиди просто. Охолони покудова. А я пока малого твоего попарю, да брательника.
Я попытался посидеть на втором полочке, повыше, там, где жарче. И уже было привыкать стал. Но тут опять какой-то хладнокровный с самого верха спустился к бочке и полный двухлитровый черпак воды швырнул в каменку. Многие мужики обматерили его с ног до головы, соскочили и выбежали из парной, толкаясь в дверях. Я убегать не стал, но сполз на пол и снова сел на четвереньки. И было мне не ясно – получаю я сейчас удовольствие от парной или просто терплю из последних сил обжигающий до нутра раскалённый мокрый и тяжелый воздух. Или мне просто никак невозможно было показать свою слабину Шурику, усевшемуся удобно на третьем ярусе и с удовольствием на лице млевшему от беснующейся там жары. Он покайфовал там минут пять и легким пружинистым шагом спустился вниз.
– Сеанс окончен, Славка! – Он игриво станцевал на полу вприсядку, насвистывая «эх, яблочко!», и пошел в моечную. Я согнулся поближе головой к полу, где было прохладнее и в таком виде выскочил в общий зал.
Иваныч уже прошелся несколько раз двумя вениками по батином туловищу и уже натирал его мочалкой, пропитанной мылом с дёгтем. На отцовском лице было изображено блаженство волшебного, гипнотического состояния. Это когда душа парила над его намыленным телом, на несколько секунд влетала обратно, снова выпрыгивала, любуясь сверху и телом батиным, и работой мастера. Наконец она вернулась в туловище насовсем, когда Иваныч несколько шаек вылил на отца и похлопал его по спине, что означало конец священнодейства.
Меня он сразу же уложил пузом на стол и стал аккуратно гладить слева направо березовым веником, потом постучал по всему телу посильнее и поменял веник. Передать словами чувство от обработки тела можжевельником нельзя в принципе. Ни слов таких нет, да и само чувство доходило до полного бесчувствия. Густой, маслянистый аромат веника идеально сочетался с его жесткостью, колючестью и обжигающей прохладой. Непередаваемое ощущение. Потом Иваныч помыл меня с мылом и мочалкой. Я сто раз делал это сам, но так, как массировал меня мыльной мочалкой банщик, я бы никогда не смог сам. После веников и мытья мы с отцом пошли в раздевалку такой нетвердой походкой, будто шли по палубе корабля, идущего на волну шестибалльного шторма. А Шурик залёг под веник сначала, а потом под мочалку мыльную. Но блаженства его мы не видели. Сухой банщик открыл нам все три шкафчика. Мы достали простыни, завернулись в них и начали медленно остывать и возвращаться с небес на землю.
– Па!– спросил я, с трудом ворочая языком. – А почему он парил только нас троих? И мыл нас как детишек сопливых? А другие и парились сами вениками, и мылись самостоятельно. Мы что, особенные?
– Ты, Славка, даже думать так не моги, не то чтоб сдуру вслух кому сказал такое! Никакие мы не особенные. Мы обыкновенные люди. Как все. Я с ним договорился ещё позавчера. Заходил специально перед тем как картошку ехать копать. Заплатил в кассу подороже. За дополнительные услуги.
– Ему надо было заплатить. Кассирша, что ли, как за детишками за нами в бане ухаживала? – мне стало обидно за Иваныча.
– Не берет он денег, – отец начал одеваться. – Думаю, что правильно делает. Душу бережет. Совесть свою уважает. Ну, а тебе-то как? Понравилась сегодня банька?
– Остались бы силы, ещё раз сейчас сходил бы.
Мне стало смешно. Сил у меня никаких не осталось. Было хорошо, тепло, приятно и чувствовал я себя настолько расслабленно, что не очень хорошо представлял себе, как доплетусь до дома.
Тут и Шурик пришел в раздевалку. Он был розовый, блестящий и по лицу его гуляла улыбка, которую и глупой назвать неловко, и умной совестно. Он плюхнулся на сиденье кожаное перед шкафчиком и сказал всего одно слово.
– Охренеть!
Мы согласно кивнули с отцом разом, поскольку устами Шурика так образно и сочно глаголила истинная истина.
Пока брат батин отдыхал от банного отдыха, мы с отцом пошли в зал занимать очередь в буфет и поджидать свободные места за низкими круглыми столиками, вокруг которых на мягких набивных кожаных полукреслах приходили в себя и возвращались из райской в обычную жизнь уже давно помывшиеся мужчины, женщины и разнокалиберные дети. Никто никогда не уходил после бани домой, не задержавшись на час-другой в буфетном зале. Слева в нём сосредоточилась банная пивнушка, вмещавшая человек двадцать. А справа был буфет с разным лимонадом, квасом, соками, мороженым, пирожками и бутербродами с разной колбасой. Туда мы и стояли в очереди. Наконец один столик освободился и батя пошел держать три места. Пришел Шурик, когда до лимонада с пирожными оставалось всего три человека. Он дал мне пять рублей. Сказал, чтобы я брал всё, на что упадет взгляд. И тоже сел за столик, достал расческу, зеркальце и занялся своим внешним обновленным видом. Я накупил всего много. По три бутылки разного лимонада каждому, пирожных по два на нос, соку томатного три стакана и по два пломбира. Носил все это бегом на дрожащих пока после всех приятных экзекуций ногах.
– Да ты уже садись, орёл. – улыбался отец. – Куда столько набрал-то? Ну, съедим. Выпьем. А как пойдем потом? Мы уже и так почти недвижимое имущество.
Я сел и стал открывать бутылки. Сначала всего три. И вот пока я это делал, вспоминая детали банного удовольствия, Шурик мой дорогой добил меня контрольным выстрелом из своего необъятного портфеля. Он сунул в глубину его огромную свою ладонь и достал в серой пропитавшейся маслом бумаге … Нет, вы все сейчас упадёте в обморок! Гарантирую! Потому что в бумаге этой была моя любимая, обожаемая, бесценная свежая халва.
– Ё! – одной буквой выразил я все свои потрясающие эмоции и морда моя, похоже, заимела такой идиотский от радости вид, что Шурик испугался и немедленно обосновал появление халвы.
– Мы же договорились вчера, что победитель социалистического соревнования на картошке получает приз: килограмм халвы помимо лимонада. Помнишь или отшибла тебе банька память?
– Ё!– ещё раз вылетела из меня буря восторга. – Конечно, помню! А я разве выиграл?
– А кто ж по-твоему? – засмеялся батя. – Мы вон скопытились. Упали, силы ушли из нас. За тобой же не угонишься. Так что, победил ты. Тебе и халва!
– А ножик есть? – спросил я машинально.
– Вот, – Шурик протянул мне большой складной нож, совсем не похожий на перочинный.
Я взял нож, тщательно отмерил и вонзил его ровно в то место, где кусок делится на две одинаковых доли. Разрезал легко. Вышло два килограммовых куска.
– Победителю, договаривались мы, будет приз – один килограмм халвы, – Второй кусок, разорвав напополам бумагу, я подвинул между отцом и Шуриком.
Они оба привстали и молча пожали мне руку. Сели и Шурик сказал тихо, чтобы я не слышал. Но я-то слышал. Слух у меня – во какой!
– Мужчина растет, – сказал брат батин.
– Поживём – увидим, – Отец разлил в стаканы лимонад и откусил от пирожного. – Но, похоже, ты, Шурец, прав. Оно и нормально.
И мы стали есть, пить, разговаривать про всякую чепуху. Не помню о чем. Но было весело.
И через два часа мы опустошили стол, да пошли домой.
– Заночую у вас? – Спросил отца Шурик. – Во Владимировку уже не доеду. Устал. Да и поздно.
– Останься! – Закричал я. – Поболтаем ещё. Ты мне про электричество расскажешь. А то я путаю эти вольты, ватты, амперы и омы.
– Конечно, оставайся. Куда сейчас ехать? Поздно уже.
И мы пошли молча. Каждый о своем думал.
Я думал о том, что подслушал, когда Шурик шептался с отцом за столом в бане. Может, и вправду я потихоньку превращаюсь из мальчика в мужчину?
Не будут же взрослые такими серьёзными словами попусту трепаться.
И стало мне так хорошо! Как бывает только тогда, когда человек счастлив.
А я-то был не просто счастлив.
Я был счастливее всех. Точно!
Глава двадцать пятая
Дольше всего дни тянутся всего два раза за весь год. Первый – это когда заклинивает последние две недели перед концом учебного года. Я даже у физика нашего Бориса Дмитриевича спросил: – А может такое быть, чтобы в сутках так и оставалось двадцать четыре часа, а время всё равно затормозилось? Медленнее стало от утра к ночи двигаться. Вот в мае такое бывает. В самом конце. Вот прямо нутром чувствуешь, что не так как-то оно идёт. Думаешь при этом медленнее, ешь врастяжку, от дома до школы идешь как будто часа три. Что за явление такое физическое? Возможно, ещё необъясненное наукой.
– Бывает такое, да, – физик сел на учительский стол. Он всегда туда присаживался, когда в голове у него закручивался оригинальный ответ. – Причем именно в мае, верно. Когда до каникул пара недель остаётся. У меня такая же штука. Один в один. Вы мне за учебный год так осточертеваете, такая у меня грусть от вас, недоумков, что я этих каникул жду больше, чем зарплату последнюю. А она не просто получка, а с премиальными за год безупречной работы над вашими безмозглыми умами и убогими знаниями.
Есть такой закон в физике. Первый закон Ньютона. Его еще называют закон инерции. Он так объясняет: "Всякое тело пребывает в состоянии покоя или прямолинейного равномерного движения до тех пор, пока действующие на него силы не изменят это состояние". Вот на нас с вами сейчас действует сила огромного желания побыстрее соскочить в отпуск. Это я про себя. А вас вышибает из состояния покоя нетерпячка поскорее свалить на каникулы. Поэтому и сами мы, и в головах у нас с вами время движется не прямолинейно и не равномерно. Очень сильно давит на нас желание побыстрее друг от друга подальше разбежаться до сентября. Я понятно объяснил?
Никто, конечно, вместе со мной ничего толком не понял. Но было ясно, что я не ошибся, раз уж и у физика время замедлилось.
Второй раз затормаживает время примерно за месяц до дня рождения. Тут такое грандиозное подгребает событие: на год приблизиться к взрослому возрасту. А тянется перед ним время как больное на все ноги. Как не интересное кино, с которого не уходишь от жадности. Деньги заплатил ведь. И сидишь, ждешь, перебирая ногами, когда наконец появятся два слова: «Конец фильма».
Так вот, школьная канитель только потянулась полтора месяца назад в шестьдесят втором. А день рождения у меня девятнадцатого октября. Тринадцать лет близилось. Но так медленно, будто кто-то очень хотел, чтобы я не рос, а так и замер шкетом двенадцатилетним. И этот кто-то силу и власть над природой имел могучую. Явно не простой человек. Колдун или Господь бог. Потому, что я в него не сильно верил. Вот он и наказывал меня за недоверие. Время мне замедлял перед каждым днём рождения. А как я его ждал всегда. Не из-за подарков. А только ради того, чтобы мозг отметил: «Всё, ты ещё теснее приблизился к взрослым. Скоро уже будешь в их рядах. Скоро!»
Ну, скоро – не скоро, а неделя оставалась до девятнадцатого.
***
Октябрь шестьдесят второго в Кустанае был тёплым. Бабье лето, что ли, затянулось? Или природа просто растерялась, перепутала тепло с прохладой и не знала пока, как всё расставить по местам.
А мы в тёплый денёк после уроков сидели с дружками во дворе нашем возле палисадника, где за штакетником донашивала свои желтые листья наша с бабушкой березка, бархатцы, цветущие обычно до снега, и бессмертники. Почти картонные цветы, крепкие и красивые. Говорили мы с пацанами о высоком. О космосе, который открылся всем внезапно и стал не просто модным, а родным и близким. Так стало после четвертого октября пятьдесят седьмого года. Вот этот день мы ни с того, ни с сего вдруг и стали вспоминать. А может потому, что и сейчас шел октябрь. Вот и вспомнилось.
– Мы же тогда как раз во дворе у тебя в лапту играли, – напряг память Жук. – А мама твоя на крыльцо вышла и крикнула, чтобы мы шли в квартиру радио слушать. Она сильно волновалась и говорила дольше, но не очень понятно. Мы как- то всё же догадались, что по радио сообщают постоянно о невероятном и запредельном для ума нашего событии. Ну, и побежали поближе к громкоговорителю.
Нос задумался:– А, точно, так и было. – Поднялись, слушаем. Сперва музыка играла. А потом Левитан сказал, что СССР запустил впервые в истории человечества искусственный спутник Земли на орбиту в космическом пространстве.
– Точно,– подхватил Жердь .– Мы тогда совсем сопляками были и ни черта это нас не впечатлило. Чего-то там куда -то… Космос какой-то. Спутник.
– Ну да, – подтвердил я. – Сперва не поняли. А потом отец с работы пришел и всем нам рассказал, что, собственно, произошло. Что космос – это неведомое и неизученное пространство без конца и края. Что там воздуха нет вообще. Вот туда на ракете подняли этот спутник и выпустили на волю. И он без моторов и топлива, сам по себе, со страшной скоростью, какой реактивным даже самолётам не снилась, стал летать вокруг Земли. И сигналы подавать типа «бип-бип-бип». Чтобы весь мир по радио слышал.
– А потом Левитан ещё сказал, что все люди на земле ночью могут его увидеть. Помните? – оживился Жук.
Нос почесал затылок и вспомнил: – Блин, мы же тогда три ночи подряд не спали. Все. И родители. И соседи. Да весь город не спал. И в других городах во всем мире, наверное, никто не спал. Ждали когда над ними спутник пролетит.
– И мы где-то шестого числа его увидели, – я тоже поднял из глубины мозгов воспоминание о той ночи.
Это было действительно сверхестественное событие. Набился полный двор. Стояли часов с девяти. Уже стемнело. Мужики наши много курили, женщины грызли семечки, а мелкота бегала между ними, играла в догонялки. Чтобы согреться. В пятьдесят седьмом в начале октября почти холодно было ночью. Вдруг сначала заорал один мужик. Вижу, мол. Летит слева направо. И стал пальцем в небо тыкать. Показывать. Но никто пальца его в темноте, конечно, не видел. Все просто стали смотреть вверх налево, спрашивая стоящих рядом: видят они или нет. Сначала никто и не видел. Шумели, кричали: «Ну, где, где?» И вдруг стало тихо как на похоронах. Увидели все сразу. Вверху прямо над нами пролетала звезда. Мы все много раз видели, как падают звёзды. Они валились сверху вниз, рисуя яркий след. Они пропадали за два-три мгновения. А эта летела медленнее падающих, но быстрее всего летающего, ездящего, бегающего в сто раз. Так быстро не летало ничто. Никто из нас ничего похожего не видел. И тишина, возникшая в нашем дворе и во всем городе, имела причиной изумление и потрясение. Народ даже дышать на пару минут перестал от чудного зрелища – летящей от горизонта к горизонту звезды по имени «искусственный спутник Земли».
А потом вдруг что-то людей расколдовало и они начали во всю дурь кричать «Ура!», бегать по двору, свистеть и улюлюкать. Женщины визжали радостно и хохотали, повторяя примерно такие слова: – «Ну, это же надо!» и «Господи, помилуй!». Некоторые крестились. Мы, мелочь пузатая, радовались бурно и бессознательно. Махали вверх руками, подпрыгивали и бежали в ту сторону, куда он летел. Упирались в забор, отскакивали и снова во все глаза глазели на чудо, сопровождаемое сильнейшим гулом, несущимся со всего города. Это кричали радостно практически все жители Кустаная. Это было невообразимое тогда событие, неизмеримое никакими масштабами, которое и сегодня стоит у меня перед глазами. Как будто кто-то прокручивает мне кинопленку из того времени о той странной, слегка жуткой и потрясающей небывалым чудом холодной октябрьской ночи.
Ну, как ни измывалось время надо мной, а куда ему в итоге деться-то? Всё одно, надо когда-то приходить по делу. И вот девятнадцатого октября шестьдесят второго вскочил я с кровати в семь утра уже «стариком». Я и родился в семь. Выскочил на крыльцо уже мужичком раннеспелым. А вокруг, блин, всё так же. Мне ещё вчера думалось, что вот выйду во двор утром и глядеть-то буду на жизнь взрослым взглядом. Да и мир на меня тоже поменяет точку зрения. Не пентюх же я теперь двенадцатилетний, а мужчина. Бриться скоро начну. А, может, уже и с завтрашнего дня. Ну, то что надо сегодня уже на взрослую одежду переключаться – это само собой.
– Бабуля! – крикнул я во двор, в открытые двери сарая. – А где родители мои?
Баба Стюра выглянула из сарая. В руках у неё был напильник по дереву. Драчёвый. То есть, специальный. Грубую работу делать. Стачивать большой слой с деревяшки.
Отец у нас был человеком интеллигентным, самоходом вышедшим в большие люди из задрипанных деревенских. Это в те годы не часто и не со всеми случалось. Поэтому копать картошку он ещё брался. Как-никак – работа с землёй. Сами деревенские бы его не поняли, откажись он сдуру и от исконно священного сельского дела. А вот молоток уже в руки не брал, пилу тоже, стенка облупилась в квартире, не стал штукатурить, хотя умел. Шурик отштукатурил, бабушка побелила. Шурик же простой электрик. Ему любая чёрная работа авторитет не сшибала. Бабушка – она хоть и аристократка польская в прошлом, а сегодня ровня всем стандартным провинциальным советским бабулькам, жившим незаметной жизнью.
Она с утра распухшую крышку от бочки обтачивала напильником. Посолила капусту, а крышку передержала в воде. Щели-то сошлись, а края стали шире и в бочку крышка не лезла, чтобы камень – гнёт на неё поместить, капусту прижать. Отцу такая работа, какую делала аристократка, была теперь не по статусу. Корреспондент партийной газеты в те времена был голубой крови и белой кости, из какого бы яйца он ни вылупился. Одевались корреспонденты не легкомысленно, как простые горожане, а «под обком». В стиле начальников из обкома, но чуть проще, чтобы не перегнуть палку. А от чёрной работы ребята, выбившиеся в отдельную, высшую касту, уходили моментально. У них был один инструмент на все случаи исправления житейских поломок. Голова. А в ней – ум.
И постороннее, и знакомые да родные относились к этому положительно. Борис Павлович – персона умственного труда. Это ценилось, пожалуй, чрезмерно. Уважалось. Ну, естественно, сами умственно трудящиеся быстро привыкали к своей отдельности и потихоньку менялись, сами того не ведая, не к лучшему. Не обошла дьявольская кара гордыней и моего батю, Он только за несколько лет до смерти снова стал простым и снова доброжелательным, даже сентиментальным, жалостливым человеком. Но жизнь его уже плавилась, таяла, испарялась. Он ушел из семьи почти стариком и ни я, ни Шурик, никто не смог спасти его от водки и от смерти в семьдесят пять лет. Я забрал маму в Алма-Ату и он умер при полном безлюдьи, уйдя ото всех. Нашли его мёртвым в своей квартире соседи. Случайно и только через неделю.
Но это всё жуткое и направляемое злой чьей-то неукротимой волей произошло гораздо позже того времени и той эпохи, о которой я пишу. И пусть простит меня покойная душа его и силы небесные за это отступление, которого, возможно, делать было и не надо. Но вычеркнуть написанное нет сил моих.
– А они, внучек, не успели тебя с утра поздравить. Вчера им сказали, что с утра будут какие-то митинги у каждого на работе, а в одиннадцать – общегородской собирают митинг на площади возле горкома партии. Что-то серьёзное в мире случилось. Как бы не война, будь она неладна. А я тебя поздравляю, мой золотой. Пойдём, я подарок тебе подарю свой.
Мы пошли в комнату и баба Стюра достала из шкафа кожаные перчатки для взрослых, шарф, такой же, как у отца и ботинки на меху, высокие, с каблуком и металлическими набойками. Такие носили мужчины лет двадцати пяти.
Ну, вот как она догадалась, о чём я мечтал? Ведь никому ничего не заказывал и мечты мои о взрослой одежде были тайными. Даже лучший друг Жердь не знал ничего.
– Это к зиме всё, внучек, – бабушка аккуратно усадила меня, обалдевшего, на стул и надела мне на одну ногу ботинок. – Как раз впору.
Очень замечательно. Зимой будет жарче, чем в валенках.
Подошли и перчатки, а шарф не то, чтобы просто меня украсил. В нём я выглядел ну, прямо совсем мужчиной. Как отец.
Целовал я бабушку, обнимал и радовался так неумеренно, что даже, по-моему, её испугал слегка.
– Ну, будет тебе, – засмеялась она, но от меня отодвинулась. – Иди погуляй пока, а на три часа обед намечен уже. Я к тёте Оле готовить пойду, а ты друзей всех своих пригласи. Да наши приедут из Владимировки, Панна с Виктором да Генкой придут. И мамина подружка Рита. Иди пока, с друзьями поболтай. От школы вас сегодня освободили четверых. Мама директора уговорила. Так что дома они. Ступай.
– Ура! – провозгласил я на ходу, слетая через две ступеньки с крыльца. -Отдыхаем сегодня! Вот это праздник! Никаких подарков больше не надо.
И я побежал к Жердю, который как знал сегодняшнее расписание действий: сидел на скамейке возле калитки. И держал в руках фонарик-жучок. Ручку снизу нажимаешь-отпускаешь-нажимаешь. Лампочка горит, фонарик жужжит.
– С праздником! – бодро сказал Жердь и сунул мне в руки фонарик. – Дарю. Новый.
– Будем теперь спокойно по темнякам ходить. – Обрадовался я. У самого Жердя фонарика не было. – Мы ж по вечерам всегда вместе, да?
– Мы вообще всегда вместе, – Жердь пожал мне руку. – Поздравляю! Да всегда вместе и будем.
– Ну, это-то само-собой! – я обнял Жердя за плечо и мы пошли к Носу. День рождения начался.
Нос встретил меня так, будто я уезжал лет на двадцать в очень опасное путешествие и чудом остался живым. Он кинулся мне на шею с истерическими причитаниями:
– Ах, как сильно ты постарел, друг мой вечный, Чарли! Седина покрыла мудрое твоё чело, зубы выпали, ноги дрожат, но горб старческий тебя украшает и облагораживает!
– Вот чего ты несёшь, Нос? – Жердь снял с моей шеи нашего друга и поставил его ровно. – Где подарок? Давай, дари, да пошли к Жуку. Берём его и чешем в центр. Надо мороженного поесть, газировки попить, в кино сходить в «Казахстан». По-солидному. На фильм для взрослых. Старик нас проведёт. Ему тринадцать уже, а мы, сопляки двенадцатилетние, прицепом пойдем за ним. Вроде как дети мы его.
– От второго брака. – Очень смешно сострил Нос, пошел в комнату и залез под кровать. Задница его двигалась вместе с руками, хотя рук видно не было. Но по движению было ясно, что он пытается что-то найти. Мы вышли на улицу и закурили вольно. Дома у Носа никого не было. Все сегодня ушли тоже почему-то раньше.
– Митинги какие-то у всех, – я сделал страшное лицо. – Я слышал, что вроде как война началась опять.
– На нас опять напали? – ужаснулся Жердь. – Этого прощать нельзя. Все пойдем добровольцами. Стрелять умеем. Портянки наматываем за пятнадцать секунд. А главное, у меня такая злость к фашистам! Тьфу, блин!
– Надо узнать сначала точно, – я затянулся папиросой поглубже и стал мыслить. – Ну, ещё неизвестно пока – война или нет. Если бы война, то Левитану чего скрывать? Сказал бы. А, может, и говорить-то уже нечего. У нас же атомные бомбы тоже есть. Как у Америки. Только побольше и помощнее. Ракет полно всяких. Прицепят по бомбе к ракетам. Думаю, штук пять хватит, чтобы врага больше не было. Ну, это займет не годы, как в прошлую войну. Никто даже переодеваться не будет в полевую форму. Шуганут пяток ракет с подвешенными атомными бомбами и через пятнадцать минут никакой тебе больше войны. Опять мир и покой.
– А у нас бомбы-то пошибче будут американских. Раз в десять. И ракеты, сами знаете, поядрёнее. Такую, на какой Гагарин летал, пошлют, так от врага только запись в истории останется. Мол, была когда-то такая сволочная страна. Агрессор, блин, – Жердь с удовольствием засмеялся ехидной манерой. – На наш СССР сейчас сдуру только сильно пьяный король или президент могут напасть. Когда пьяный, из башки вся память улетает. Могут забыть про несчастный конец Великого Рейха. Тут им и хана. Сегодня наши бомбы, атомные да водородные, долетят так быстро, что у них там и мяу не успеют сказать. Команду «прячьтесь, куда сможете» выдать не успеют. Мы и тогда были непобедимой страной, а сейчас только псих ненормальный решится на нас гавкнуть или просто посмотреть косо. Вот так я думаю.
Пришел Нос. Он не слышал, о чем мы вели речь, но согласился с ходу. Потому как знал точно, что мы никогда глупостей и неправильностей не излагаем вслух.
– Правильно думаешь! – похвалил он Жердя. А после этого вытащил из-за спины коробку и подал её мне. – Поздравляю! Вот тебе электролобзик. Пилит фигуры хоть на каком материале. Кроме железа. Доску, и ту берет. Вещь для взрослых. Детишки вручную на фанере выпиливают, а ты можешь хоть на толстой доске любую красоту выпилить. В десять раз быстрее, чем ручным.